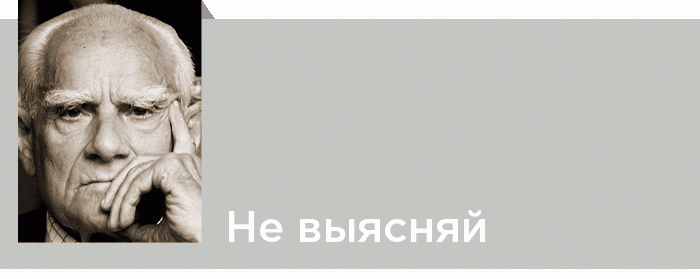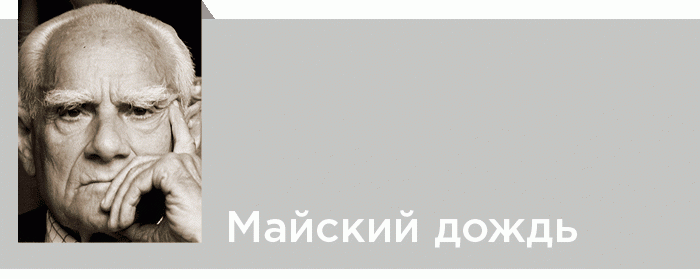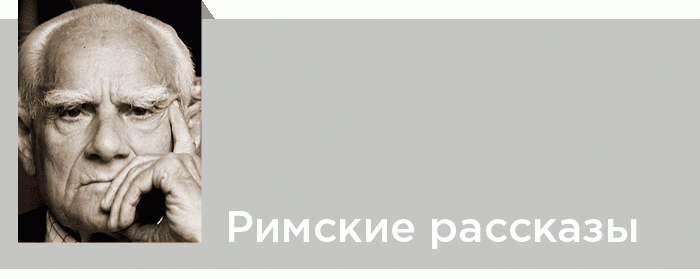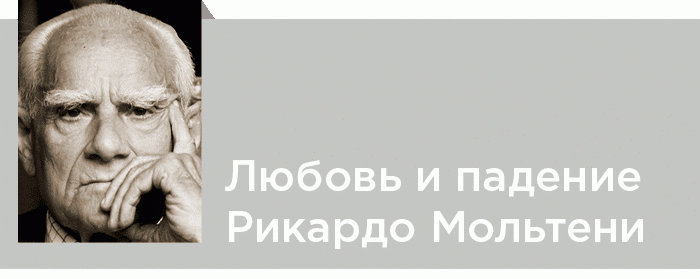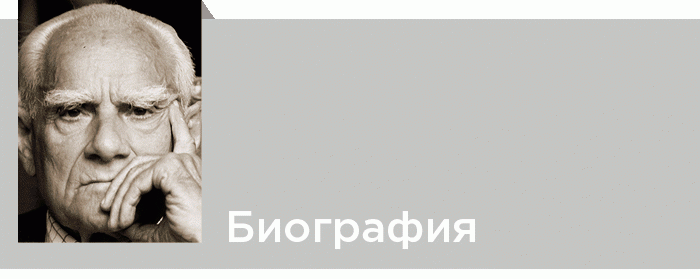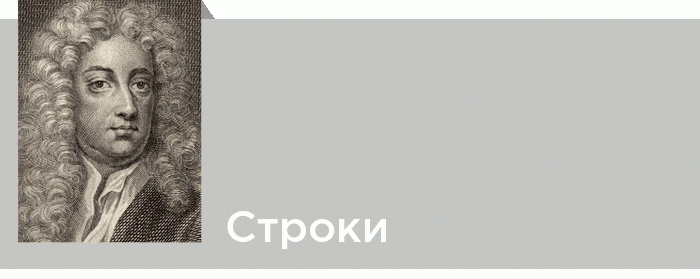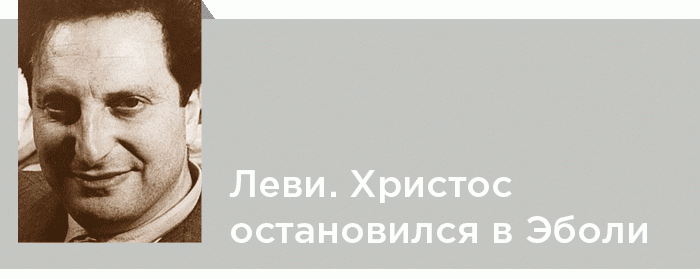Альберто Моравиа. Гроза Рима
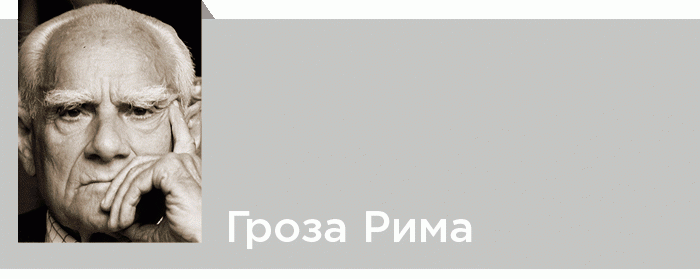
Мне так хотелось иметь новую пару ботинок, что в то лето они мне даже частенько снились — там, в подвале, на койке, за которую я платил швейцару по сто лир за ночь.
Не то чтобы я ходил совсем босиком; но обувь, которую я носил, досталась мне еще от американцев — это были легкие полуботинки, каблуки у них совсем сбились, один башмак лопнул у самого мизинца, а другой так расшлепался, что соскакивал с ноги и походил на ночную туфлю.
Торгуя кое-какой мелочью на черном рынке, разнося пакеты и бегая на посылках, я в общем не голодал, но денег на ботинки — как-никак несколько тысяч лир — мне прикопить никак не удавалось. Эти ботинки стали для меня каким-то наваждением, они, как черная точка, вечно маячили у меня перед глазами, куда ни пойду. Мне казалось, что без новых ботинок я просто больше жить не могу; иной раз я приходил от этого в такое уныние, что даже подумывал о самоубийстве. Шагая по улицам, я только и делал, что смотрел людям на ноги или часами торчал у витрин обувных магазинов, разглядывая ботинки, сравнивая цены, фасоны, цвет, мысленно подбирая себе подходящую пару.
В подвале, где я ночевал, я свел знакомство с неким Лоруссо, таким же бездомным, как и я. Это был молодой парень, белокурый и кудрявый, пониже меня ростом. И я стал ему горько завидовать только потому, что он, неведомо каким путем, раздобыл себе действительно чудесные ботинки: высокие, со шнуровкой, из толстой кожи, на двойной подошве с подковками, какие носят американские офицеры. Эти ботинки были велики Лоруссо, и он каждый день напихивал в них газеты, чтобы они не соскакивали с ноги. А я был покрупнее его, и они пришлись бы мне как раз впору. Я знал, что у Лоруссо тоже было свое заветное желание: он умел играть на свирели — потому что до приезда в Рим жил в горах с пастухами — и мечтал купить себе флейту. Он говорил, что с его внешностью — он был маленький, белокурый, голубоглазый, в спортивной куртке и американских штанах, заправленных в американские ботинки — он может ходить с флейтой по ресторанам и заработает много денег: будет играть на флейте пастушьи песни и всякие другие, которым научился, пока был на побегушках у американцев. Но флейта стоила дорого, пожалуй, подороже ботинок, а у Лоруссо, который, как и я, подрабатывал чем придется, таких денег не было. Вот он и мечтал о флейте, как я о ботинках; это нас и свело: сначала я ему говорил про ботинки, а потом он мне про флейту. Но все это были одни разговоры, — ни флейты, ни ботинок мы добыть не могли.
В конце концов мы по обоюдному согласию пришли к одному решению; собственно, я первый набрел на эту мысль, но Лоруссо сейчас же одобрил ее, словно он всю жизнь только об этом и думал. Мы решили пойти в какое-нибудь немноголюдное место, где гуляют влюбленные, например на Виллу Боргезе, и напасть на одну из тех парочек, что уединяются, чтобы на свободе обниматься и чмокаться. Тут я с удивлением обнаружил, что мой Лоруссо не прочь пойти на преступление; вот уж никогда бы этого не подумал, глядя на его лицо невинного пастушка. Он сейчас же с воодушевлением стал говорить, что выведет в расход и мужчину и женщину; он с таким смаком повторял это выражение — «выведу в расход», которое невесть где услышал, словно уже предвкушал момент, когда он это действительно сделает. Раз даже, чтобы показать, как это он будет с ними расправляться, он кинулся на меня и, схватив за горло, сделал вид, будто бьет по голове тяжелым гаечным ключом:
— Вот я их так… и так… и так… пока не выведу в расход обоих.
А я человек очень нервный, потому что мне пришлось сутки просидеть в подвале под развалинами дома, в который попала бомба. С тех пор у меня то и дело все лицо дергается и из-за любого пустяка я выхожу из себя. Я пихнул Лоруссо так, что он отлетел к стенке подвала, и говорю ему:
— Руки прочь… Если ты меня еще тронешь, честное слово, возьму этот ключ и на самом деле тебя выведу в расход.
Потом я успокоился и стал ему объяснять:
— Вот видишь, какой ты дурень!.. Ничего не понимаешь, тупица… Разве ты не знаешь, что те парочки, что занимаются любовью под открытым небом, скрываются от людей? Иначе они бы все это дома проделывали… А раз так, то, если мы их оберем, они жаловаться не пойдут. Будут бояться, что муж или мамаша проведают тогда про их любовь… А если ты их прикончишь, то об этом напишут в газетах, все узнают, и полиция в конце концов тебя сцапает… Надо прикинуться полицейскими агентами в штатском: вы, мол, что тут делаете? Целуетесь? А вы знаете, что это запрещено? Нарушаете правила… И под видом штрафа заберем у них денежки и уберемся восвояси.
Лоруссо слушал меня, разинув рот и выпучив свои голубые глаза; он тупой малый: глаза у него как стеклянные, а волосы растут низко, с середины лба. Наконец он сказал:
— Да, но зато… покойник молчит — живому спокойней.
Но сказал он это заученно, вроде как свое: «выведу в расход», которое повторял, как попугай; кто его знает, где он подхватил такую пословицу.
— Не будь дураком, — отвечаю я ему. — Делай то, что я тебе говорю, и помалкивай.
На этот раз он больше не протестовал, и таким образом дело было решено.
В назначенный день мы отправились вечером на Виллу Боргезе. Лоруссо положил в карман своей куртки гаечный ключ, а у меня был с собой немецкий пистолет, который мне поручили продать, но я пока не нашел покупателя. Из предосторожности я разрядил его, рассудив так: или наш налет удастся сразу, или же надо будет стрелять, а в таком случае лучше от этого дела совсем отказаться. Мы пошли по аллее, где на каждой скамейке сидела парочка; но здесь горели фонари, и было много прохожих, как на улице. Мы свернули в аллею, которая ведет на Пинчо. Тут самый темный уголок во всем парке, и парочки всегда его предпочитают. К тому же отсюда очень близко до площади дель Пополо.
На Пинчо под деревьями было действительно очень темно, фонарей горело мало, а парочек на скамейках — просто не счесть. На некоторых скамьях сидели даже по две парочки, и каждая устраивалась по-своему, беззастенчиво обнимаясь и целуясь на виду у другой, которая проделывала то же самое.
Тут у Лоруссо пропала охота «выводить в расход» людей. Настроение у него легко менялось — такой уж он был человек. Увидев все эти целующиеся парочки, он стал вздыхать, глаза у него заблестели, на лице отразилась зависть.
— Я ведь тоже молод, — говорит, — и когда я вижу всех этих влюбленных, которые тут целуются, то, скажу тебе правду, — будь я не в Риме, а в деревне, припугнул бы я парня, чтобы он убрался, а девушке сказал бы: «Красотка… пойдем со мной, красотка, я тебя не обижу; иди, красотка, я твой Томмазино».
Он шел посреди аллеи, поодаль от меня, и оборачивался на каждую бесстыжую парочку, облизывая губы своим толстым красным языком, ну совсем как телок; он и меня заставлял смотреть, как мужчины лезли женщинам под блузки, а те прижимались к своим кавалерам и позволяли им давать рукам волю.
— Какой же ты кретин, — говорю я ему. — Хочешь ты, чтобы у тебя была флейта?
А он отвечает, оборачиваясь, чтобы взглянуть на очередную парочку:
— Сейчас я, по правде сказать, хочу девушку… какую-нибудь… хоть вот эту…
— В таком случае нечего было тебе брать гаечный ключ и идти со мной, говорю.
А он мне:
— Да, пожалуй, лучше и не стоило бы.
Но он говорил так по легкомыслию. У него мысли все время прыгали с одного на другое. Увидел он на Пинчо несколько голых женских ног, несколько поцелуев и объятий, вот ему и достаточно, чтоб обмирать от любовного желания. Ну, а меня отвлечь не так-то легко, и уж если я чего хочу, так буду добиваться именно этого, а не чего другого. Словом, я хотел иметь ботинки и твердо решил добыть их в этот же вечер во что бы то ни стало.
Мы немножко прошлись по Пинчо, по разным аллеям, от скамьи к скамье, мимо всех этих мраморных бюстов *, выстроенных в ряд под деревьями. Нам никак не удавалось набрести на подходящую парочку, потому что мы боялись, как бы нас не увидели с соседних скамеек. А Лоруссо тем временем снова отвлекся. Теперь он уж стал думать не о любви, а об этих мраморных бюстах.
* На холме Пинчо находится «Аллея Гарибальди», украшенная бюстами выдающихся итальянцев, в том числе соратников Гарибальди, и большим памятником самого Гарибальди на коне. — Прим. перев.
— Что это за статуи такие? — вдруг спрашивает он. — Кто они были?
— Видишь, какой ты неуч, — отвечаю я ему.- Это все великие люди… А раз они были великие люди, то им сделали памятники и поставили здесь…
Он подошел к одной статуе, посмотрел и говорит:
— Но ведь это женщина…
— Значит, и она была великая, — отвечаю.
Он, видно, не поверил и опять спрашивает:
— Что ж, если б я был великим человеком, мне тоже поставили бы статую?
— Конечно… но только ты-то никогда великим не будешь.
— Откуда ты знаешь? А вот я стану грозой Рима, выведу в расход кучу народу, газеты обо мне будут писать, а поймать никто не сможет… Тогда и мне поставят памятник.
Я засмеялся, хоть мне и не до смеха было: я знал, почему ему взбрело в голову стать грозой Рима — за день до этого мы с ним видели фильм, который назывался «Гроза Чикаго».
— Выводя людей в расход, великим не станешь, — говорю я ему. — Ну и темный же ты парень… Эти великие люди никого не убивали.
— А что же они делали?
— Ну, например, книги писали.
Его эти слова задели, потому что сам-то он был малограмотный. В конце концов он говорит:
— А все-таки хотелось бы мне, чтобы здесь была моя статуя… правда хотелось бы… Люди бы помнили тогда обо мне…
Я говорю:
— Ты просто болван. Мне стыдно за тебя… Да тебе и объяснять бесполезно… напрасный труд.
Ладно, походили мы туда-сюда и вышли на террасу Пинчо. Там стояло несколько машин, и люди, приехавшие в них, восхищались панорамой Рима. Мы тоже подошли к балюстраде: отсюда был виден весь Рим как на ладони, словно черный подгорелый торт с светлыми прожилками, каждая прожилка — улица. Луна не появлялась, но было довольно светло, и я показал Лоруссо купол собора Святого Петра, черневший на фоне звездного неба.
Он говорит:
— Подумай, если б я был грозой Рима, то все эти люди там в домах только обо мне бы и думали. А я, — и тут он сделал жест, словно грозил Риму, — я выходил бы каждую ночь и убивал кого-нибудь, и никто б меня не мог словить.
Я ему отвечаю:
— Да ты совсем спятил, тебе нельзя ходить в кино… В Америке у бандитов и автоматы и машины есть, у них своя организация… Эти люди работают серьезно. А ты кто такой? Пастушок-дурачок с гаечным ключом в кармане.
Он обиделся и примолк, а потом говорит:
— Красивая панорама, ничего не скажешь, красиво… Но в общем, я вижу, что сегодня вечером ничего не выйдет… Пойдем спать.
— Как это так? — спрашиваю.
— А так, что ты потерял охоту и трусишь.
Он всегда так поступал: отвлекался, думал о другом, а потом все сваливал на меня, обвиняя в трусости.
— Пойдем, болван, — говорю, — и я тебе покажу, какой я трус.
Мы пошли по очень темной аллее вдоль парапета, который выходит на улицу Муро Торто. Там тоже сидело на скамейках много парочек, но по разным причинам ничего сделать было невозможно, и я подал Лоруссо знак двигаться дальше. В одном месте, очень темном и пустынном, мы заприметили парочку, и я уж почти решился. Но в это время проехали двое конных полицейских, и влюбленные, боясь, что их увидят, ушли. Так, все время держась парапета, мы добрались до того склона Пинчо, который ведет к виадуку на Муро Торто. Тут стоит беседка, окруженная живой изгородью из лавров, переплетенных колючей проволокой. Но там с одной стороны есть деревянная калиточка, которая всегда отперта. Я знал эту беседку потому, что спал в ней иной раз, когда у меня не хватало денег даже на то, чтобы заплатить за койку швейцару. Это что-то вроде оранжереи; стеклянная стена выходит на виадук, а внутри сложены всякие садовые инструменты, цветочные горшки и те мраморные бюсты, которые идут на реставрацию, потому что у них ребята поотбивали носы или головы.
Мы подошли к парапету, Лоруссо уселся на него и закурил сигаретку. Он сидел, покачиваясь, болтая ногами, и курил с вызывающим видом; в этот момент он мне показался настолько противным, что у меня даже всерьез мелькнула мысль пихнуть его, да и сбросить вниз. Пролетел бы он метров пятьдесят и разбился, как яйцо, на мостовой Муро Торто; а я бы быстро сбежал туда и забрал эти чудесные ботинки, которые меня так соблазняли. Эта мысль просто привела меня в ярость, я тут же сообразил, что сам себя обманываю, будто так уж ненавижу Лоруссо, что способен убить его. А на самом деле истинной причиной были все те же проклятые ботинки; Лоруссо или кто другой — лишь бы в ботинках — для меня было все равно.
Может, я и вправду столкнул бы его, потому что очень устал от этого шатанья, а он мне действовал на нервы. Но, к счастью, в это время мимо, едва не задев нас, проскользнули две темные фигуры: влюбленная парочка. Они прошли совсем рядом со мной; мужчина был пониже своей дамы, а лиц я в темноте не разглядел. У калитки женщина как будто стала упираться, и я слышал, как он пробормотал:
— Зайдем сюда.
— Но здесь темно, — ответила она.
— Ну так что ж?
Словом, она уступила, они открыли калитку, вошли и исчезли за оградой.
Тогда я повернулся к Лоруссо и сказал:
— Вот то, что нам нужно… Они забрались в оранжерею, чтоб им не мешали… Теперь мы явимся, как агенты в штатском… изобразим, будто требуем штраф и заберем у них монету.
Лоруссо бросил сигаретку, спрыгнул с парапета и говорит:
— Хорошо, но только девушка будет моей.
Я даже растерялся.
— Ты что говоришь? — спрашиваю.
Он повторяет:
— Я эту девушку хочу. Не понимаешь? Хочу с ней дело иметь.
Тогда я понял и говорю:
— Да ты что, с ума сошел? Штатские агенты женщин не трогают.
А он:
— Ну, а мне что до этого?
Голос у него был странный, сдавленный какой-то, и хотя лица его я не видел, но по тону понял, что он говорит серьезно.
Я отвечаю решительно:
— В таком случае ничего не выйдет.
— Почему?
— Потому что потому. При мне женщин не трогают.
— А если я захочу?
— Я тебя изобью, клянусь богом.
Мы стояли носом к носу у парапета.
Он сказал:
— Ты трус!
А я сухо:
— А ты болван.
Тогда он в ярости от любовного желания, которое я мешал ему удовлетворить, заявляет вдруг:
— Ладно, я девушку не трону… но мужчину выведу в расход.
— Но зачем, кретин ты несчастный, зачем?
— А вот так: или девушку или мужчину.
А время шло, и я дрожал от нетерпения, потому что второго такого случая могло не представиться.
В конце концов я говорю:
— Ладно… если это нужно будет… Но ты его прикончишь, только если я сделаю вот так. — И провел рукой по лбу.
Неизвестно отчего, наверное просто по глупости своей, Лоруссо сразу успокоился и заявил, что он согласен.
Я заставил его повторить обещание ничего не предпринимать без моего знака, и тогда мы толкнули калитку и тоже вошли за ограду. В углу у парапета стоял маленький вагончик, в который днем впрягают ослика и катают ребят по аллеям Пинчо. В другом углу, между парапетом и калиткой, горел фонарь, свет которого проникал через стекла в оранжерею. Там виднелись цветочные горшки, расставленные в ряд по размеру, а за горшками — несколько мраморных бюстов прямо на земле; забавно они выглядели тут, такие белые и неподвижные, словно люди, которые вылезли из земли только по грудь. В первый момент я не увидел парочки, но потом понял, что они были в глубине оранжереи, там, куда не достигал луч фонаря. Они стояли в темном углу, но на девушку все же падало немного света, и я заметил ее по белой руке, которая во время поцелуя бессильно свисала на темном фоне платья.
Тогда я распахнул дверь со словами:
— Кто здесь? Что вы здесь делаете?
Девушка осталась в углу, вероятно надеясь, что ее не заметят, а мужчина решительно шагнул вперед. Это был юноша маленького роста, большеголовый и почти без шеи, с пухлым лицом, глазами навыкате и выпяченными губами. Сразу видно, что самоуверенный и неприятный. Машинально я взглянул ему на ноги и увидел, что ботинки у него новые, как раз того типа, что мне нравятся: в американском стиле, на очень толстой подошве, простроченные на манер мокассин.
Он вовсе не казался испуганным, и это меня так взвинтило, что щека у меня запрыгала от тика хуже, чем когда-либо.
— А вы кто такие? — спрашивает он.
— Полиция, — отвечаю я. — Разве вы не знаете, что воспрещается целоваться в общественных местах? Платите штраф… А вы, синьорина, тоже подойдите… Напрасно вы прячетесь…
Она послушалась, подошла и стала рядом со своим другом. Как я уже сказал, она была повыше его, тоненькая и стройная, в черной юбке клеш до колен. Хорошенькая была девушка, с личиком мадонны, пышными черными волосами и большими черными глазами; она даже не была накрашена и выглядела такой серьезной, что я никогда б не поверил, что она целовалась, если бы сам этого не видел.
— Разве вы не знаете, синьорина, что целоваться в общественных местах запрещено? — говорю я ей строго, как полагается полицейскому агенту. Такая воспитанная барышня, стыдитесь… Целоваться в парке, в темноте, как проститутка какая-нибудь…
Синьорина хотела возразить, но он остановил ее жестом и, повернувшись ко мне, говорит нахально:
— Ах, я оштрафован?.. А ну, покажите удостоверения.
— Какие удостоверения?
— Документы, которые доказывают, что вы действительно агенты.
У меня сначала мелькнула мысль, что он сам из квестуры: я б не удивился этому — ведь мне всегда не везло. Но тем не менее я сказал резко:
— Довольно болтать… Вы оштрафованы и должны платить…
— Да чего там платить, — заговорил он уверенно, как адвокат, и было заметно, что он действительно не боится. — Агенты с такими рожами? Этот в куртке и ты в таких ботинках… Вы меня за дурака принимаете, что ли?
При упоминании о моих ботинках, которые, действительно, были такие рваные и стоптанные, что не могли принадлежать агенту, мной овладело настоящее бешенство. Я вытащил из плаща пистолет, ткнул ему в живот и говорю:
— Ладно, мы не агенты… но все равно, вытаскивай денежки, и без шума…
До этого времени Лоруссо стоял рядом со мной, не произнося ни слова и разинув рот, как дурак, каким он в самом деле и был. Но увидев, что я бросил ломать комедию, он тоже встрепенулся.
— Понял? — сказал он, суя юноше под нос свой гаечный ключ. Выкладывай монету, не то как дам по башке!
Это вмешательство разозлило меня больше, чем нахальное обращение молодого человека. Девушка, увидя ключ, вскрикнула, но я сказал ей вежливо, — я умею быть вежливым, когда захочу:
— Синьорина, не слушайте его — он дурак… Не бойтесь, вам никакого зла не сделают… Отойдите вон в тот угол, не мешайте нам… А ты убери эту железку. — Потом я обратился к мужчине: — Ну, живо, раскошеливайся!
Надо сказать, что этот юноша, хоть рожа у него и была препротивная, не трусил и даже в тот момент, когда я ткнул ему пистолет в брюхо, не выказал страха. Он полез в карман и вытащил бумажник.
— Вот бумажник, — говорит.
Кладя его себе в карман, я убедился на ощупь, что денег в нем немного.
— Теперь давай часы.
Он снял с руки часы и протянул мне:
— Вот часы.
Часы были металлические, недорогие.
— Теперь, — говорю, — отдай вечную ручку.
Он вынул ручку.
— Вот ручка.
Ручка была хорошая: американская, с закрытым пером и капилляром.
Теперь с него нечего было больше взять. Нечего, за исключением этих чудесных новых ботинок, которые мне с самого начала понравились. Он говорит насмешливо:
— Еще что-нибудь хотите?
А я решительно:
— Да. Снимай ботинки!
На этот раз он запротестовал:
— Нет, ботинки не отдам.
Тут уж я не мог удержаться. С первой же минуты меня так и подмывало заехать в эту толстую, противную рожу; хотелось посмотреть, какое это произведет впечатление и на меня и на него. Я говорю:
— А ну, снимай ботинки… Не валяй дурака. — И свободной рукой легонько стукнул его по физиономии. Он побагровел, потом побледнел и, вижу: вот-вот на меня бросится. Но, к счастью, девушка закричала ему из своего угла:
— Джино, Джино, отдай им все, что они хотят!
Он до крови закусил губу, пристально поглядел мне в глаза и сказал:
— Хорошо же.
И опустил голову. Потом наклонился и принялся расшнуровывать ботинки. Он стащил их один за другим и, прежде чем отдать мне, оглядел с сожалением: они, видно, и ему нравились.
Босиком он был совсем маленький, даже ниже Лоруссо, и я понял, почему он купил себе ботинки на такой толстой подошве.
Тут-то и произошло недоразумение… Он, стоя в носках, спросил:
— Чего ты теперь хочешь? Может, рубашку снять?
Я с ботинками в руке собирался ответить, что с меня довольно, как вдруг что-то пощекотало мой лоб.
Это был маленький паучок, спустившийся на своей нити с потолка; я его сразу же увидел. Я поднес руку ко лбу, чтоб смахнуть его, а этот дурень Лоруссо решил, что я подаю ему знак, взмахнул ключом да как хватит сзади мужчину по голове. Удар был сильный и глухой, словно стукнули по кирпичу. Тот сразу повалился на меня, обхватывая меня, словно пьяный, а потом рухнул на землю, запрокинув лицо и закатив глаза, так что видны были одни белки. Девушка пронзительно взвизгнула и кинулась к нему, зовя его по имени, а он неподвижно лежал на земле…
Чтобы понять, каким идиотом был Лоруссо, достаточно сказать, что в этой кутерьме он снова занес свой ключ — над головой девушки, стоящей на коленях, взглядом спрашивая меня, проделать ли и с ней такую же штуку, как с ее дружком.
— Ты спятил, что ли! — заорал я. — Пошли скорей отсюда!
И мы выскочили наружу.
Когда мы добрались до аллеи, я сказал Лоруссо:
— Ну, теперь иди медленно, как будто гуляешь. Ты сегодня достаточно глупостей наделал.
Он замедлил шаг, и я на ходу рассовал ботинки по карманам плаща.
Потом обратился к Лоруссо:
— Бесполезно говорить тебе, что ты кретин… Чего это тебе взбрело в голову ударить его?
Он посмотрел на меня и отвечает:
— Ты же мне дал знак.
— Да какой там знак! Мне паук на лоб спустился.
— А я откуда мог знать? Ты мне дал знак.
В этот момент мне хотелось придушить его. Я говорю в бешенстве:
— Ты настоящий идиот… Ведь ты, наверно, убил его.
Тут он стал протестовать, словно я на него клевету взвел:
— Нет… я его стукнул обратной стороной… Там нет острого… Если бы я хотел его убить, то стукнул бы острым.
Я ничего не сказал, потому что весь кипел от ярости, и лицо у меня до того дергалось от тика, что я стал придерживать щеки рукой.
А Лоруссо говорит:
— Видел ты, какая красивая девушка… Мне так и хотелось сказать ей: ну же, красотка, пойдем со мной, красотка… Может быть, она и согласилась бы… Жаль, что я не попробовал…
Он шел, довольный собой, и так и пыжился. Потом он пустился рассказывать, как ему хотелось побыть с девушкой и как бы это у него вышло. Наконец я сказал ему:
— Знаешь что, заткни свою противную глотку… иначе я за себя не ручаюсь.
Он замолчал, и мы молча прошли по площади Фламинио, вдоль набережной, перешли мост и добрались до площади Либерта. Там под деревьями есть скамеечки; площадь была пустынной, и с Тибра тянул туман.
— Посидим тут немного, — говорю я… — Посмотрим, сколько мы взяли. А кроме того, я хочу примерить ботинки.
Присели мы на скамейку, и я первым делом открыл бумажник. Оказалось в нем всего две тысячи лир, и мы их поделили поровну. Потом я говорю Лоруссо:
— Тебе по-настоящему ничего бы не полагалось… Но я человек справедливый… Я тебе отдам бумажник и часы, а себе возьму ботинки и ручку… Согласен?
Он сейчас же запротестовал:
— Вовсе не согласен… Что это за дележка? Где ж тут половина?
— Но ведь ты наделал глупостей, — говорю я раздраженно, — и должен поплатиться за это.
Словом, мы немного поспорили, но в конце концов согласились на том, что я оставлю себе ботинки, а он получит бумажник, ручку и часы.
Я ему говорю:
— На что тебе ручка? Ты ведь и имени своего подписать не умеешь…
— К твоему сведению, — отвечает, — я умею и читать и писать — я три класса кончил… А к тому же такую ручку у меня всегда купят на площади Колонна.
Я уступил ему только потому, что не мог дождаться, когда, наконец, скину свои старые ботинки; кроме того, я устал с ним ссориться, и у меня начались даже нервные колики в желудке. Снял я, значит, свои ботинки и примерил новые. И тут оказалось, что они мне малы! А уж известно, что все можно поправить, кроме ботинок, которые тебе не лезут.
Я говорю Лоруссо:
— Смотри-ка, эти ботинки мне малы… Они как раз на твою ногу… Давай поменяемся… Ты мне дай свои — ведь они тебе велики, а я тебе отдам эти… Они красивей и поновее твоих.
Он тут как засвистит с презрением и отвечает:
— Эх, бедняга!.. Пусть уж я кретин, как ты говоришь, но не до такой степени.
— Что ты хочешь сказать?
— А то, что время ложиться спать.
Он гордо посмотрел на часы того парня и добавил:
— На моих часах половина двенадцатого… а на твоих?
Я ему ничего не ответил, снова засунул ботинки в карманы плаща и пошел за ним.
Сели мы в трамвай, а меня так и грызло сознание своей неудачливости; я все думал, какой дурак Лоруссо и как мне добиться, чтобы он все-таки обменял мне ботинки. Когда мы вышли из трамвая в нашем квартале, я снова пристал к нему и наконец, видя, что на него никакие доводы не действуют, стал просто умолять:
— Лоруссо, для меня эти ботинки — вся жизнь… Без ботинок я больше не могу жить на свете… Если не хочешь сделать этого ради меня, сделай хоть ради бога.
Мы были на пустынной улице в районе Сан-Джованни. Он остановился под фонарем и начал выставлять свои ноги нарочно, чтоб позлить меня:
— Хороши мои ботиночки?.. Завидно тебе, а? Нечего ко мне приставать… Все равно тебе не отдам. — А потом начал распевать: — Трам-там-там, не получишь — не отдам.
Одним словом, он еще меня дразнил… Я прикусил губу и поклялся мысленно, что если бы была у меня сейчас пуля в пистолете, я убил бы его, и не столько за ботинки, а потому, что больше не было моего терпения.
Так мы добрались до подвала, где ночевали, и постучали в окошечко; швейцар, как всегда ворча, открыл нам, и мы спустились вниз. В подвале стояло пять коек: на трех спали швейцар и двое его сыновей, парней нашего возраста, а на двух других — мы с Лоруссо. Швейцар взял с нас деньги вперед, потушил свет и пошел спать, мы в темноте добрались до коек и тоже улеглись. Но я, укрывшись своим легоньким одеяльцем, все продолжал думать о ботинках и наконец придумал, Лоруссо спал не раздеваясь, но я знал, что ботинки он снимает и ставит на пол между нашими двумя койками. Я решил, что потихоньку встану в темноте, надену его ботинки, оставлю ему свои, а потом удеру отсюда, прикинувшись, будто иду в уборную, которая была снаружи, у входа в подвал. Это было бы хорошо еще и потому, что если Лоруссо и в самом деле пришиб того человека в оранжерее, то мне опасно было оставаться с ним вместе. Лоруссо моей фамилии не знал, звал меня всегда только по имени, и если его арестуют, он не сможет сказать, кто я такой.
Сказано — сделано; я поднялся, спустил ноги, тихонько наклонился и надел ботинки Лоруссо. Я уже зашнуровывал их, когда вдруг на меня обрушился сильнейший удар; хорошо, что я в этот момент двинулся, и удар только задел меня по уху и пришелся по плечу. Это был Лоруссо, который в темноте стукнул меня своим проклятым гаечным ключом. Тут я от боли окончательно потерял голову, вскочил и ударил его вслепую кулаком. Он схватил меня за грудь, снова пытаясь нанести удар ключом, и мы оба покатились на землю. От этой кутерьмы проснулись швейцар и его сыновья и зажгли свет.
Я кричу:
— Убийца!
А Лоруссо в свою очередь вопит:
— Вор!
Остальные тоже начали кричать и пытались разнять нас. Тут Лоруссо стукнул ключом швейцара, а тот был здоровенный детина и приходил в бешенство от всякого пустяка: он схватил стул и хотел ударить Лоруссо по голове. Тогда Лоруссо забился в угол подвала, прижался к стене и, размахивая ключом, начал вопить:
— А ну, подходите, если у вас хватит духа… Всех вас выведу в расход… Я — гроза Рима! — Ну совсем как сумасшедший, весь красный, с выпученными глазами.
Тут я, совсем вне себя, неосторожно крикнул:
— Берегитесь, он только что убил человека… Это убийца!
Ну, короче говоря, пока мы пытались удержать Лоруссо, который все вопил и отбивался как одержимый, один из сыновей швейцара сбегал и позвал полицию. И в результате частично от меня, частично от Лоруссо выплыла наружу вся история с оранжереей. И нас обоих арестовали.
Когда нас привели в полицию, достаточно было телефонного звонка, чтобы в нас сейчас же опознали тех, кто совершил налет на Вилле Боргезе. Я заявил, что это все сделал Лоруссо, а он на этот раз, может быть, от полученных побоев, даже не пикнул. Комиссар сказал:
— Молодцы, вот уж, право, молодцы… Вооруженное ограбление и покушение на убийство…
Но чтоб вы поняли, каким идиотом был Лоруссо, достаточно сказать, что он вдруг, словно очухавшись, спросил:
— Какой завтра день?
Ему отвечают:
— Пятница.
Тогда, он, потирая руки, говорит:
— Ух, здорово, завтра в Реджина Чели бобовую похлебку дают!
Так он и проболтался, что уже сидел в тюрьме, а мне-то всегда клялся, что никогда там не бывал.
А я посмотрел себе на ноги, увидел на себе ботинки Лоруссо и подумал, что в конце концов я добился того, чего хотел.
Критика