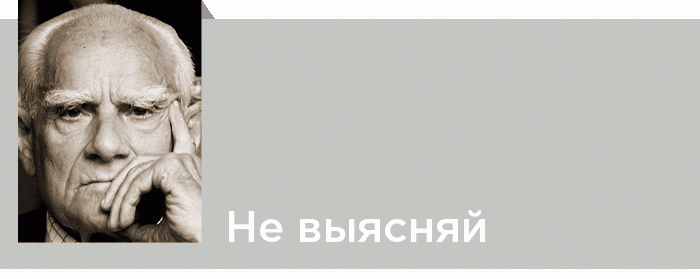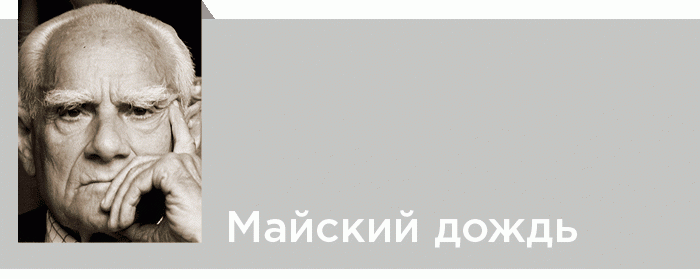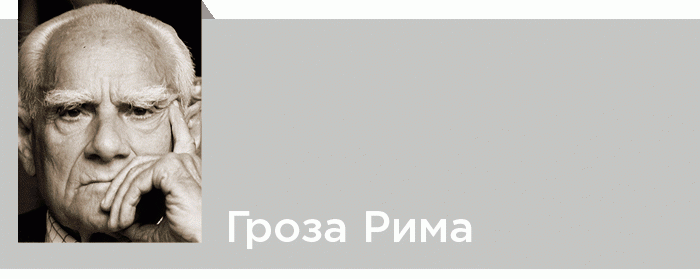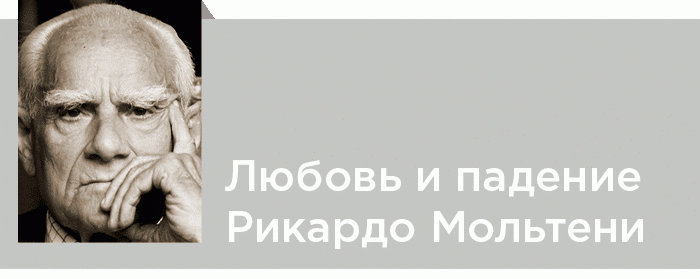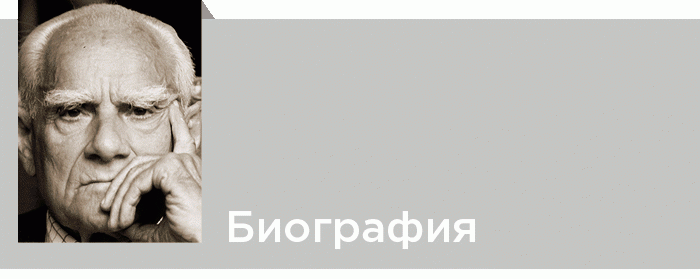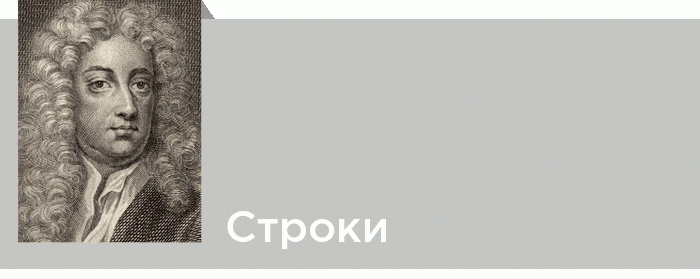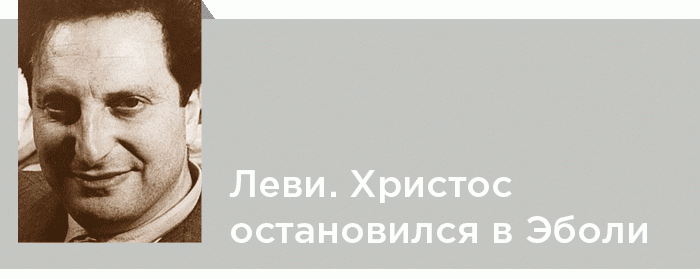Римские рассказы
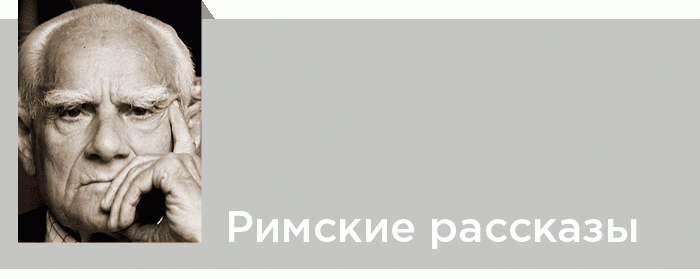
Сергей Львов
[…]
Книга Моравиа производит сильное впечатление. Рассказы написаны мастером — это ощущаешь сразу. Повествование в каждом из них идет от первого лица, но книга не становится от этого монотонной.
Писатель мастерски перевоплощается. Мы слышим речь подростка, которому еще ни разу в жизни не удалось заработать себе на новые ботинки и который не в состоянии больше ни о чем другом думать, ни о чем другом мечтать; речь красавца-парикмахера, впервые ощутившего, что в глазах окружающих он старик; речь неудачливого шофера такси, замученного несчастьями одного дня; речь мусорщика, который стыдится своей работы, как постыдного клейма...
Особенно точно определяет Моравиа приметы, которые накладывает на человека профессия. «Для шофера грузовика самое главное — руки, спина и живот; руки — чтобы крутить баранку, которая на грузовике диаметром немногим меньше длины руки, а на горных дорогах иногда приходится делать полный оборот руля; спина — чтобы часами находиться в одном и том же положении, не деревенея и не коченея; и, наконец, живот — чтобы прочно сидеть на сиденье, составляя с ним как бы одно целое».
Пейзаж в рассказах Моравиа сродни подобным портретам: он написан тоже мастерски, выдержан в тонах резких и сумрачных. В свинцово-сером, коричнево-желтом колорите этих картин почти нет солнечного света, ясного голубого неба; описания Рима полемически направлены не только против олеографической красивости изображений, рассчитанных на привлечение туристов, но, пожалуй, вообще против поэтического видения «вечного города».
Моравиа выворачивает наизнанку романтику Рима парадных путеводителей и делает это столь же блестяще, сколь и безжалостно.
Вот каким видят Рим герои Моравиа: «Был обычный серый римский день, и дул сирокко; небо, как грязная тряпка, тяжело висело над городом, воздух был сухой и горячий, и даже каменные стены домов казались раскаленными. Я шел и шел, и видел, что все осталось таким же, как прежде, как всегда, — ничего нового, ничего радостного: кошки на углу переулка возле свертка с объедками; мужские уборные за дощатой загородкой, обсаженные чахлыми кустиками; надписи на стенах с обычным «ура» и «долой»; женщины, усевшиеся посплетничать у дверей лавок; церкви с каким-нибудь слепым или калекой, примостившимся на паперти; тележки с апельсинами и винными ягодами; газетчики, продающие иллюстрированные журналы с фотографиями американских кинозвезд. И все люди казались мне какими-то неприятными, противными: один носатый, у другого — рот кривой, у третьего — рыбьи глаза, у четвертого — щеки висят, как у бульдога. Короче говоря, это был обычный Рим и обычные римляне».
Впрочем, в одном из рассказов возникает совсем иной образ города:
«С балкона открывалось прекрасное зрелище: был виден весь Рим, со множеством крыш, с куполами и колокольнями. День был ясный, и на фоне голубого неба между крышами виднелся даже купол собора Святого Петра».
И на фоне поэтического пейзажа — женщина, портрет которой написан Моравиа так, что он заставляет вспомнить картины старинных итальянских мастеров. Думается, что писатель сознательно добивался именно такой ассоциации:
«У нее было тонкое, белое лицо, нежное и приятное, черные волосы и такие длинные ресницы, что они отбрасывали тень на щеки. Рука у нее была белая, тонкая, изящная, с бриллиантом на указательном пальце. Потом княгиня подняла на меня глаза, они были прекрасны — большие, карие, бархатистые и одновременно прозрачные».
Но у княгини, возникающей в этом рассказе как воплощение поэтической красоты, существует лишь одна страсть, поглощающая ее душу, — жажда наживы.
Вся поэтическая прелесть пейзажа, который виден с балкона старинного палаццо, памятники славной истории города, вся красота — для княгини лишь рекламная приманка, лишь объект торга. Заметив, что из окон квартиры виден «кусочек виллы Боргезе», она сразу же повышает цену. Богатая женщина, она в начале рассказа продает квартиру, в конце рассказа — самое себя. Полемическая направленность этого рассказа очевидна. Он производит даже, пожалуй, впечатление некоторой заданности, нарочитости воплощения мысли о внешней красоте, скрывающей внутреннюю опустошенность, душевную безобразность.
Впрочем, переосмыслению подвергается в этой книге не только вилла Боргезе, которая становится для княгини приманкой, но вообще все, что связано с традиционными представлениями о Риме — «вечном городе». Если в одном из рассказов упоминается старинная монета, то она оказывается фальшивой; если в другом рассказе действуют люди, прозванные по имени легендарных основателей Рима — Ромулом и Ремом, то они — несчастные, голодающие бедняки.
Правда, в сборнике есть несколько рассказов, которые, на мой взгляд, не более чем бытовой анекдот, но не о них речь.
Чего стоит хотя бы в рассказе «Приятный вечерок» фигура хозяина ресторана! Его стряпню осыпают упреками, его ресторан срамят, а он даже не в силах обидеться, «настолько глубоко он погружен в мрачную задумчивость». И хотя этот рассказ совсем не о нем, но и его судьба, намеченная одним резким мазком, угадывается читателем. Умение наделить не только обликом, но и характером десятки людей — тоже одна из черт большого мастерства Моравиа.
Жизнь повернута к его персонажам самой прозаической своей стороной: очистками чужих кухонь, которые нужно выносить, клопами в чужих диванах, сданных в ремонт, сношенными ботинками, отданными в починку, засорившейся канализацией, которую нужно прочищать...
Многие герои Моравиа бедны даже рядом с бедняками, неудачливы даже рядом с неудачниками. Сюжеты большинства произведений связаны с их большими и маленькими поражениями.
В рассказах Моравиа перед читателем проходят все виды неудач: бедой оканчивается праздник, не состоится свидание, не удается любовь, не выдерживает испытания дружба, не сбываются самые робкие мечты, неосуществимыми оказываются самые простые планы; и уж если безработному, мечтающему об обеде, удается один раз как следует пообедать, то только обманув друга — почти столь же нищего.
Немалое место в «Римских рассказах» занимают люди, вовсе не имеющие твердой точки в жизни, деклассированные, опустившиеся.
Когда такой «человек воздуха» появляется на страницах «Римских рассказов» первый раз, наш читатель сразу вспоминает фигуру всеобщего посредника, неудачника Пеппе из гоголевского фрагмента «Рим».
Пройдохи и плуты в «Римских рассказах» совсем не похожи ни на гоголевского Пеппе — посыльного и комиссионера, который был еще наделен каким-то беззаботным артистизмом, — ни тем более на ловких и озорных плутов из старинных новелл.
Авантюрист у Моравиа — тоже отчаявшийся неудачник. Если он отправляется разменять мастерски сделанную фальшивую ассигнацию, ему самому всучивают взамен такие купюры, «которые и слепой не возьмет», если он затевает аферу с поддельными древностями, то в убытке оказывается сам...
Параллели между рассказами Моравиа и многими итальянскими фильмами подметить нетрудно. Они лежат на поверхности. Существеннее установить различие. О нем в интересном предисловии к «Римским рассказам» говорит И. Эренбург: «Я вспоминаю героев некоторых итальянских фильмов: «Похитители велосипедов», «Два гроша надежды», «Рим в одиннадцать часов». По своему социальному положению эти герои — родные братья героев «Римских рассказов». Моравиа себя причисляет к неореалистам, как и авторы названных кинокартин. Между тем зритель, видевший итальянские фильмы, находит их героев несчастными, но хорошими, обиженными, но не покушавшимися на роль обидчиков».
Лучшие из итальянских неореалистических фильмов говорят не только о нечеловеческих условиях существования, в которые каждый день ставит действительность буржуазного общества простого человека, но о том, что и в самых нечеловеческих условиях он остается человеком. В жалкой хибарке ютится герой фильма «Два гроша надежды», но сам он не жалок. Мир его мыслей и чувств не беден. Потому-то так больно нам за него, что он настоящий человек — мужественный, гордый, чистый, добрый...
Конечно, фильмы, подобные «Риму в одиннадцать часов» или «Дороге надежды», правдиво показывают, что обстоятельства жизни каждый день вынуждают человека бороться за существование с другими такими же людьми: вспомним столкновение претенденток на лестнице в фильме «Рим в одиннадцать часов» или драку пришлых и местных батраков в «Дороге надежды». И все-таки в итоге своем эти произведения не воспитывают человеконенавистничества, а говорят о бесконечном душевном богатстве бесконечно бедных людей, о красоте народа. Мы не забудем сцену возвращения девушки в родной квартал («Рим в одиннадцать часов») или финал фильма «Два гроша надежды», когда на сторону любящих становится вся деревня. В лучших из фильмов итальянского кино едва ли не ведущий положительный мотив — мотив дружбы, товарищества, который в некоторых из них поднимается до мотива боевой солидарности. Недаром черным днем в жизни рабочего в фильме «Машинист» оказывается день, когда он изменил солидарности забастовщиков, а самым счастливым — тот, когда он снова смог протянуть руку друзьям, и они ответили на его рукопожатие. Беспощадные в изображении прозы жизни, предельно реалистическиеитальянские картины этим своим качеством неожиданно смыкаются с горьковскими «Сказками об Италии». В лучших итальянских фильмах по-своему звучит столь сильно выраженная Горьким вера в красоту простого человека. Вспомним горьковский рассказ о деревенской коммуне, которая пришла на помощь бедным влюбленным. Слова, завершающие его: «Вот, синьоры, кое-что о людях, — это вкусно, не правда ли?» — можно было бы поставить эпиграфом к фильму «Два гроша надежды», да и не к нему одному. К «Римским рассказам» эпиграфом их не поставишь.
В одном из предисловий к «Сказкам об Италии» Горький писал: «...человек, несмотря на всю его неприглядность, — все-таки самое великое на земле».
Неприглядность человеческая в « Римских рассказах» есть во всех ее видах; величие человека осталось за пределами книги. Дело не в том, что Моравиа изображает людей униженных — их унижает каждый день весь строй жизни — и, показывая это, писатель говорит правду; но он одного за одним изображает людей, принимающих свою униженность как должное. Правда ли это? То, что известно нам о жизни и борьбе простых людей Италии, заставляет думать, что это не вся правда.
Значит ли это, что все рассказы Моравиа одинаковы в своем отношений к людям? Нет. Среди них есть и такие, где звучит тема человеческого достоинства. Один из этих рассказов — «Паяц».
Человек, который поет песенку о любви, так, как может и должен петь ее человек, не утративший веру в человеческие чувства, даже по своему облику отличен от других персонажей Моравиа:
«Я не скажу, чтоб он пел, как настоящий артист, но пел он с чувством, и голос его звучал мягко и ровно, ну, словом, пел он так, как нужно петь и как того требует сама песня».
Дело не в том, что парень в комбинезоне «красив, как бог». В «красавцах-мужчинах» Моравиа почти всегда подчеркивает что-то отталкивающее, животное: они выступают, как бессердечные эгоисты, притесняющие уродливых неудачников.
Но у «парня в комбинезоне» внешняя и внутренняя красота сливаются, он не только красивый парень, он настоящий человек. Именно потому, что он человек с верой в настоящие человеческие чувства, может он с презрением обрушиться на уродливого паяца, марающего грязной издевкой наивные и чистые слова народных песен о любви...
Можно выделить в книге «Римские рассказы» еще несколько вещей, где за пределами узкого горизонта униженных, примирившихся со своим унижением, угадывается более широкий горизонт людей, поднимающихся хоть на маленький, хоть на внутренний, но все же на бунт против того, что принижает и оскорбляет человека.
Столяр Родольфо из рассказа «До свидания» не может послушать «благоразумных» советников и протянуть руку лжецу и предателю; служанка решает научиться читать и писать, чтобы понять, почему так дороги профессору книги, которые она по неведению продала («Девушка из Чочарии»); кассирша из бара заставляет того, кто ее полюбил, порвать с друзьями — пошлыми и грубыми обжорами, которые смотрят на нее как на вещь («Драгоценность»); бесконечно долго сдерживавший свое презрение к богачам официант, рискуя работой, выпаливает в лицо клиентам все то, что он о них думает («Мысли вслух»).
Л-ра: Октябрь. – 1957. – № 8. – С. 220-223.
Критика