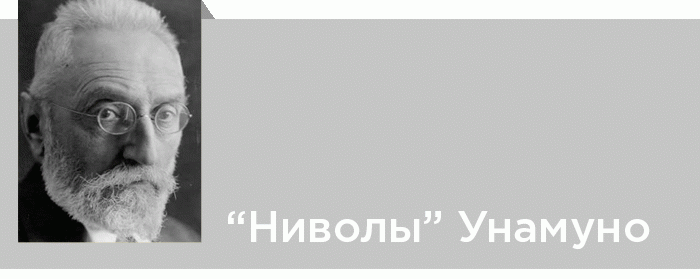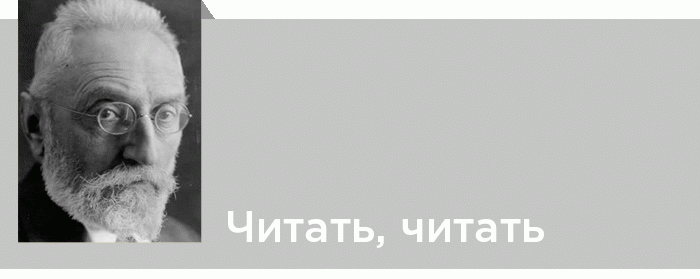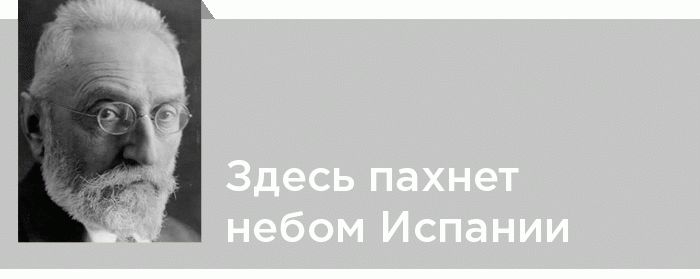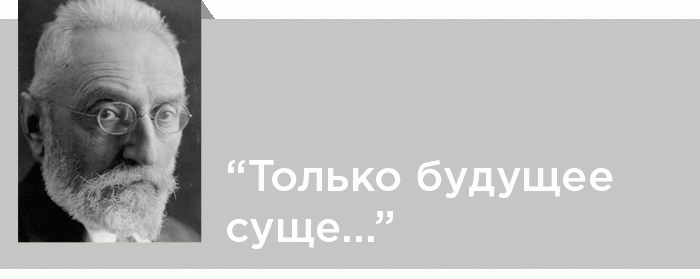«Ощутить себя вместе со всеми…»
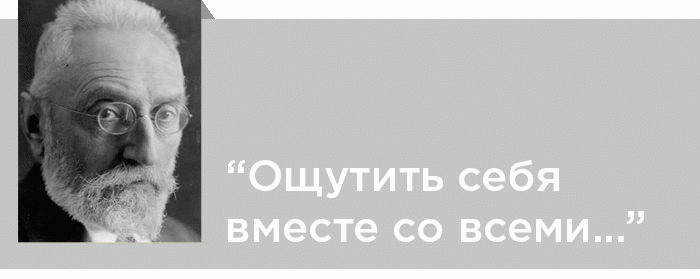
Юрий Суровцев
Для того, чтобы сколько-нибудь глубоко и серьезно рассказать об испанских поэтах, говорил я себе, — о поэтах ярких и сложных, а в случае с Унамуно, поэте великом надо быть испанистом, человеком, специально занимающимся испанской культурой. Ты же занимаешься не ею, убеждал я себя, и хотя Испания властно влечет тебя к себе, суждения твои не могут быть ничем иным, как любительщиной. И я откладывал книги в сторону. А потом — снова и снова перечитывал их. В конце концов разве не вправе я, пусть и не будучи испанистом, попробовать выразить то, что может почувствовать читатель, литератор в этих стихах?
Сразу скажу: прочитанное отлично звучит в переводе. Сличая то или иное стихотворение с испанским оригиналом (я это делал несколько раз на выборку), можно, конечно, подметить, где что потерял тот или иной переводчик. Но общий уровень переводов высок. И у С. Гончаренко (вся небольшая книжечка лирики Мигеля де Унамуно состоит из его переводов, а в антологии «Из современной испанской поэзии» он представил нам лауреата Нобелевской премии, маститого Висенте Алейсандре и поэтов «моего» поколения, «пятидесятилетних» — Хосе Агустино Гойтисоло и Хосе Анхеля Валенте); и у Н. Горской (она перевела поэтессу Глорию Фуэртес); как всегда, эмоционально выразительны строки Ю. Мориц-переводчицы; одержали безусловные переводческие победы над трудноподатливым материалом и В. Столбов, и Б. Дубин, и Н. Ванханен, и А. Гелескул — все, потрудившиеся над переводами. Причем, работа их свидетельствует о сердечной взволнованности, о жажде воссоздать искусство не посредством ремесла, пусть и виртуозного, но посредством душевного сопереживания, без чего нет искусства и в переводческом деле.
Вот хотя бы четыре примера, из десятков возможных.
Мигель де Унамуно, сонет «Зеленое пламя», великолепнейший по пластичности и мыслительно-образной мощи и оригинальности (в переводе С. Гончаренко):
Гудит, как пламя, пальма на ветру, корнями попирая мертвый камень. Зеленый факел долгими глотками из неба пьет гремучую жару.
Приник зенит к зеленому костру, к стволу, где под набухшими узлами, как брага, бродит солнечное пламя, пролившееся в крону и кору...
Леон Фелипе... «простой» стих, материально-зримый и осязаемый, но будто нарочито отказывающийся от «непрямой» образности, стих экспансивный, почти экстаз, почти заклинание:
Быть в этой жизни бродягой,
быть одиноким бродягой, с вечной тягой и новой дорогой...
(«Одинокий бродяга», перевод Ю Мории,)
Луис Сернуда музыкален, тонок, изящен: он уподобляет арфу «клетке невидимой птицы», подмечает, как «солнце... оживляет зеленым смехом нищету пропыленных олив», а его стихотворение «Фонтан» — это и рисунок, где уловлен сам ритм падений и взлетов водяных струй, и философическое размышление. Вот как передано все это русским анапестом, к которому прибегнул Б. Дубин:
В неслабеющей тяге к бирюзовому небу,
В несмолкающем плеске среди веток зеленых
Я — тугая колонна, что сломили на взлете
И, смирив, увенчали водяной диадемой...
И тоже естественно по-русски звучат задыхающиеся вопросами, пропитанные горечью и сарказмом верлибры Анхеля Гонсалеса:
Путь скажет человек другому:
- Стой!
И может
быть,
его он остановит.
Но кто, ответьте мне, посмеет ветру
дать приказ утихнуть?
Или словом остановить морской прилив?
Кто криком сдержит камень, на землю падающий с высоты?..
(«Подождите до нового дня», перевод В. Столбова)
Я мог бы — и хотел бы! — цитировать и цитировать. Цитировать поэтов сильных и своеобразных, к чьей силе и к чьему своеобразию приобщили нас русские переводчики...
Своеобразные поэты многообразной Испании!
Ну, конечно, средь прочитанных первый — и по хронологии творчества, и по масштабности дарования — Мигель де Унамуно, один из крупнейших представителей испанской культуры, философ, эстетик, историк, прозаик и поэт, как говорится у нас, поэт с большой буквы. О его трудной судьбе Инна Тертерян написала умную статью-предисловие, в которой доступно для читателей «молодогвардейской» популярной серии «Избранная зарубежная лирика», доступно, однако никоим образом не упрощенно, рассказано и о своеобычности поэтического творчества Унамуно, широте и цельности его образно-лирической системы.
Унамуно не был демократом-антифашистом, но он был писателем-гуманистом. И потому его не жаловали испанские фалангисты; потому он был опасен для солдафонов, диктаторов и «инквизиторов» XX века. В сборнике Унамуно представлена и такая «извечно» испанская тема, как трагика смерти, ухода из бытия (с исключительной силой написано стихотворение «Нагрянет ночью»); есть здесь и тонкие, но не акварельные, а будто тонкой иглой прорисованные на медной пластине пейзажи; обильно представлены в сборнике поэтические декларации: томительная мелодия любви поэта к родным местам, к Бискайе и Саламанке, мелодия любви-воспоминания, прерывается мгновенно запечатленным интимным трепетом сердца:
Близится, нарастая, эхо морского гула.
Снова волна крутая солью в лицо дохнула.
Снова под скрип штурвала и просмоленной снасти сердце затрепетало парусом старой страсти.
И вдруг — как удар бича или как выпад шпаги, или как выстрел — совсем иная миниатюра, «Фашизм»:
Вы даже не свора.
Вы — сволота.
Фашизофрении бацилла.
За вашим «да здравствует!» — пустота.
За пустотой — могила.
Унамуно-поэт — это могучий ваятель, творящий в словесной материи свободно и уверенно, передающий словом все, чем полна его душа, чем она могла и хотела излиться людям.
Леон Фелипе, Луис Сернуда, Висенте Алейсандре — следующее поколение испанской поэзии. Унамуно уже известнейшим деятелем культуры вступил в борьбу против семилетней (1923-1930) диктатуры генерала Примо де Риверы; двое из названных поэтов принадлежат «поколению двадцать седьмого года» (оно было названо так потому, что в двадцать седьмом отмечалось трехсотлетие со дня смерти великого Гонгоры — его наследство, сложную метафоричность его поэзии молодые брали себе на вооружение); у Леона Фелипе первый сборник был напечатан в двадцатом году.
Начало их пути — сильно, хотя и книжно (наряду с влиянием трагических фигур испанской классики — французский «модерн», сюрреализм и общеевропейская тенденция экспрессивного слова). Социальная жизнь учила литературу, поэзию жизненности — литературу, поэзию, вставшую за Республику или хотя бы близкую к антифашистскому республиканизму. Она приобретала все более отчетливый этическо-общественный пафос, она открывала для себя необходимость быть народной, открывала народность как необходимый закон бытия искусства, ну, а что до форм, то, как мы знаем, форм проявления народности в искусстве может быть множество. И опыт прогрессивной испанской поэзии 30-50-х годов — поэзии изгнанников-антифашистов и внутренних оппозиционеров режиму — подтверждает это сильно и убедительно.
Мы знаем об этом опыте по хорошо нам известным произведениям Федерико Гарсиа Лорки, Мигеля Эрнандеса, Антонио Мачадо, Рафаэля Альберти. Теперь вот узнаем иные стили, иные формы искусства демократии (именно так!) в творчестве Леона Фелипе, Висенте Алейсандре, Луиса Сернуды (хорошо было бы прибавить к представленным в антологии поэтам «поколения двадцать седьмого года» еще и Д. Алонсо и X. Гильена, скажем, но и впрямь необъятного не обнимешь).
Опять же — какие это хорошие и разные поэты!
Трудно себе представить что-либо резче различающееся, нежели, например, стихи Леона Фелипе и Висенте Алейсандре! Первый — жесткий, яростный, порою надрывный. Образ сердца (знаменитейший, канонически-обязательный, излюбленнейший el corazón, без которого не обошелся ни один испанский поэт, да, кажется, не обошлась и на одна народная лирическая песня в Испании), этот образ у Л. Фелипе — трагически опустошен:
Сердце мое...
Ты — покинутый замок.
Старый замок.
пустой посреди пустоты.
(«Сердце мое», перевод В. Столбова)
Стихи Фелипе — всегда боль и всегда вскрик. У Алейсандре стихи — это часто боль, но редко вскрик. Он изысканно-успокаивающий, наблюдательно-аналитичный. Он хочет выразить изящным и точным словом как бы не отношение свое к предмету, а сам предмет, даже невыразимо всеобъемлющий (цикл «Бессмертие» о «стихиях» — «Земля», «Огонь», «Воздух», «Море»).
Фраза Фелипе настаивает, спорит; фраза Алейсандре свободно струится, длинная, гибкая, льнущая к предметам, явлениям, мнимо спокойная, потому что и в ней дается выход внутреннему чувству поэта, его страсти:
Счастье, струящееся у меня в ладонях,
лицо любимой, вместившее мир,
в котором сквозят неуловимые птицы,
улетая в страну, где ничто не бывает забыто.
Абрис любимого тела, алмаз и рубин,
солнечный луч, заключенный в объятья,
бездна, влекущая вниз колдовским
заклинаньем, ворожащим призывом влажных зубов...
(«Единство, обретенное в ней», перевод С. Гончаренко)
Но это он, такой вот чувственный лирик Висенте Алейсандре, некогда сюрреалистически темный в метафорах, сказал в блестящем стихотворении — кредо «Площадь» те ясные слова, которые я вынес в название своей рецензии:
Как прекрасно, как просто и прочно, как животворно это великое чувство: ощутить себя вместе со всеми — солнце над головой, а тебя несет и толкает, влечет,
увлекает
людская стремнина...
(Перевод С. Гончаренко)
Понятно, что это выражение огромной общеевропейской, мировой лирической темы — самоосознания поэзией смысла своего бытия в мире. Но это — и путь самого Висенте Алейсандре.
Конечно, тема Испании — прежде всего это тема родной земли, ее прекрасной и горькой судьбы, ее еще не до конца выясненного предназначения в мире, — объединяет поэтов, представленных в антологии, диктует им схожие по эмоциональности и смысловой концентрации «сквозные образы». Такова уже упомянутая символика сердца; каменистых, выжженных испанским солнцем дорог; слез (слез Испании «выплакавшей все слезы, а со слезами и очи»); маски («исконной» испанской маски скрывающей трагизм в улыбке пикаро). Таков и символический образ ветра — по выражению Унамуно, это «жизнь в ее порыве», и это же ветер Родины, вздымающей «крыло» поэзии; «мир крыла» — это «жизнь в ее пределе», скажет и Луис Сернуда в одном из горчайших своих стихотворений, полных муки изгнанничества. Ветра ждет поэт, ветра, который «подхватит» его и покончит с одиночеством (Леон Фелипе).
У Унамуно и следующих за ним поэтов конкретность испанской темы усиливается не только автобиографическими мотивами, но и особым пафосом понимания необходимости стать устами испанского народа, пафосом открытия, трудного и далеко не мгновенно осуществленного открытия истины, которая утверждает потребность для подлинной поэзии стать оружием демократии — всеобщей и испанской особенно!
Ты лишь тогда святое слово скорби
произнести сумеешь как пароль,
достоинства при этом не утратив,
когда тебя насквозь пронзает боль,
пронзившая насквозь твоих собратьев.
Это — отрывок из сонета Унамуно «Общая боль». Сказано веско и четко. Сказано человеком, с порога отвергшим искушения «чистого искусства» и герметической замкнутости. Но, может быть, все-таки сказано это и слишком общо — о «собратьях»? И несомненно — слишком безоговорочно. Поэты «поколения двадцать седьмого года» драматичнее смотрят на эту проблему. Они должны были пройти путь, говоря словами Элюара, от горизонта одного к горизонту всех, прорваться сквозь скорбь самоизоляции — не кокетничая ею, не играя в нее, но преодолением противоречий выстрадывая новое, демократическое мирочувствие.
«Я буду лучше одиноким бродягой», — кричит Леон Фелипе, и он же рыдает:
Как же я одинок, господь!
Как же я одинок, раздавлен — слепую судьбу вслепую вечно искать заставлен! («Как же я одинок, господь!», перевод Ю. Мориц)
В ряде картин-фантасмагорий, заставляющих вновь и вновь вспоминать о Гойе (при чтении современной испанской поэзии — это как указание почвы, где произрастают образы определенного стилевого толка), крик и рыдание Фелипе сливаются воедино — и вот он приходит к правде понимания и взаимозависимости, взаимонеобходимости слова и жизни, поэзии и народа.
Не сердце твое и не разум — нет, слепили крылья тебе, поэт.
Подарили тебе их не боги, не ковал их Гефест хромоногий. Люди простые руками рабочими крылья к плечам твоим приторочили, и в оперенье любви и мечты в небо поэзии ринулся ты.
(«Не сердце твое...», перевод В. Столбова)
А с другой стороны...
...Мой только
древний голос земли, все остальное — твое.
Ты оставляешь меня нагим, лицом к дорогам земным...
Но я оставлю тебя немым...
ты понимаешь?.. Немым!
И как ты станешь седлать коня
и в поле точить косу, и как ты будешь сидеть у огня, если песню я унесу?
(«Брат... С тобою твое добро...», перевод А. Гелескула)
Пониманием такой взаимонеобходимости Леон Фелипе, мне кажется, больше похож на следующее поколение демократически настроенных поэтов, чем, скажем, Сернуда и Алейсандре, которые тоже открыли для себя, что «поэт поет для всех». Так называется одно из программных стихотворений Висенте Алейсандре, и есть там следующие знаменательные строки:
Отрекись от собственной боли,
и подлая спазма ослабит хватку, сдавившую сердце.
Сердце твое сольется с сердцами других,
и общая кровь отверзнет тебе очи,
нальет собою вялые жилы,
наполнит воздухом грудь.
(Перевод С. Гончаренко)
Поэты, пришедшие на рубеже пятидесятых-шестидесятых, не желали заставлять себя «отрекаться от собственной боли». Их боль — боль памяти, детской еще памяти об ужасах гражданской войны, юношеского осознания подлости того «образа жизни», который установили террором и демагогией победившие, — эта боль гнездилась и в народном сердце: оживила сердца народа и его поэтов общая кровь.
Пожалуй, наиболее сильное впечатление среди отобранных в антологию стихов Глории Фуэртес, Хосе Агустина Гойтисоло, Хосе Анхеля Валенте оставляют произведения, в которых вполне конкретно воссоздается биография собственной души, вписанная в реальный мир естественно и неуклонно, так, что ни философствовать, не морализировать здесь уже ни к чему. В этом смысле стихи Глории Фуэртес непосредственнее всех других, это поистине «дневник» женщины, испанской женщины-труженицы, которая стала, не могла не стать поэтом («Биографическая заметка». «Писать не позволяют», «Растекается вечер», «Я делаю стихи, сеньоры», «Приходит Разлука», «Я — только женщина»). Здесь нет размаха и тягот мысли, стремящейся постичь противоречия времени, но сами противоречия и тяготы реальности здесь есть, они выражаются непосредственностью бытия этого, конкретного человека, этой «женщины простой закваски». При всем том эта женщина — и сама некий поэт, и потому ее слово, ее интонация внутренне патетичны (иногда пафос, как лава, вырывается и наружу, застывая в отчетливой, с блеском, форме). О простом воспроизведении эмпирии жизни тут речи быть не может — этому противодействует, помимо всего прочего, четкая демократическая позиция поэта, защитника бедняков, выражателя их чувств:
Я слышу, о чем говорит землепашец, псалму виноградаря я внимаю, понимаю, о чем рыбаки мечтают, чувствую, что происходит с вами, знаю, сколько поденщикам платят, и знаю,
что вам живется несладко...
Так говорит бывшая служанка, учительница, журналистка, университетская преподавательница в США, испанский поэт Глория Фуэртес.
Анхель Гонсалес тоже был журналистом, и служащим, и университетским преподавателем за границей, в тех же Штатах. У него за плечами большой жизненный опыт, и в его стихах — множество конкретных реалий действительности, особенно часто — характерных для «цивилизации изобилия», лживые фасады, которой поэт ненавидит. Но главная сила, основная стихия А. Гонсалеса, я бы сказал, в высоком, страстном риторстве (например, оно звучит в стихотворениях «Металлолом», «Введение в молчание»). Это не уловки абстрактного красноречия. Это возвышенно произнесенное, слово человека, взыскующего правды и несущего его людям:
Любили мы плакать, а нынче
давайте забудем про слезы,
запасемся терпением и снова начнем изучать жизнь,
которая нас окружает, пока не найдем сокровенный предел,
ту границу, что вчерашнюю суть отделяет
от нынешней сути,— предел, по которому можно судить
о силе и скорости времени.
(«Все меняется», перевод В. Столбова)
Эта позиция есть, в сущности, и позиция Хосе Агустина Гойтисоло и Хосе Анхеля Валенте — пожалуй, лично мне наиболее близких. Иронично-сдержанного, любящего парадоксы и прямой призыв — первого; нервно-открытого, возбужденно эмоционального и тоже говорящего без обиняков то, что надо ему сказать, — второго.
Скорость изменений жизни во времени не столь велика: доброе, новое не является так быстро, как нам бы хотелось, — отсюда трагические ноты у этих двух поэтов не только тогда, когда их взор обращается в прошлое, в детство и юность, в трагику войны и франкистской ночи над Испанией, но и когда они пишут о настоящем. Им ненавистна ложь официальщины, им дорога честность и прямота дружбы; одиночество... да, они бывают и одиноки, но это момент жизни, а не ее суть. Не может быть одинок поэт, если он встал под знамена поэзии, сражающейся «с этими проклятыми силами» — горем, голодом и ложью (Хосе Агустин Гойтисоло), если он чувствует себя наследником тех, кто поднял меч испанской поэзии, «пламенный меч над твоим обезлюдевшим полем» (Хосе Анхель Валенте — в стихотворении, посвященном Антонио Мачадо).
[…]
Демократии можно нанести поражение, демократию нельзя победить...
«Я вообще верю в счастливую судьбу поэзии в мире. Она приобретает все большее значение как непосредственный способ общения людей», — сказал Хосе Агустин Гойтисоло, отвечая на вопросы корреспондента нашей «Литературной газеты».
«Непосредственный способ общения людей...» Я перечитываю стихи прекрасных испанских поэтов и думаю, как же это верно и точно сказано моим другом.
Л-ра: Иностранная литература. – 1982. – № 1. – С. 239-243.
Критика