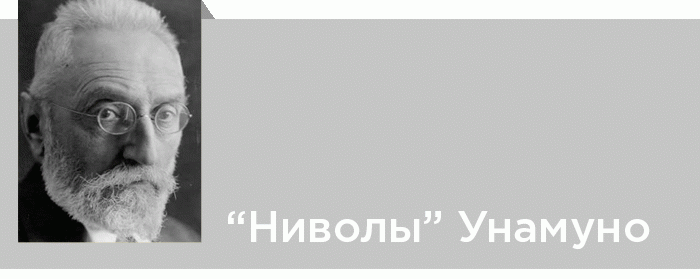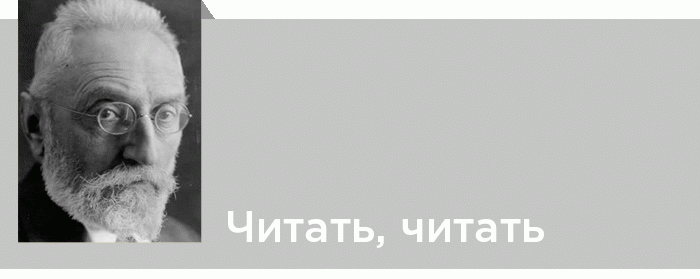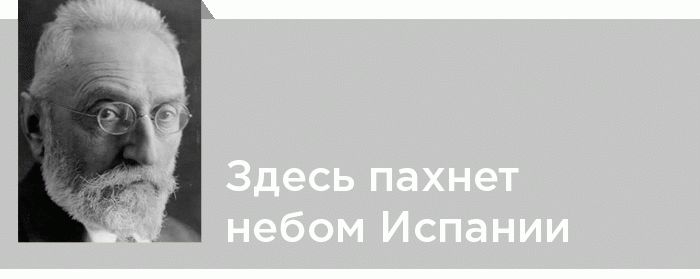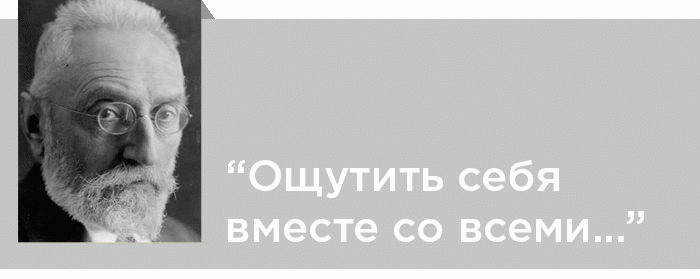«Только будущее суще...»
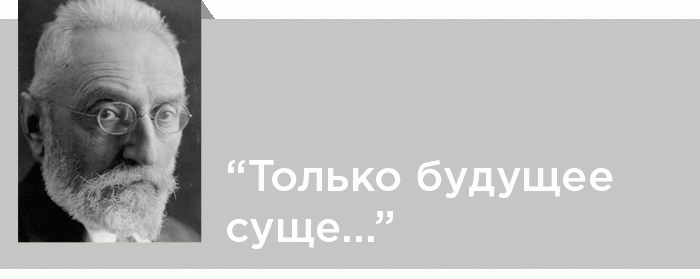
В. Силюнас
Тому, кто возьмет в руки эту небольшую книжку, предстоит встреча с одной из грандиозных фигур не только испанской, но и мировой культуры XX века, знакомых нашему широкому читателю пока еще мало. Правда, в 1962 г. вышел составленный В. Столбовым сборник прозы Унамуно «Назидательные новеллы», в 1973 г. в серия «Библиотека всемирной литературы» была перепечатана повесть «Абель Саннес» и впервые опубликован перевод повести «Туман».
Между тем в течение десятилетий немало испанцев соотносило происходящее не только в литературе, но и в жизни страны с именем дона Мигеля де Унамуно (1864-1936) едва ли не с такой непременностью, с которой соотносили российскую действительность с именем Льва Толстого.
Влияние уроженца баскского города Бильбао, ставшего одним из духовных вождей передовой, критически мыслящей испанской интеллигенции, ректором старейшего саламанкского университета, отчасти объяснялось разносторонностью дарования Унамуно — философа, прозаика, поэта, ученого-филолога, публициста, драматурга. При этом границы между жанрами у него не только весьма подвижны, но порой и вовсе стерты: повесть переходит в драматический диалог, драма — в философский диспут, эссе — в стихотворение в прозе. Он попирал эти границы, желая уничтожить разделение между чувством и мыслью («Я думаю чувством и чувствую мыслью» — так звучит начало его «Поэтического кредо» в переводе С. Гончаренко). Одно лишь чувство — это жизнь без сознания, в сущности, и не жизнь, а вегетативное существование («Тот, кто остается лишь плотью, никогда не станет жизнью», — читаем мы во втором стихотворении посмертного поэтического дневника «Кансионеро»); но и сплошное умствование — не жизнь, а лишь последовательность никуда не ведущих логических операций — то, что Гамлет называл «бесплодьем умственного тупика».
Еще в 1902 г. в предисловии к роману «Любовь и педагогика» Унамуно писал, что если он «ополчается против интеллектуализма, то потому, что страдает от него как немногие из испанцев от него страдать могут». Интеллектуальный художник, он видел, что интеллект может абстрагироваться от человека в его целостности и неповторимости и в конечном итоге от его человечности. В первом романе Унамуно «Мир во время войны» (1897 г.) лишенные чувства реальности проекты заводят в бессмысленную бойню. Преследуя неукоснительные педагогические принципы, дон Авито в «Любви и педагогике» загоняет своих детей в гроб. Прекраснодушно-идеализированные представления о человеке буквально убивают его в драме «Тени сна» (1926 г.). Лишь в том случае, когда человек предается взволнованной мысли, думает «всем телом и всей душой, кровью, костным мозгом, сердцем, легкими, животом, жизнью», можно, как это делает Унамуно в узловом своем лирико-философском сочинении «Трагическое чувство в жизни людей и народов», сказать, что «мир существует для сознания» — фраза, весьма показательная для художника, умеющего, однако, прислушиваться к голосам жизни, учитывающего ее права, ее переменчивые и прихотливые порывы и настроения.
Искусство столь важно для него потому, что оно рождается как бы на пересечении идеи и реальности, плоть здесь просвечивается мыслью, а мысль обретает плоть и непреложно показывает, что она такое на деле. Но особые преимущества имеет поэзия — полезность истин для человека поэт проверяет на самом себе, всем строем своих чувств. В его словах, как говорится в 89-м стихотворении «Кансионеро», сохраняется тепло души и крови, как в камне, брошенном пращой, — жар и дрожь руки. В рецензируемой книге, одно из достоинств которой тщательно продуманное составление, стихотворение, помещенное в качестве эпиграфа, кончается строчками:
Взяв эту книгу, ты берешь меня. И если — дрожь по коже, то знай, читатель: это тоже тебя моя колотит дрожь.
«Слова — это сердечные удары, это волны морские», — говорит писатель в 153-м стихотворении «Кансионеро», раскрывая свое представление о поэтическом ритме. Поэзия Унамуно — свидетельство его доверия к органике, к пульсу жизни, подобному морскому приливу и отливу, к его стихийным проявлениям (эта сопряженность человека и природы прекрасно передана в переводе стихотворения «Близится, нарастая, эхо морского гула»).
Но человек в унамуновском творчестве не только опирается на природу, но и «венчает» ее. «Ты хочешь что-то сказать? Повремени, и ритм сам подскажет тебе мысль...»
Переходя от стиха к стиху, мы замечаем, как пейзаж будит воображение Унамуно: он открывает «поэтическую истину», заключенную в пейзаже, как бы опрокидывающемся во внутренний мир художника, неоднократно восклицавшего: «Углубляйся в себя!»
Природа — и подмостки и участник «театра сознания», разыгрывающегося, как сказал бы Гамлет, перед «очами души». Но, как и в любом театре, в нем все держится на действии. «Театр сознания» — свидетельство неугасающей, непрерывной духовной деятельности. И вместе с тем это экран летучих представлений, призрачных при всей своей яркости и остроте. Но если им суждено рассеяться, как миражу, то не значит ли это, что вся наша внутренняя работа напрасна и вся наша духовность ни к чему? Унамуно понимает, что стоит перед будоражащим противоречием: образы художественного сознания и быстротечны и неизгладимы, и иллюзорны и действительны одновременно; подвижная, как ртуть, и эфемерная творческая деятельность создает нечто стойкое, преходящее оказывается неотторжимым от вечного.
Вечность — вот что стремится открыть и утвердить в человеке темпераментный испанец. Человек — создатель прежде всего, он творит самого себя и творит навсегда, обогащая мир — такова основа унамуновского гуманизма. И Унамуно выступает как личный противник смерти, как кровный и заклятый ее враг. Сказывалась тут и чрезмерная подчас сосредоточенность на своем внутреннем «я» и мучительная боязнь, что смерть унесет с собою все. Но прежде всего проявлялась забота о судьбе духовных ценностей. И еще — желание схлестнуться со всепоглощающей стихией уничтожения, с бушующим грозным Ничто, бросить вызов небытию. Подобно Прометею, укравшему огонь у небес, он хочет добыть для людей бессмертие, наделить человека божественными прерогативами (то, что в постоянных размышлениях Унамуно о боге таились богоборческие мотивы, увидел чуткий в этих вопросах Ватикан, включивший многие его сочинения в списки запрещенных книг). К чеховскому «человеку нужен весь земной шар!» прибавляется унамуновское «и вся вечность!».
Впрочем, активность жизни перед лицом агрессивной смерти весьма распространенная в испанском искусстве XX века тема, которую разрабатывали и Валье Инклан и Гарсиа Лорка; унамуновский акцент заметен в напряженном спиритуализме и в особом подчеркивании прямо-таки титанического величия человека. «Каждый человек, — пишет он, — является действительно единственным и незаменимым... каждый из нас стоит целой вселенной!» И то, что может показаться пережитком обветшалого индивидуализма, на деле продиктовано благородным убеждением: необходимостью отстоять личность в условиях глубокого кризиса культуры, когда для одних люди не более чем пушечное мясо в окопах мировой войны, для других — лишь игрушки темного подсознания и прочих фатальных сил, для третьих — послушное стадо, безликая масса. Унамуно — певец личности, являющейся центром мира (см. 199-е стихотворение «Кансионеро»), для него «имя — это Бог» («Кансионеро», 970), ибо он категорически не приемлет сведения человека к безымянной особи.
Подлинная личность, подчеркивает он, все пропускает через собственную призму, она автономна, и вместе с тем ее горделивое достоинство не в том, что она поднимается над другими, а в том, что она чувствует себя заодно с ними.
Ты лишь тогда святое слово скорби
произнести сумеешь как пароль,
достоинства при этом не утратив,
когда тебя насквозь пронзает боль,
пронзившая насквозь твоих собратьев,—
в переводе С. Гончаренко в высшей мере уместно появление слова «достоинство», хотя его и нет в строчках оригинала. Чувство общей боли подвигало Унамуно осознать свою причастность судьбе народа в его прошлом и настоящем. «Фашизм», «Доктор Примо де Ривера!..», «Правителям Испании» и другие стихотворения, с которыми ныне может познакомиться читатель, — выражение мужественной позиции, которую занял выдающийся писатель в годы диктатуры Примо де Ривера (1923-1930), явившейся как бы генеральной репетицией фашистского строя.
Путь от «я» к «мы» оказывался для него нередко извилистым. Но он не знал более заманчивой, хоть и предельно трудной задачи, чем отозваться и воплотиться в других, себя не теряя. Любой переводчик Унамуно тем самым исполняет заветнейшее желание писателя — помочь ему остаться нетленным, обретая новое бытие в дополнительной армии читателей. Правда, тот, кто берется за это, должен обладать незаурядной решимостью. Ибо стихи Унамуно — мгновенные вспышки, рентгеновские Снимки, высвечивающие фрагменты в глубине его неустанно работающего сознания (так, в «Кансионеро» мы находим девять стихотворений, помеченных 14 марта 1928 г., восемь — 9 марта 1929 г., и т. д.). Понять каждый из этих фрагментов можно, лишь имея в виду целое, — и легко представить, сколь в данном случае оно противоречиво.
Сергей Гончаренко проявил себя художником, чутким к антагонистическому существу беспокойного, гордящегося тем, что он сеет тревогу, испанца. Пожалуй, Унамуно выглядит не столь суровым, как в оригинале (так, в стихотворении «Музыка» он говорит, что желает, чтобы образы отбрасывали тень и «в моей руке трещали их кости», в переводе же сказано куда мягче: «хочу, чтобы образ плотью оброс»). Но это, пожалуй, закономерно. Ведь глубокие свои рассуждения Унамуно выражал в строчках, отмеченных такой простотой, что при буквальном переводе они могут показаться предельно прозаичными. Строгая сдержанность грозит обернуться леденящей сухостью, а оттенок умозрительности — поглотить все остальные краски.
Гончаренко стремится прежде всего выявить лирическое свечение унамуновской мысли и добивается удивительно свежего звучания. Порой он повышает «эмоциональный градус» стиха. В стихотворении Унамуно «Юный слог мой, ты старомоден», буквально, говорится: «Я буду воссоздавать прошлое; прошлое не умерло; река моя возвращается к своим истокам, творение вечно», у Гончаренко:
Стало будущее минувшим,
но не гаснет его горенье.
Море ливнем впадает в реки.
Продолжается сотворенье.
В переводе стихотворения «Кастилия», в третьей строфе которого автор говорит, что солнце находит в кастильской земле свою колыбель, могилу и святилище, у переводчика мы находим; «где солнце высекает искры словно огонь — огниво» — тяга к более пламенному здесь ощутима почти буквально. Дополнительную экспрессию сообщает переводчик и стихотворению «Нагрянет ночью»; не случайно в его названии «Vendrá» переводится не как «придет», а как «нагрянет»; там, где у Унамуно буквально «время медлит и ждет», у Гончаренко мы читаем: «во тьме сжимает, как пружину, время» — все произведение становится более пружинистым, и оказываются уместными те повышенно - выразительные обороты, которых нет в оригинале: «весть лютая», «свет кромешный» и др.
Если в «Нагрянет ночью» сгущен драматизм, то в переводе стихотворения «Саламанка! Саламанка!..» энергично выявлено светлое, игровое начало. Словом, на каждом шагу мы видим работу не копииста, а страстного интерпретатора. Гончаренко часто словно высвобождает унамуновский темперамент из-под сдавливающей его логической конструкции, убирает «строительные леса» схематически четкого и одновременно беглого наброска для того, чтобы слово поэта стало более непосредственным и заразительным. И оно в самом деле льется непринужденно в русских стихах, и эта естественность — свидетельство дара переводчика и органического сближения испанской культуры с нашей отечественной поэтической традицией. Вряд ли ошибусь, сказав, что раздумья Унамуно о жизни, смерти и бессмертии, о характере и предназначении искусства найдут живой отклик у самой широкой аудитории.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1981. – № 3. – С. 58-60.
Критика