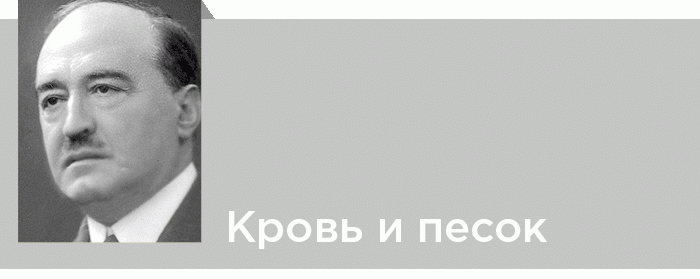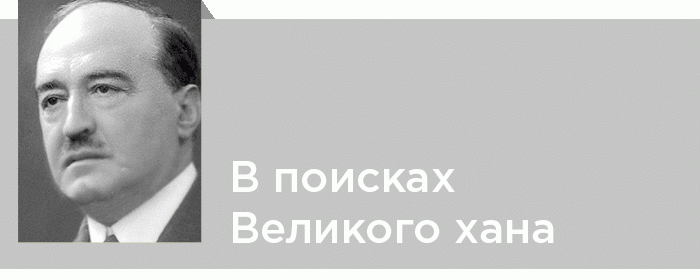Рамон Мария дель Валье-Инклан. Сонаты: Записки маркиза де Брадомина

(Отрывок)
СЕНЬОРУ МАРКИЗУ ДЕ БРАДОМИНУ ОТ ЕГО ДРУГА РУБЕНА ДАРИО
Божественный маркиз, тебя смиренно
Приветствую. Октябрь. Версаль туманный.
Аллеи. Людно. Холодно… Фонтана
Молчит струя, пленявшая Верлена.
Я долго перед мраморной Каменой
Стоял один, уныньем обуянный.
Вдруг крыльев шорох — и, по связи странной,
Мне о тебе подумалось мгновенно.
Версаль скорбящий, мраморное чудо,
Вспорхнувший голубь, праздных толп круженье,
И в памяти — узоры тонкой прозы
И твой триумф недавний… Но не буду
В подробности вдаваться — восхищенье
Мое прими: кустов осенних розы.
Рубен Дарио
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Книга эта является частью «Приятных записок», которые уже совсем седым начал писать в эмиграции маркиз де Брадомин. Это был удивительный донжуан. Может быть, самый удивительный из всех! Католик, некрасивый и сентиментальный.
ВЕСЕННЯЯ СОНАТА
Начало темнеть, когда наша почтовая карета оставила позади Саларийские ворота и мы поехали по равнине, полной неясных и таинственных звуков. То была классическая итальянская равнина с ее виноградниками и оливковыми рощами, с руинами акведуков и мягкими очертаниями холмов, округлых как женские груди. Карета катилась по старой мощеной дороге. Мулы потрясали своей увесистою упряжью, и, в ответ на веселый прерывистый звон колокольчиков, в цветущих рощах пробуждалось далекое эхо. По краям дороги то и дело попадались старинные могилы; печальные кипарисы укрывали их своей благодатною тенью.
Карета катилась по старой дороге, и глаза мои, уставшие вглядываться во тьму, начали понемногу слипаться. В конце концов я уснул и проснулся лишь на заре, когда очертания луны, совсем уже бледной, таяли в небе. Вскоре, все еще скованный сном и холодом ночи, я услышал пение петухов и журчание ручейка, который, казалось, пробуждался вместе с солнцем. Вдали, на бледном розовеющем небе, вырисовывались черные силуэты зубчатых стен. То был старинный, благородный, благочестивый город Лигурия.
Мы въехали в город через Лаурентинские ворота. Карета катилась медленно, и колокольчики наших мулов пробуждали на пустынных, поросших травою улицах эхо, казавшееся какой-то насмешкой, едва ли не кощунством. Три похожие на тени, сгорбленные старухи ждали у дверей церкви, все еще запертой, хотя в других церквах звонили уже к ранней мессе. Карета выехала на улицу садов, больших домов и монастырей, старинную улицу, вымощенную плитами, гулко разносившими каждый звук. Под темными карнизами крыш порхали воробьи, а в глубине улицы, в нише, догорала лампада. Мулы шагали не спеша, и мне удалось хорошо разглядеть статую мадонны. На коленях у нее был младенец. Он весело вытянул ручонки, чтобы достать ими рыбку, которую мать его держала в руке и показывала ему, словно играя с ним в игру простосердечную и блаженную. Карета остановилась. Мы оказались у ворот Клементинской коллегии.
То были счастливые времена папы-короля, и Клементинская коллегия сохраняла все свои былые прерогативы, привилегии и доходы. В то же время это была обитель знаменитых мужей, которую называли также «сокровищницей наук». Ректором ее долгие годы был знаменитый прелат, монсиньор Стефано Гаэтани, епископ бетулийский, происходивший из рода князей Гаэтани. Для этого-то мужа — воплощения евангельских добродетелей и теологической премудрости — я и привез кардинальскую шапочку. Его святейшеству было угодно оказать мне в мои молодые годы великую честь, избрав меня из числа своих гвардейцев для этой почетной миссии. Я происхожу из рода Бибьена ди Риенцо по линии моей бабки со стороны отца, Джулии Альдегрины, дочери князя Массимо ди Бибьена, отравленного в 1770 году знаменитой актрисой Симонеттой де ла Кортичелли, которой отведена пространная глава в «Мемуарах» кавалера де Сентгальта.
Два педеля в сутанах и шапочках прогуливались по дворику. Оба были стары и церемонно вежливы. Увидев меня, они устремились мне навстречу:
— Великое несчастье, ваша светлость! Великое несчастье!
Я остановился и посмотрел на того и другого:
— Что случилось?
Оба педеля вздохнули. Один из них начал:
— Наш досточтимый ректор…
Другой, весь в слезах, назидательным тоном его поправил:
— Возлюбленный наш отец, ваша светлость! Наш любимый отец, наш учитель, наш пастырь умирает. Вчера, будучи в доме сестры, он почувствовал себя плохо…
И тогда другой педель, который молчал и только утирал слезы, в свою очередь, поправил его:
— У княгини Гаэтани. Испанки, которая была замужем за старшим братом его высокопреосвященства, князем Филиппо Гаэтани. Года еще не прошло, как он погиб на охоте. Еще одно великое несчастье, ваша светлость!..
Я не дал ему договорить и нетерпеливо спросил:
— Монсиньора перевезли в коллегию?
— Княгиня не согласилась. Я ведь уже сказал вам, что он при смерти.
Я горестно опустил голову:
— Да свершится воля господня!
Оба педеля благочестиво перекрестились.
В глубине галереи строго прозвучал серебряный колокольчик, словно призывая к литургии. Люди шли со святыми дарами к монсиньору; оба педеля обнажили головы. Вскоре под сводами вереницей потянулись семинаристы — это было длинное шествие гуманитариев и теологов, бакалавров и докторов. Они проходили двумя рядами и глухо бормотали молитвы. Скрещенными руками они прижимали к груди шапочки; развевающиеся полы накидок скользили по каменным плитам. Преклонив колена, я смотрел, как они проходят мимо. Бакалавры и доктора разглядывали меня. Мой плащ папского гвардейца, не оставлял сомнений насчет того, кто я такой, и они шепотом переговаривались об этом друг с другом. После того как все прошли, я поднялся с колен и направился вслед за ними. Колокольчик, возвещавший о соборовании, звучал уже на углу улицы. Время от времени какой-нибудь благочестивый старец выходил из дома с зажженной лампадой в руке и, осенив себя крестным знамением, присоединялся к процессии. Мы остановились на пустынной площади напротив дворца, все окна которого были освещены. Процессия постепенно заходила в просторный вестибюль. Под сводами здания гул толпы стал тише, и серебряный звук колокольчика победоносно воспарил над приглушенными, едва слышными голосами.
Мы поднялись по парадной лестнице. Все двери были открыты, и старые лакеи со свечами в руках повели нас по безмолвным залам. Спальня, где умирал монсиньор Стефано Гаэтани, была погружена в таинственный полумрак. Прелат лежал на старинной кровати под шелковым пологом. Глаза его были закрыты. Голова глубоко провалилась в подушки, и его гордый профиль римского патриция вырисовывался во мраке, неподвижный, мертвенно-бледный и словно изваянный из мрамора. В глубине комнаты, возле алтаря, на коленях молились княгиня и ее пять дочерей.
Княгиня Гаэтани, белокурая женщина с нежным цветом лица, была еще хороша собой; у нее были ярко-красные губы, руки ослепительной белизны, золотистые глаза и золотистые волосы. Заметив мое появление, она впилась в меня изумленным взором и слегка улыбнулась горестною улыбкой. Я поклонился и стал разглядывать ее. Княгиня Гаэтани напомнила мне портрет Марии Медичи, написанный во время ее бракосочетания с королем Франции и принадлежавший кисти Петера Пауля Рубенса.
Когда священник, принесший святые дары, приблизился к кровати, монсиньор лишь слегка приоткрыл глаза и немного приподнялся на подушках. Как только он приобщился святых тайн, голова его снова бессильно упала, но едва шевелившиеся губы все еще продолжали благоговейно шептать слова латинской молитвы. Процессия стала тихо удаляться. Вышел из спальни и я. В прихожей меня остановил один из келейников монсиньора:
— Вы, верно, посланный его святейшества?
— Да. Я маркиз де Брадомин.
— Княгиня мне это только что сказала.
— Княгиня меня знает?
— Она знала ваших родителей.
— А когда я смогу засвидетельствовать ей свое почтение?
— Княгиня желает говорить с вами сейчас же.
Мы удалились в амбразуру окна, чтобы продолжить наш разговор. Когда последние посетители ушли и прихожая опустела, я невольно бросил взгляд на двери спальни и увидел княгиню, которая вышла оттуда вместе со своими дочерьми; кружевным платком она вытирала слезы. Я подошел к ней и поцеловал ей руку. Она прошептала:
— При каких печальных обстоятельствах мы увидались с тобою, дитя мое.
Голос княгини Гаэтани пробудил в моей душе целый мир далеких воспоминаний, смутных и несказанно счастливых, какими бывают воспоминания детства. Княгиня продолжала:
— А мать свою ты помнишь? Мальчиком ты был очень похож на нее, теперь — нет… Сколько раз ты сидел у меня на коленях! Ты не помнишь меня?
— Голос ваш мне знаком, — нерешительно пробормотал я.
И замолчал, погрузившись в воспоминания. Княгиня Гаэтани все смотрела на меня и улыбалась. И вдруг, вглядываясь в глубину ее таинственных золотистых глаз, я угадал, кто она такая. Я, в свою очередь, улыбнулся.
— Ну как, вспомнил? — сказала она.
— Да, как будто.
— Так кто же я?
Я снова поцеловал ей руку и тотчас ответил:
— Вы дочь маркиза де Агара.
Вспомнив свои молодые годы, княгиня печально улыбнулась и представила мне своих дочерей:
— Мария-дель-Росарио, Мария-дель-Кармен, Мария-дель-Пилар, Мария-де-ла-Соледад, Мария-де-лас-Ньевес. Все пять — Марии.
Одним общим поклоном я почтительно поздоровался со всеми. Старшая, Мария-дель-Росарио, была двадцатилетней девушкой, младшая — Мария-де-лас-Ньевес — пятилетнею девочкой. Все пять показались мне красивыми и очень милыми. Мария-дель-Росарио была бледнолицей, с черными, томными, полными огня глазами. У других, в общем похожих на мать, и глаза и волосы были золотистого цвета. Княгиня села на широкий, обитый красным дамасским шелком диван и вполголоса начала со мной разговаривать. Дочери ее тихо удалились и на прощание улыбнулись мне застенчиво, и вместе с тем приветливо. Мария-дель-Росарио вышла последней.
Если не ошибаюсь, тогда улыбнулись мне не только губы ее, но и глаза, но с тех пор прошло уже столько лет, что полной уверенности у меня в этом быть не может. Помню только, что когда она удалилась, я почувствовал, что на душу мне ложится какая-то безотчетная, смутная грусть. Княгиня, на мгновение забывшись, глядела на двери, за которыми скрылись ее дочери, и потом со всем обаянием женщины благочестивой и светской сказала:
— Теперь ты их знаешь!
— Они так же хороши собой, как их мать, — сказал я с поклоном.
— Они добрее, а это значит гораздо больше.
Я ничего не ответил, ибо всегда считал, что в женщине доброта души — качество еще более эфемерное, чем красота тела. Но эта бедная синьора была иного мнения. Она продолжала:
— Мария-Росарио через несколько дней уйдет в монастырь. Да поможет ей господь стать второй Беатой Франческою Гаэтани!
— Но ведь это разлука не менее страшная, чем смерть, — внушительно сказал я.
Княгиня не дала мне договорить.
— Разумеется, это очень тяжело, но вместе с тем утешаешь себя мыслью, что никакие мирские соблазны, никакие опасности не будут угрожать любимому существу. Если бы все мои дочери стали монахинями, я с легким сердцем проводила бы их. К сожалению, не все они такие, как Мария-Росарио.
Замолчав, она глубоко вздохнула; взгляд ее сделался рассеянным, и мне показалось, что где-то на самом дне ее золотистых глаз вспыхнул темный и трагический огонек фанатизма.
В эту минуту один из келейников, дежуривших у постели монсиньора Гаэтани, показался в дверях спальни и замер в нерешительности, боясь нарушить наше молчание, пока княгиня сама не удостоила спросить его, наполовину приветливо, наполовину высокомерно:
— В чем дело, дон Антонио?
Дон Антонио в лицемерном благоговении сложил руки и сощурил глаза.
— Дело в том, ваша светлость, что монсиньор хочет поговорить с посланцем его святейшества.
— А разве монсиньор знает о его прибытии?
— Да, знает, ваша светлость. Он заметил его, когда принимал святые дары. Хоть и можно было подумать, что он в забытьи, в действительности монсиньор ни на минуту не терял сознания.
Я поднялся. Княгиня протянула мне руку, которую, как ни печальна была эта минута, я поцеловал скорее галантно, нежели почтительно. Потом я вошел в спальню, где умирал монсиньор.
Досточтимый прелат воззрился на меня угасающим взглядом. Он хотел благословить меня, но рука его бессильно опустилась на грудь и скорбная слеза тихо скатилась по щеке.
В тишине спальни были слышны только хрипы умирающего. Спустя несколько мгновений монсиньор, задыхаясь, пробормотал:
— Синьор капитан, я хочу, чтобы вы засвидетельствовали мою благодарность его святейшеству…
Он умолк и долго пролежал с закрытыми глазами. По его пересохшим синеватым губам прошел какой-то трепет. Казалось, что губы эти силятся произнести слова молитвы. Снова открыв глаза, монсиньор продолжал:
— Часы мои сочтены. Почести, величие, высокое положение, к которым я стремился в моей жизни, — теперь, в эти последние часы, все это на глазах у меня превращается в горсточку пепла. Господь, наш отец, не покидает меня, он являет мне суровую и неприкрытую правду всего сущего… Я погружаюсь уже в волны мрака, но душа моя озарена внутренним светом, безмерной ясностью благодати божьей…
Он снова вынужден был остановиться и, обессилен, закрыл глаза. Один из келейников подошел к нему и тихо, благоговейно вытер тонким батистовым платком его потный лоб. Потом, подойдя ко мне, прошептал:
— Синьор капитан, монсиньору нельзя говорить.
Я кивнул головой. Епископ приоткрыл глаза и посмотрел на нас обоих. Губы его что-то невнятно зашептали. Наклонившись к нему, я старался разобрать слова, но не мог. Келейник неслышно отвел меня в сторону и, наклонившись над умирающим, учтиво, но решительно сказал:
— Ваше преосвященство, вам надо сейчас отдохнуть! Вы не должны говорить…
Прелат жестом пытался удержать меня. Келейник снова вытер ему лоб платком, и его проницательный взгляд клирика-итальянца дал мне понять, что разговор продолжаться не может. Я и сам так думал и поэтому, почтительно простившись, направился к двери. Келейник снова уселся в стоявшее у изголовья кровати кресло и, незаметно подобрав полы рясы, приготовился погрузиться в раздумье, может быть даже в дремоту. Но в ту же минуту монсиньор заметил, что я собираюсь уйти. Напрягши последние силы, он приподнялся и окликнул меня:
— Не уходи, сын мой! Я хочу, чтобы ты отвез мою исповедь его святейшеству папе.
Он выждал, пока я подойду к нему снова, и, устремив взор на белый алтарь в углу, начал:
— Господи, я скорблю о своем грехе, и мне стыдно покаяться в нем! Но да послужат во искупление его и скорбь эта и этот стыд!
Глаза прелата наполнились слезами. Голос его стал прерывистым и хриплым. Келейники окружили кровать и стояли, низко склонив головы. Все были глубоко удручены и, казалось, заранее прониклись благоговением, чтобы выслушать покаяние, которое собирался принести перед ними умирающий епископ бетулийский. Я стал на колени. Прелат молча творил молитву, не сводя глаз со стоявшего на алтаре распятия. По его бледным щекам струились слезы. Спустя несколько мгновений он начал так:
— Греховные помыслы мои берут начало с тех дней, когда монсиньор Феррати известил меня, что его святейшество хочет посвятить меня в кардиналы. Как немощна природа человека! Из какой хрупкой глины все мы сотворены! Я был убежден, что мое княжеское происхождение значит больше, чем все знания и достоинства других претендентов. В душе мой зародилась гордость, самая страшная из искусительниц; я вообразил, что в один прекрасный день мне будет дана власть над всем христианским миром. В роду нашем были папы и святые, и я полагал, что смогу стать таким, как они. Вот как ослепляет нас дьявол! Я сам был уже стар и, однако, надеялся, что смерть другого поможет мне достичь моей цели. Господу нашему не было угодно, чтобы я облачился в священный пурпур, но когда до слуха моего стали долетать неопределенные и тревожные вести, я испугался, что со смертью его святейшества, которой так все боялись, надежды мои рухнут. Господи, я осквернил алтарь твой, моля тебя о том, чтобы ты продлил эту драгоценную жизнь ради того только, чтобы смерть его святейшества наступила позднее, тогда, когда она могла бы меня осчастливить. Господи, ослепленный дьяволом, я до сегодняшнего дня не сознавал, сколь я греховен! Господи, ты, который читаешь все, что начертано в глубине сердец, ты, который знаешь грех мой и раскаяние мое, не оставь меня милостью своей.
Он замолчал, и все тело его передернулось в предсмертных судорогах. Он говорил тихим голосом, в котором слышалась спокойная, умиротворенная скорбь. Глазницы его, казалось, стали шире; всё глубже западавшие глаза подернулись тенью смерти. Умирающий лежал простертый, безразличный ко всему, закинув голову; рот его был полуоткрыт, грудь вздымалась. Все стояли на коленях, не зная, что делать, не решаясь ни обратиться к нему, ни даже пошевелиться, чтобы не нарушить этот покой, который сам по себе уже вселял в нас ужас. Внизу по-прежнему слышно было неумолчное всхлипывание фонтана и голоса игравших вокруг детей: они напевали старинную песенку, томную и грустную. Луч утреннего апрельского солнца сверкал на священных сосудах алтаря; вполголоса молились келейники; когда они слышали голос приора, которого мучила совесть, души их преисполнялись благоговением. Меня, грешного, начинало клонить ко сну — ведь всю ночь я провел в карете, а столь долгие переезды до крайности утомительны.
Выходя из комнаты, где умирал монсиньор Гаэтано, я столкнулся со старым и церемонно-вежливым мажордомом, который ждал меня у дверей.
— Ваша светлость, княгиня послала меня, чтобы я показал вам приготовленные для вас покои.
Я почувствовал, что дрожу, и едва совладал с собой. В воздухе повеяло каким-то неуловимым ароматом весны, и я вдруг ощутил рядом с собою присутствие всех пяти дочерей княгини. Мне было очень приятно думать, что я буду жить во дворце Гаэтани. И, однако, я набрался мужества и отказался:
— Передайте вашей госпоже, княгине Гаэтани, что я очень ей благодарен, но что я остановился в Клементинской коллегии.
Мажордома мой ответ поразил:
— Ваша светлость, поверьте мне, вы очень этим огорчите княгиню. Но даже если вы отказываетесь, я все равно должен буду доложить ей о вашем решении — так мне приказано. Благоволите подождать несколько минут, пока окончится месса.
Я покорно сложил руки:
— Не говорите ей ничего. Господь простит меня, если я предпочту этот дворец с его пятью заколдованными красавицами суровым богословам Клементинской коллегии.
Мажордом посмотрел на меня удивленно, словно не веря. Потом он как будто хотел заговорить со мной, но, после некоторых колебаний, начал с того, что, улыбнувшись, показал мне дорогу. Я последовал за ним. Это был старик, бритый, одетый в длинный подрясник, почти касавшийся украшенных серебряными пряжками башмаков. Его звали Полонио; ходил он на цыпочках, бесшумно и каждую минуту оборачивался и обращался ко мне с какими-нибудь словами голосом тихим и таинственным.
— Трудно надеяться, что монсиньор выживет… — Сделав несколько шагов, он добавил: — Девять дней подряд творил я молитвы божьей матери. — Пройдя еще немного, он сказал, раздвигая драпировку: — Я должен был это сделать. Монсиньор обещал отвезти меня в Рим. Господь не привел! Господь не привел! — воскликнул он, продолжая идти.
Так мы прошли прихожую, полутемную гостиную и совершенно пустовавшую библиотеку. Тут мажордом остановился перед запертой дверью и стал шарить в широких карманах:
— Господи Иисусе! Я потерял ключи… — Он продолжал рыться в карманах. Наконец ключ был найден. Мажордом отпер дверь и пропустил меня вперед: — Княгине угодно, чтобы вы располагали гостиной, библиотекой и этой вот комнатой.
Я вошел. Комната, в которой я очутился, показалась мне похожей на ту, где лежал монсиньор Гаэтани. Такая же просторная, тихая, со старинными портьерами из алого дамасского шелка. Я бросил на кресло мой плащ папского гвардейца и стал разглядывать висевшие на стене картины. Все это были старинные холсты флорентийской школы, изображавшие библейские сцены: Моисей, спасенный из вод, Сусанна и старцы, Юдифь с головой Олоферна.
Чтобы я мог получше их рассмотреть, мажордом обежал всю комнату и отдернул занавеси на окнах. Потом он умолк, дав мне возможность погрузиться в созерцание. Он только следовал за мной по пятам как тень, не переставая улыбаться своей странной, назидательною улыбкой. Решив, что я налюбовался картинами вдоволь, он подошел ко мне на цыпочках и сказал голосом, который стал еще более вкрадчивым и таинственным:
— Ну что, каковы? Все они — кисти одного и того же художника! И какого художника!
— По всей вероятности, Андреа дель Сарто! — воскликнул я.
Лицо синьора Полонио приняло серьезное, почти торжественное выражение:
— Их приписывают Рафаэлю.
Я еще раз обернулся к картинам. Синьор Полонио продолжал:
— Заметьте, что я говорю только «приписывают». По моему скромному разумению, это больше, чем Рафаэль! По-моему, это сам Божественный.
— А кто это Божественный?
Мажордом в совершенном изумлении развел руками:
— И вы еще спрашиваете, ваша светлость? Кто же это, как не Леонардо да Винчи?
И он умолк, поглядывая на меня с искренним сожалением. Я не мог сдержать насмешливой улыбки. Синьор Полонио сделал вид, что не заметил ее, и, хитрый как римский кардинал, льстиво сказал:
— До сегодняшнего дня я в этом не сомневался… Сейчас, должен признаться, усомнился. Может быть, вы и правы, ваша светлость. Андреа дель Сарто много работал в мастерской Леонардо, и в этот период оба они писали так похоже, что картины одного не раз уже приписывали другому. В Ватикане, например, есть мадонна с розой. Одни считают, что это Леонардо да Винчи, другие — что это Андреа дель Сарто. Мне думается, что писал ее муж донны Лукреции дель Феде, но потом несомненно подправил сам Божественный. Знаете, такое бывает нередко между учителем и учеником.
Мне надоело его слушать, и я не стал этого скрывать.
Окончив свою речь, синьор Полонио низко поклонился и, расставив руки, снова забегал от окна к окну, задергивая занавеси. Комната погрузилась в полумрак, который навевал сон. Синьор Полонио простился со мной совсем тихо, словно мы были в церкви, и вышел бесшумно, заперев за собою дверь. Я до того устал, что уснул еще до наступления вечера. Проснулся я с мыслью о Марии-Росарио.
В библиотеке было три двери, выходившие на мраморную террасу. В саду вечно юные голоса фонтанов, казалось, звучали сладостным аккомпанементом к мечте о любви. Я облокотился о перила и почувствовал, что в лицо мне пахнуло весной. Этот старый сад с его миртами и лаврами под лучами заходящего солнца был исполнен какой-то языческой прелести. В глубине сада показались пять сестер; они гуляли по лабиринту аллей, набрав полные подолы роз, словно девушки античных легенд. Вдали, усеянное множеством треугольных парусов, которые казались янтарными, расстилалось Тирренское море. Волны покорно замирали на золотистом песке. Звук раковин, которым рыбаки оповещали о своем возвращении, и хриплый рокот моря — все сливалось в одно с благоуханием старого сада, где в тени олеандров пять сестер рассказывали друг другу свои девичьи сны.
Все пять уселись на большой каменной скамье и стали плести венки. На плече Марии-Росарио сидела голубка, и я увидел в этом какой-то таинственный символ. В деревне по-праздничному звонили колокола; вдалеке, на вершине зеленого пригорка, вырисовывалась окруженная кипарисами церковь. Вокруг нее двигалась процессия; видны были носилки с фигурами святых в шитых золотом одеждах, горевших на солнце; алые хоругви, которые несли впереди, победоносно сверкали. Все пять сестер стали на колени прямо в траву и, продолжая держать розы, молитвенно сложили руки.
На деревьях пели дрозды, и песни их сплетались в едином отдаленном ритме, словно набегающие одна на другую волны моря, Сестры снова сели на скамейку. Они молча плели венки, связывали цветы в букеты; руки их, словно белые голуби, скользили среди пурпурных роз, а солнечные лучи, проникавшие сквозь листву, трепетали на них мистическим пламенем. Тритоны и сирены фонтанов смеялись своим химерическим смехом; юношеским задором журчали серебряные воды, струясь по илистым бородам древних морских чудовищ, которые низко наклонялись, чтобы целовать лежавших в их объятиях сирен. Сестры поднялись с мест, собираясь возвращаться во дворец. Они медленно шли по тропинкам лабиринта, словно околдованные принцессы, которым снится один и тот же сон. Когда они говорили между собою, голоса их растворялись в вечернем гуле, и слышен был только веселый смех, разливавшийся волнами под тенью классических лавров.
Когда я вошел в залу, все огни были уже зажжены. В тишине раздавался низкий голос старшего члена коллегии; он разговаривал с дамами, собравшимися на тертулию. Зала сверкала золотом; отделана она была во французском духе, с изысканною роскошью и изяществом. Амуры с гирляндами, нимфы в кружевах, галантные охотники и олени с ветвистыми рогами заполняли гобелены на стенах, а на консолях стройные фарфоровые герцоги-пастушки обнимали нежные талии пастушек-маркиз. На мгновение и остановился в дверях. Увидав меня, находившиеся в зале дамы вздохнули, а старший член коллегии встал:
— Разрешите мне, синьор капитан, приветствовать вас от имени всей Клементинской коллегии.
И он протянул мне свою пухлую белую руку, на которой, казалось, должен был бы уже сиять пастырский аметист. Как высшее духовное лицо, он носил бархатную ленту, которая придавала еще больше аристократической изысканности его величественной фигуре. Это был совсем еще молодой человек, но уже седой, с глазами, полными огня, орлиным носом и узким, резко очерченным ртом. Княгиня представила мне его движением руки, полным сентиментальной томности:
— Монсиньор Антонелли. Мудрец и святой!
Я поклонился.
— Мне рассказывали, княгиня, что римские кардиналы испрашивают совета монсиньора в самых трудных вопросах богословия. Добродетели его славятся повсюду.
Член коллегии прервал меня своим низким голосом, мягким и учтивым:
— Я всего лишь философ, разумея под философией, как древние, любовь к мудрости. — Он снова сел и, уже сидя, продолжал: — Видели вы монсиньора Гаэтани? Какое несчастье! Столь же великое, сколь и неожиданное!
Все пребывали в печальном молчании. Две пожилые дамы, обе одетые в очень строгие шелковые платья, одновременно одним и тем же голосом спросили:
— Нет никакой надежды?
Княгиня вздохнула:
— Нет… Разве только чудо…
Снова воцарилось молчание. В другом конце залы дочери княгини, усевшись в круг, вышивали парчовое покрывало. Они вполголоса говорили между собою и, низко склонив головы, улыбались друг другу. Одна только Мария-Росарио молчала и вышивала медленно, словно о чем-то мечтая; тихо дрожала вдетая в иглу золотая нить, и из-под пальцев пяти вышивальщиц рождались розы и лилии райского сада, которыми принято украшать церкви. Неожиданно среди этой тишины раздались три громких удара. Княгиня побледнела как смерть. Монсиньор Антонелли поднялся:
— Позвольте мне уйти. Я не думал, что сейчас так поздно… Разве уже заперли двери?
— Нет, их не запирали, — ответила княгиня дрожа.
— Верно, какой-нибудь наглец, — прошептали обе одетые в черный шелк пожилые дамы.
Они робко поглядели друг на друга, словно для того, чтобы набраться храбрости, и стали внимательно слушать, слегка дрожа. Удары послышались снова, на этот раз уже в самом дворце Гаэтани. Порыв ветра пронесся по зале, несколько свечей потухло. Княгиня вскрикнула. Все окружили ее. Она глядела на нас; губы ее дрожали, в глазах был испуг.
— Так было, — тихо сказала она, — когда умирал князь Филиппо. А он рассказывал, что так же было с его отцом.
В эту минуту в дверях появился синьор Полонио и замер на месте. Княгиня поднялась с дивана и вытерла слезы. Потом с гордым спокойствием спросила:
— Умер?
— Преставился!
В зале послышались стон и плач. Дамы окружили княгиню, которая, прижимая платок к глазам, бессильно опустилась на диван. Член коллегии перекрестился.
Мария-Росарио долго глядела на иголки и золотые нити глазами, полными слез. Наблюдая за ней с другого конца залы, я видел, как она наклонилась над маленьким резным ларчиком, который держала на коленях открытым. Губы ее чуть шевелились — должно быть, она шептала слова молитвы. Тени ресниц падали ей на щеку, и мне чудилось, что это бледное лицо дрожит где-то в глубинах моей души так, как в глубинах озера дрожит зачарованный лик луны. Мария-Росарио заперла свой ларец и оставила золотой ключик в замке. Потом она поставила его на ковер и взяла на руки самую маленькую девочку, плакавшую в испуге. Склонившись над ней, она поцеловала ее. Я видел, как белокурые детские локоны Марии-Ньевес упали на руку Марии-Росарио; сцена эта была полна простосердечной прелести старинных картин, тех, что писали монахи, благоговевшие перед святою девой. Девочка прошептала:
— Спать хочется!
— Позвать няню, чтобы она тебя уложила?
— Мальвина оставляет меня одну. Она думает, что я сплю, и потихоньку уходит, а когда я остаюсь одна, мне страшно.
Мария-Росарио поднялась, держа девочку на руках, и, словно тихая и бледная тень, скользнула по зале. Я кинулся раздвинуть портьеры. Мария-Росарио с опущенными глазами прошла, даже не взглянув на меня. Девочка, напротив, обратила на меня свои ясные, полные слез глаза и ласковым голосом сказала:
— Покойной ночи, маркиз. До завтра.
— Покойной ночи, милая.
С болью в сердце от презрения, которое выказала мне Мария-Росарио, вернулся я в залу, где княгиня все еще сидела, прижав к глазам платок. Явившиеся на тертулию старушки окружили ее и время от времени обращали свои благоразумные и наставительные речи к девочкам, которые тоже тихо вздыхали, но не так скорбно, как их мать.
— Дети мои, надо уложить ее спать.
— Надо заказать траур.
— Куда ушла Мария-Росарио?
Несколько раз вмешивался в разговор низкий и мягкий голос члена коллегии. Каждое слово его вызывало среди дам шепот восхищения. В самом деле, все, что изрекали его уста, казалось, было проникнуто богословской ученостью и христианской благостью. По временам он бросал на меня быстрый и проницательный взгляд, от которого я вздрагивал. Я понимал, что эти черные глаза хотят разгадать, что творится у меня в душе; я был единственным из всех, кто хранил молчание, и, быть может, единственным, кто был опечален. Впервые в жизни я ощутил, сколь велико может быть обаяние католических прелатов, и в памяти моей всплыли рассказы о любовных похождениях нашего собеседника. Должен признаться, что были минуты, когда я забывал о том, где нахожусь, и даже о седых волосах этих благородных дам, и что меня охватила ревность, неистовая ревность к члену коллегии. Я вздрогнул от неожиданности: среди всеобщего безмолвия он вдруг подошел ко мне. Фамильярно положив мне руку на плечо, он сказал:
— Дорогой мой маркиз, надо послать нарочного к его святейшеству.
Я склонил голову:
— Да, надо, монсиньор.
— Мне приятно думать, что вы со мной согласны, — ответил он с изысканною любезностью. — Какое великое несчастье, маркиз!
— Да, монсиньор, великое несчастье.
Мы внимательно посмотрели друг на друга, оба глубоко убежденные в том, что в одинаковой мере притворяемся, — и расстались. Член коллегии подошел к княгине, а я вышел из залы, чтобы написать письмо кардиналу Камарленго, должность которого исполнял тогда монсиньор Сассоферрато.
Критика