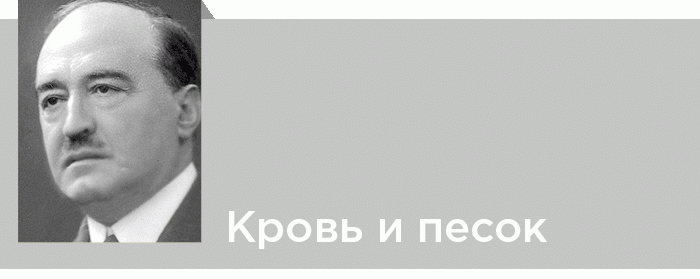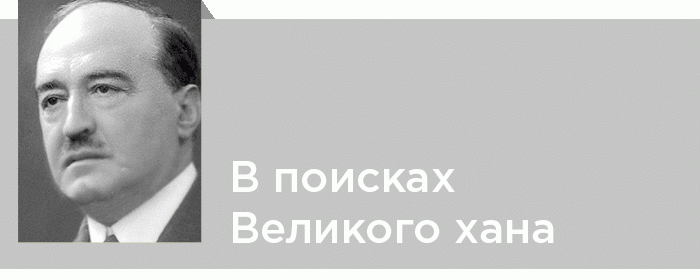Творчество Рамона дель Валье-Инклана в 1898-1917 гг.

В. Ю. Силюнас
Недостаточно изучено драматическое наследие Валье-Инклана, насчитывающее 19 произведений, хотя театральная практика блестяще доказывает непреходящую ценность драм Валье-Инклана.
Выходец из знатных, но обедневших галисийских дворян, Валье-Инклан сызмальства знал обычаи Галисии и ее фольклор; ее горные пейзажи и самобытные нравы навсегда запечатлелись в его памяти.
В 1890 г. он переезжает в Мадрид, а затем совершает путешествие в Мексику. Вскоре выходят его первые произведения — сборники новелл «Женщины: шесть любовных историй» (1894), «Двор любви» (1903) и др. В эту пору творчества Валье-Инклана тесно примыкает к испанскому модернизму, он зачитывается стихами Рубена Дарио.
Самый ранний драматургический опыт Валье-Инклана — пьеса «Пепел» — относится к 1899 г. Но лишь с появлением «Маркиза де Брадомина» Валье-Инклан получил известность в качестве драматурга.
«Маркиз де Брадомин» тематически и стилистически связан с первым снискавшим широкую известность произведением писателя — книгой повестей «Сонаты» (1901-1905). Эти произведения отмечены утонченной красивостью. Красива Италия, с образа которой начинается «Весенняя соната»: «Начало темнеть, когда наша почтовая карета оставила позади Саларийские ворота и мы поехали по равнине, полной неясных и таинственных звуков. То была классическая итальянская равнина с ее виноградниками и оливковыми рощами, с руинами акведуков и мягкими очертаниями холмов, округлых, как женские груди. Мулы потрясали своей увесистой упряжью, и, в ответ на веселый прерывистый звон колокольчиков, в цветущих рощах пробуждалось далекое эхо». Красиво путешествие на паруснике «Далила» к знойным берегам Южной Америки в «Летней сонате»: «Карибское море с его трепещущим изумрудным лоном, которое проницал взгляд, привлекало меня, чаровало, как чаруют зеленые неверные глаза фей, живущих в глубине озер, в хрустальных дворцах». Красив дворец Брандесо в стиле платереско — с эркерами, застекленными балконами, фонтанами и садами, — в котором живет печальная героиня «Осенней сонаты». Красива тоска поседевшего маркиза в «Зимней сонате», смотревшего, как «лучи утреннего солнца, бледного зимнего солнца, дрожали на стеклах узкого окна, сквозь которое видна была дорога, окаймленная двумя рядами голых тополей; за ними тянулась гряда темных гор с белыми пятнами снега».
Действие «Маркиза де Брадомина» протекает в саду Кончи, уже знакомом по «Осенней сонате». В одном из тех прекрасных, сказочных садов, разбитых крылатым воображением символизма, — словом, таких, которые Блок называл бы «соловьиными садами». «Заходящее солнце бросало свой золотистый отблеск на темно-зеленую, почти черную зелень деревьев — кедров и кипарисов, которые были сверстниками дворца. В сад вели сводчатые ворота. Карниз их был увенчан четырьмя щитами и гербами четырех древних родов — предков первого владельца».
«И сад и дворец были полны той старины, аристократической и грустной, которой отмечены места, где в былое время царили изысканные и галантные нравы. Под сенью этого лабиринта, на террасах и в залах раздавался веселый смех и звучали мадригалы; белые руки, те, что держат кружевные платки на старинных портретах, обрывали лепестки маргариток, хранящие тайны неискушенного сердца... Осененные прозрачным небом цвета геральдической лазури величественные кипарисы, казалось, хранили в себе все очарование монастырской жизни. Ласковый свет трепетал на цветах, как золотистая птица, и ветерок чертил на бархате травы фантастические узоры, словно это танцевали невидимые феи» 6. И герои вписываются в этот изысканный, порой даже вычурный пейзаж, как фигуры гобелена. Они играют декоративную роль, подчиняясь общей красочной композиции, и возникают как летучие символы музыкального и мечтательного воображения.
В том же символистско-музыкальном ключе создает Валье-Инклан и поэтические пьесы «Апрельская сказка», «Влюбленная в короля» и «Маркиза Росалинда».
В «Маркизе Росалинде» и диалог и ремарки написаны прекрасными изящными стихами: «в ритме пируэта рифмую мою прекрасную ложь», поясняет драматург в «Прелюдии» к пьесе.
Грациозным трахеем рисует он сад XVIII в., где клавесин играет павану, где луна повисает над подстриженными кустами мирта и зовет Лоэнгрина, в тени вздыхают павлины, плачущие розы роняют лепестки, настраивает скрипку сверчок, а соловей поет свою каватину. Все три действия «Маркизы Росалинды» протекают в этом саду, взращенном в атмосфере мечты, на почве поэзий, удобренной литературными реминисценциями.
Правда, и в условном прекрасном мире маркизы Росалинды изредка слышатся отголоски мира реального. Это жалобы, что в Испании среди кустарников не порхают тайные поцелуи Трианона, что здесь из веток кустарника складывают костры священного трибунала; что имя Кальдерона рифмуется с инквизицией. Но эти остроумные намеки не нарушают очарования светской беседы и барочной светотени. Стилизация под барокко сказывается в «Маркизе Росалинде» не только в пышной аккумуляции живописных деталей и геометрически четкой организации действия, но и в показе ирреальности и иллюзорности всех форм жизни.
Валье-Инклан сводит воедино изображение быта аристократического поместья и труппы бродячих актеров итальянской комедии масок. Жизнь аристократов и жизнь комедиантов определяется в «Маркизе Росалинде» как две формы игры. Ибо существование вельмож — во власти многовековых традиций: застывший церемониал, неизбежная повторяемость, неизменные правила этикета. Все живут, как тогда, «когда на золоченых веерах и эмалированных табакерках любезные пажи в овчинах танцевали с пастушками». Действительно, все напоминает старинный ящик с секретом. Все очень красиво: открывается крышка, звучит музыка, фигурки двигаются и жестикулируют. Мы видим позы любви или гнева, ликования или скорби. Затем крышка захлопывается. Можно ее открыть вновь, и все будет повторяться сначала. Секрет ящика не только в изяществе выдумки, секрет — в обреченности фигурок на вечно неизменные движения. Перед нами своего рода Экклезиаст в театре марионеток — завели пружину, и «восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит».
Подобно невесте Пьеро в блоковском «Балаганчике», маркиза Росалинда кажется картонной. В ее кукольности — драма, оборачивающаяся гротеском («для несчастной любви у меня ритмы шутовских колокольчиков»). Подобно Арлекину блоковскому, подобно Арлекину из «Маркизы Росалинды», Валье-Инклан тянется к жизни прекрасной, свободной и светлой, как человек, который, «задыхаясь от злости, от уныния, от отчаяния, тянется к великому прошлому, бредет, например, по картинной галерее». Он любуется красотой аристократического мирка XVIII в., стремится освободить его от исторической конкретности, превратить в чистый символ и не может отделаться от сознания его ничтожности. Он восхищается блестящими формами и видит их пустоту. Отсюда двоякое отношение к миру, в котором живет маркиза: сентиментально-насмешливое сочетается с народно-балаганным. Балаган вторгается в замок в самом буквальном смысле, вместе с повозкой итальянских бродячих комедиантов. Да и сами барочно-романтические мотивы форсируются настолько, что перестают восприниматься всерьез, игра страстей сбивается в игривость, в саду под похоронный марш сверчка отплясывает свой танец статуя похотливого сатира, а Арлекин надевает монокль, чтобы найти маленький башмачок маркизы. Трагедия обреченности переходит в пародию, возвышенное срывается в опереточное — и дуэлянты «истекают клюквенным соком». Росалинда страдает на скамейке у ручья, специально поставленной, чтобы падать на нее в обморок.
Казалось бы, у не подчиненных дворцовому ритуалу бродячих актеров — подлинная вольность, вечная иллюзия и дорога. Но Арлекин, видевший в своих миражах золотые купола Стамбула, покоривший сердце маркизы Росалинды, расстается с ней, уходящей в монастырь, и уезжает из ее волшебного сада, убедившись, что ветряные мельницы — не гиганты, стадо овец — не неприятельское войско и пора покинуть сцену, потому что помощник режиссера позвонил в колокольчик. Озорно-печальному комедианту придется продолжать свой путь без прежней веры в подлинность своих вымыслов...
Так, уже в поэтических пьесах, особенно в «Маркизе Росалинде», некие таинственные и властные законы проявляют свое господство над бегущим в красочные фантазии воображением драматурга, маскировавшегося под ноншалантного декадента. Действительность, коварно превращающая капризную игру в рутину, притаившаяся за оградой волшебных садов и не дающая забыть о себе, начинает все больше занимать Валье-Инклана. Она вторгается в его творчество по мере того, как импрессионистические, окутанные в мерцающую дымку миража картины аристократической жизни и звонкие декоративные панно модернистских пьес сменяются резкими, даже грубыми черно-белыми народными эстампами в «Варварских комедиях» (трилогия «Красавчик», «Орел на гербе», «Волчий романс»).
Герои модернистских произведений были привлекательны некой ущербностью и «невсамделишностью», они казались взращенными в тепличной атмосфере, на искусственной почве. Даже их темперамент походил на нездоровое возбуждение.
Действующие лица «Варварских комедий» закалены на вольных ветрах, их примитивную жестокость и варварскую силу питают крепкие корни, глубоко уходящие в реальную почву. Это почва родины драматурга — Галисии, где живы еще средневековые верования и порядки. Галисия — страна архаическая и величественная: полуразрушенные замки, горные перевалы, церкви, паломники, идущие на богомолье, лошадиные барышники, спешащие на ярмарку в Виану де Приор. Страна рыцарей и бродяг, показанная в ту пору, когда рыцари становятся бродягами.
Одна из первых картин «Красавчика» кажется старинным гобеленом, напоминая нам символистские произведения Валье-Инклана: на фоне горного кряжа на коне молодой Мигель Монтенегро, сын дона Хуана Мануэля Монтенегро, — светловолосый молодец, до того пригожий, что все — и друзья, и недруги — зовут его Красавчиком; у ног его коня молоденькая Сабелита («глаза чистосердечные и простодушные, как у ребенка») вынимает занозу у его охотничьей собаки.
Гобелея оживает: Красавчик умоляет Сабелиту впустить его к себе ночью. Динамика действительности не дает нам задерживаться на картинности сцены. Центральной фигурой «Варварских комедий» становится тот, в ком ключом бьет жизнь, — дон Хуан Мануэль Монтенегро.
В одном из писем Валье-Инклан писал о зарождении замысла трилогии «Сказ о подвиге» — это вагнеровское либретто. Но, создавая «Варварские комедии», он вспоминал еще одного немца — Дюрера, «эстампы коронации Максимилиана, фигуры, застывшие в барочном и стилизованном движении, лошадей, играющих декоративную роль... В «Варварских комедиях» все движение — на коне. Конь (по-испански caballo. — В. С.) создает кабальеро и вместе с ним исчезает...»
Главного героя «Варварских комедий» часто зовут не дон Хуан Мануэль Монтенегро, а просто кабальеро, рыцарем. Дон Хуан Мануэль — рыцарь старый и по-старинке живущий. Он из тех рыцарей, для которых даже закон, вынесенный в заглавие драмы Рохаса Соррильи «После короля — никто», в тягость,— такие, как он, и самого короля над собой не потерпят. Он — сама свобода, отвага и сила, один разгоняет шайку разбойников, по одному его слову перекрывают дорогу через горы. Седая героическая древность, живущая в кабальеро, для Валье-Инклана, как и для шиллеровского Карла Моора, антитеза «чернильному веку», веку чиновников и толстосумов.
Писцов дон Хуан Мануэль и впрямь ненавидит, чернильницу чиновника вышвыривает вон. Он полагается только на самого себя или, говоря словами рыцарского эпоса, на мощь своей длани. Архаизация у Валье-Инклана выступает с самого начала как эстетический антагонизм буржуазной современности, лишенной эпического величия и свободы.
Валье-Инклан любуется старым рыцарем, с трудом скрывая, что ему хочется, дабы его самого нарисовали в облике дона Хуана Мануэля Монтенегро (Монтенегро — одна из фамилий самого Валье-Инклана, унаследованная со стороны бабушки).
Но эпический герой не выглядит плодом отвлеченной поэтической фантазии. В нем есть идеальное, но нет идеализации. Стилизованная картинность «Варварских комедий» — лишь зачин. Живописность фигур хранит эстетическое совершенство, но, как только эти фигуры вступают в драматическое действие, они обнаруживают качества не отвлеченно прекрасные, а вопиюще материальные. Благообразный старый рыцарь с орлиным профилем оказывается насильником и развратником. Его свобода зиждется на жестокости, и вместе с жестокостью входит в драму ощущение достоверности грубой и примитивной жизни.
Жизненности в доне Хуане Мануэле хоть отбавляй, он живуч, как кошка. Первый раз мы знакомимся с ним в «Сонатах» (1904), где он тоже спешит избить писаря. Пьяного рыцаря сбрасывает с седла лошадь и долго волочит по земле, а на следующее утро он встает как ни в чем не бывало. В нем говорит природа, незакабаленная, неукрощенная и потому могучая. Он — смесь аристократа и бандита, Кентавр, составленный из начал животного и благородного, хищный и честный, беспощадный и гостеприимный, то всеми помыкающий деспот, то защитник всех обиженных и слабых.
При этом дон Хуан Мануэль удивительно цельный, точно сколок скалы, он верен самому себе, ни на кого и ни на что не оглядывается, ибо ему ничего не страшно. Зато порой бывает страшным он сам. Сообразовываясь лишь с самим собой, он, словно бог, творит мир по своему образу и подобию и помыкает другими так же безжалостно, как сатана.
Ночью в часовне Сан Мартирио де Фрейес, где помешанный нищий Фусо Негро хочет изнасиловать Сабелиту, как сказочный освободитель вырастает на своем коне дон Хуан Мануэль, вырывает девушку из рук полоумного и увозит с собой, чтобы сделать ее, приемную дочь, своей любовницей. Старухи крестятся, видя скачущего дьявола — черного всадника на черном коне, перекинувшего через седло свою жертву.
Краски гобелена гаснут: героев «Варварских комедий» обступает темнота, полная ужаса, сладострастия, греха и преступления. Атмосфера галисийской ночи в «Варварских комедиях» — атмосфера жуткой народной сказки о виях и рогатых чудовищах. Красавчик тешится в кровати Пичоны (Голубки), а на крышу ее лачуги забирается Фусо Негро, он кричит в каменную трубу, и внизу голос полоумного представляется голосом домового: голос вещает Красавчику, что в этот час его отец держит в объятиях Сабелиту.
Ночь — основное время действия «Варварских комедий» у Валье-Инклана, как в «Капричос» Гойи — «сон разума», свистопляска расхристанных инстинктов, таящих в своей первобытности нечто сатанинское. Ночь — пора изнанки: сатанинское обнаруживается у Валье-Инклана как изнанка капиталистического «прогресса» и как изнанка религиозности.
Мысль о грехе витает над произведениями Валье-Инклана, не случайно появившимися в католической стране. Еще Кьеркегор раскрывал взаимообусловленность демонического и христианского. Дон Жуан, по Кьеркегору, — неизбежное порождение христианского духа; именно христианство принесло эротическую чувственность, сделав запретными естественные проявления чувств человека, естественное стало рассматриваться как враждебное духу и в качестве антипода Духа canto стало духовной категорией.
Уже в «Сонатах» и в модернистских пьесах была заметна причудливая и будоражащая смесь христианства и язычества. Религиозность здесь то и дело вызывала эротическое наваждение. В «Осенней сонате» Конча ожидает любовника, охваченная мистическим экстазом. В «Летней сонате» долгое время недосягаемая Нинья Чоле становится возлюбленной маркиза де Брадомина, когда они случайно останавливаются в монастыре: «Вдруг в ночной тишине зазвонил монастырский колокол. Дрожащим голосом Нинья Чоле позвала меня: «Сеньор! Узнаете вы этот звон? Кто-то кончается!» В ту же минуту она благоговейно перекрестилась... вдруг новый удар колокола возвестил о смерти. Нинья Чоле вскрикнула и прижалась к моей груди».
В «Варварских комедиях» раскрывается дуализм души и тела. Душа и тело стали непримиримыми антагонистами, могущими утверждать себя только за счет другого, беспощадно подавляя и изувечивая поверженного противника.
Всякий, даже самый простодушный и наивный, человек волей-неволей становится в положение Дон Жуана: послушаться порыва своего естества — значит вкусить запретный плод, бросить вызов, преступить черту... В «Варварских комедиях» богомольная Сабелита, полудевушка, полуребенок, с замирающим сердцем предвкушает сладость греха. Она отдается отчиму, полная благоговейного ужаса, словно в прострации молитвенного экстаза.
Иное дело аббат — дядя Сабелиты. Святость и святотатство тут лежат рядом. В «Волчьем романсе» семинарист Фаррукиньо грабит часовню. В «Красавчике» аббат несет в гробу с похоронной процессией живого сакристана, чтобы перейти горный проход, закрытый доном Хуаном Мануэлем. Кощунствующий церковник готов служить тому, кто больше ему пообещает: богу или черту. Бог не помог ему против дона Хуана Мануэля, и ночью на пустоши аббат призывает дьявола: «Сатана, тебе продаю душу, если ты мне в этот час поможешь... Сатана, тебе я буду молиться на черных четках! От Христа отрекаюсь и тобой причащаюсь. Помоги мне, Сатана!».
Сабелита ощущает себя добычей сатаны, аббат его рабом, и лишь один дон Хуан Мануэль не клонит шапку ни перед богом, ни перед чертом — он дерзает присвоить себе прерогативы и того и другого. В финале «Красавчика» старый рыцарь заявляет во всеуслышание громовым голосом: «Не могу отказаться от своих грехов. Себя сжигаю ими. Никогда не признавал чужого закона для собственной власти. Будучи юношей, убил игрока, поспорив за картами. Свою жену оскорблял с сотней женщин. Таким я был! Не думаю меняться!» — и обращается к аббату, требуя: «Дай мне отпущение, четырехуголка». И когда аббат отказывается, рыцарь простирает руки к святой чаше с телом Христовым и вырывает ее из рук священника. Все разбегаются, роняя факелы, и внушающий неописуемый ужас одинокий рыцарь усаживается с чашей в рунах на ступеньках дворца: «Боюсь, что я и есть дьявол!»
Молитва аббата сатане — молитва слуги, в смятении бегущего к более сильному хозяину. Дон Хуан Мануэль — сам себе хозяин. Его сатана — это восставший ангел, не приемлющий богом созданного мира. Но над пятью его сыновьями тяготеет главный закон этого мира — закон корысти. Алчность представляется Валье-Инклану новоявленным жутким призраком, требующим гротескного отражения. Охваченные жадностью сынки дона Хуана Мануэля превращаются в бешеных волков, нападающих на дом собственного отца, грабящих наследство матери и раскапывающих ее могилу. Жестокий оскал их пастей гнусен и страшен. Но рядом с доном Хуаном Мануэлем все они выглядят ничтожествами. Он последний из могикан жизни старинной, основанной на традициях средневековья. От средних веков — и его эпическая широта, и его феодальный деспотизм. В «Красавчике» и «Орле на гербе» рыцарь пользуется всеми писаными, а чаще неписаными правами феодального сеньора. Его права не отчуждены, не отчуждена и его личность, в своей целостности он не знает никакой рефлексии (еще в «Сонатах» он смотрел на чтение книг как на занятие нелепое и смешное). Несмотря на свой крутой нрав, ломающий все установления морали, дон Хуан Мануэль с самого начала противопоставлен всем, над всеми приподнят и оправдан эстетически. Грубый рыцарь нарисован в изысканной, даже пленительной манере. Чеканная архаичность «Варварских комедий» — такое же стилизаторство, как и болезненно-изнеженная акварельность «Маркиза де Брадомина». Тут сказывается и модернизм, и в какой-то мере ницшеанство. В своих метаморфозах рыцарь-кентавр до поры до времени похож на ницшеанского «совершенно беззаботного и безнравственного художника-бога, который чувствует одинаковую радость и могущество как в созидании, так и в разрушении, как в добре, так и в зле», для которого «жизнь, по самой своей сущности, есть нечто безнравственное».
На взаимоотношения эстетизма, архаического стилизаторства и ницшеанства могут пролить свет слова Томаса Манна: «Весьма примечательно, но, впрочем, и понятно, почему эстетизм стал первой формой духовного бунта Европы против всех моральных установлений буржуазного века. Я не случайно поставил имена Ницше и Уайльда рядом, — оба они бунтари, и оба бунтуют во имя прекрасного... ницшеанское прославление варварства — это всего лишь буйное похмелье его вакхического эстетизма, свидетельствующего, между прочим, о том, что существует какая-то близость, какая-то несомненная связь между эстетизмом и варварством...».
После этого, быть может, и не покажется странным, что в утонченном гедонизме и изнеженности «Сонат» и «Маркизы. Росалинды» скрывалась примитивная дикость «Варварских комедий». Однако в тот момент, когда Валье-Инклан отдает своего героя на суд, полномочия которого пытался оспорить немецкий философ, — на суд совести, — обозначается его разрыв с Ницше. В «Варварских комедиях» совершается поворот от имморального героизма к трагической морали.
В «Волчьем романсе» драма опрокидывается в глубь души старого кабальеро. Умирает донья Мария, сыновья занимают поместье матери и усадьбу отца. Почва уходит из-под ног дона Хуана Мануэля. Кабальеро сходит с коня, словно сходит с пьедестала. Раньше он скакал по своим владениям галопом, сейчас он бредет пешком в бурную ночь, в толпе тех, кто босиком исходили эти земли, — среди бродяг, калек и нищих. Нет больше крутого властелина — есть старый отец, породивший неблагодарных сыновей. Есть человек, который с яростью отстаивал свои права, приумножая ту жестокость мира, которая теперь обрушивается на него самого. Как и шекспировский король Лир, дон Хуан Мануэль Валье-Инклана переживает драму семейную и драму историческую.
«Будем универсализировать наше сознание, — писал он, — чтобы быть лучше. Изображенные через коллективную созерцательность, которая свойственна народному искусству, предметы приобретают красоту отстраненности. Поэтому надо рисовать фигуры, прибавляя к ним нечто, чего в них не было. Так, каждый нищий должен быть похожим на Иова, а каждый воин на Ахилла». В его доне Хуане Мануэле — нечто от «архетипа» поруганного отца и нечто от сугубо реального «дикого помещика». В «Волчьем романсе» «дикий помещик» исчезает, заступая место человеку, переживающему великую драму.
С живописной скульптурностью теперь навсегда покончено. Дон Хуан Мануэль обретает истинное величие. Величественным он становится не потому, что, как раньше, помыкал другими, а потому, что вбирает в себя боль других. В близости к оскорбленным и униженным видит Валье-Инклан спасение от тех антигуманистических тенденций, которые пускали корни на почве ницшеанства.
Испанский король Лир изображен в чисто испанском окружении: среди слепых, прокаженных и увечных. «Сейчас среди нас, сдается мне, что я ваш брат и что должен идти по миру, протянув руку... Я не более, чем нищий, жалкий и старый». «Истинные мои дети — вы», — говорит он этим отверженным. Он чувствует, какое грозное отмщение таят их неизбывные страдания: «День, когда бедняки соберутся, чтобы сжечь посевы и отравить источники, будет днем великой справедливости... Этот день придет, и солнце, солнце пожара и крови, будет иметь лицо бога...».
Он ведет бедолаг в свое имение, чтобы открыть для них закрома. Попиравший все права, он тянется теперь ко всеобщей справедливости. Но, как и в былью времена, он хочет установить ее своей собственной волей. «Заставлю уважать свою волю! Мертвые будут похоронены, и получат помощь живые. Исполнятся все приказания, которые я отдам». Он гонит вон своих пятерых сыновей и падает мертвый, когда первенец дон Мауро рассекает ему кулаком лицо.
Трагическая ирония финала не только в том, что старый идальго так по-барски хотел исправить социальную несправедливость, но и в том, что дон Хуан Мануэль погиб от зла, им же самим порожденного. Когда он называл бродяг своими чадами, то, быть может, был прав в самом прямом смысле: в каждой деревне не счесть побочных детей помещика. Боль и нищета — тоже его побочные дети. Законные же дети — алчные волки, загрызшие отца.
Видя, что дон Хуан Мануэль убит, исполинский прокаженный — бедняк из приюта св. Лазаря хватает дона Мауро за горло и валится вместе с ним в горящий очаг. Кровожадный первенец исчезает в языках пламени. Нищий встает из очага. В этой красной от кровавых отсветов огня фигуре есть нечто апокалиптическое, темный, но грозный намек, что приближается конец игре Жадности, Похоти и Смерти...
Но пока что эти неразлучные для Валье-Инклана три парки современного Олимпа — подлинные властительницы новой жизни. Господство буржуазности выступает у него как последний шаг к бездне, как последний час перед страшным судом. Похоть и жадность всегда ходят рядом со смертью для тех, кто подпал под губительную власть окружающего мира. В мертвой хватке этого мира извиваются либо в судорогах жадности, либо в судорогах желания. В «Орле на гербе» Фаррукиньо выкапывает труп старухи, чтобы продать ее скелет в анатомический музей. Он варит труп в котле, чтобы от скелета отпало мясо, и рядом в той же комнате Красавчик валит на кровать Пичону.
«Вертеп Жадности, Похоти и Смерти» — так будет называться более поздний цикл драм Валье-Инклана.
Появлению этого цикла предшествовал ряд важных событий в испанской истории и культуре, на которых следует остановиться.
Л-ра: Силюнас В. Ю. Испанская драма ХХ в. – Москва, 1980. – С. 53-66.
Критика