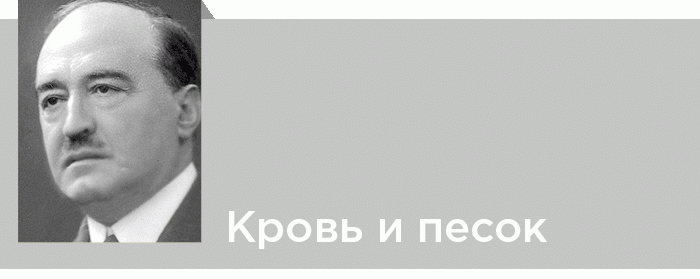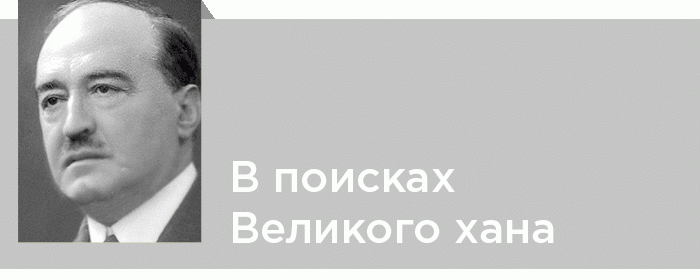Забытый Валье-Инклан

С. Пумпянская
Уже само название книги настораживает — у вполне каноничного «Рамон дель Валье-Инклан. Полное собрание статей...» вдруг появляется странный кокетливый довесок «...и прочие забытые страницы». Позвольте, что это значит? Забытые кем и когда? Кого-кого, а Валье-Инклана менее всего можно назвать «забытым», да и как шутка-«забытость», пожалуй, вряд ли пройдет. Нет, разумеется, у Валье, как у любого писателя, был некий начальный, пусть и затянувшийся дольше обычного, этап творчества, когда, ясное дело, он был мало кому известен; был и еще один, опять же вполне характерный, период спада популярности сразу после смерти, ибо для того, чтобы писатель из разряда «живых классиков» переместился к «классикам настоящим, то есть умершим», требуется не только сам факт отхода в мир иной, но еще и время. Зато за последние тридцать лет, пожалуй, мало о ком из испанских писателей столько пишут и спорят, как о Валье-Инклане. На сегодняшний день инклановская библиография огромна, что почему-то не мешает студентам по всему миру продолжать отстаивать право на дальнейшее изучение — так, что даже в Москве уже можно было бы открыть специальный институт инкланистики мест эдак на сто.
И все же — «забытые страницы», «забытые интервью» и ставший уже штампом для заголовков «забытый Валье-Инклан». Неведомый изведанный дон Рамон. Впрочем, возможно, это амплуа целиком и полностью его самого устраивало. Попробуем разобраться.
О легенде и маске Валье-Инклана писалось много. Известно, что дон Рамон тщательно прятал свое лицо. Кроме разве что одного случая — эстетического трактата «Волшебная лампа» — книги, тоже, кстати, весьма странной, ибо и здесь между автором и повествователем есть столь излюбленная Валье дистанция, наполненная иронией, пародией и лжесерьезностью. Впрочем, объясняется это не просто нарочитой и болезненной скрытностью, а очень серьезной позицией. Ведь была и другая правда. Что помимо поэта, драматурга и прозаика существовал еще и Валье-Инклан-журналист, ибо дон Рамон довольно много публиковался в газетах и журналах — следуя потребностям самого разного рода, периодически писал статьи.
Первым и надолго единственным приближением к газетным публикациям Валье-Инклана стала книга Фихтера «Валье-Инклан. Публикации в периодике до 1895 года», куда вошло 26 работ. Следующее исследование — диссертация, а затем книга Элиан Лаво «Валье-Инклан: от журнала к роману» — появилось лишь через 25 лет, в конце 70-х. Что же касается всего остального, то вам предоставлялась замечательная возможность охотиться за осколками инклановских мнений и высказываний, выуживая их из биографий: Мельчора Фернандеса Альмагро, Франсиско Мадрида, Рамона Гомеса де ла Серны и др., — отыскивая в лучшем случае по статьям, а чаще по старым газетам и затасканным ксероксам. Так и оставалась эта часть творчества дона Рамона вплоть до конца 80-х годов никем не собранной, не изданной, не проанализированной, хотя все критики рьяно хватались за каждый цитируемый кусочек и переписывали его друг у друга. И вот наконец-то мы дожили до изменений. Собственно говоря, речь идет о трех книгах — книге, изданной в 1984 году Дру Дуберти, «“Забытый Валье-Инклан”». Интервью и выступления», впервые опубликованной Хуаном Антонио Ормигоном в 1987 году переписке (которая, к сожалению, еще не дошла до наших библиотек) и рецензируемом в данной статье издании Хавьера Серрано Алонсо «Полное собрание статей и прочие забытые страницы Валье-Инклана», где собрано ни много ни мало 90 текстов: 70 статей, 3 прозаических отрывка, 17 стихотворений. Слов нет: для всех интересующихся и изучающих Валье-Инклана эти три книги просто не имеют цены.
Сразу оговоримся, что Инклан и журналистика случай совсем не простой. Период конца — начала века был периодом взлета независимых журналов в Испании и расцвета журналистского дела. В те бурные годы, когда газеты с каждым днем становились все интереснее и интереснее и оказывали вполне реальное, а не иллюзорное воздействие на само общество, любой из начинающих писателей не мог представить себе ни иного пути, ни большего счастья, чем увидеть свое имя в газетных листках. Не менее почетным — во всяком случае, никак не зазорным (а большая часть испанской интеллигенции того времени жила журналистикой) — представлялось сотрудничество с газетами и именитым писателям, таким, как, скажем, Асорин и Унамуно.
Так, он яростно отвергал саму возможность зарабатывать на жизнь чем-либо, кроме литературы. «Почему вы отказываетесь сотрудничать в газетах» — спрашивали мы. «Журналистика способна испортить стиль и низвести любой эстетический идеал». — «Но ведь журналистика способна быстро создать репутацию». — «Это заблуждение. Рожденные журналистикой репутации преходящи. Работать надо в уединении, чтобы не потерять духовную независимость». И он в буквальном смысле голодал, ввергая себя в крайнюю и вздорную с точки зрения любого здравого смысла нищету, которую сравнивали с бедностью лишь одного из испанских писателей — Мигеля де Сервантеса, только бы никто и ничто не могло посягнуть на его «духовную независимость». И это было не просто горделивой позой, но серьезнейшим из философских представлений, в котором жизнь от начала своего и до конца, от самого крупного до мельчайших бытовых мелочей представала страстным и безоговорочным служением искусству. А если понадобится — жертвой, и не одной...
И наконец еще одно, последнее. Ведь при всей прославленной язвительности и кажущейся категоричности его афористичных и убийственных суждений дон Рамон никогда не был и не мог быть верховным судьей никому и ничему, ибо он, пожалуй, как никто другой, знал, что таит в себе излишняя строгость и претенциозная окончательность мнений...
И все же. Как известно, первая книга Валье-Инклана вышла в 1895 году, когда ему почти 30. Этому не мог не предшествовать некий подготовительный период: между первыми публикациями — стихотворением «В Молинаресе» и рассказом «Вавилон» — и первой книгой прошло ни много ни мало семь лет. Об этом периоде известно мало, да и интересоваться довольно долго никому в голову не приходило — так мастерски сумел Инклан всех убедить в существовании лишь зрелого и великого писателя, которого можно судить только по выпущенным им самим и окончательно отточенным произведениям. По этой легенде не было ни неопытного юнца, ни начинающего литератора, ни даже ребенка. И тем не менее все это было: и юношеские пробы пера в студенческих газетах в Галисии, и кропотливый труд (более 30 публикаций), а не только экзотические приключения в Мексике, куда он отправился в 1892 году, и несовершенность, и долгие колебания между жанрами, и самые разные, порой противоречащие друг другу влияния. И даже с именем было еще не все решено: Рамон Валье, Рамон дель Валье де ла Пенья, Рамон дель Валье, Рамон дель Валье-Инклан и де ла Пенья и наконец — уже на века — Рамон дель Валье-Инклан.
Да, конечно, Валье не был журналистом в прямом значении этого слова, то есть человеком, призванным излагать, комментировать и анализировать события, хотя такие попытки в самых разных жанрах — политические статьи, литературная критика, хроника событий — у него тоже есть; он не был постоянным сотрудником какого-либо издания, хотя сотрудничал со многими, а предпочитал некоторые; не был он и ничьим постоянным корреспондентом, хотя порою именно так себя подавал, а однажды — в 1916 году — отправился как военный корреспондент на фронт, из чего выросла книга «Полночь: звездное видение одного момента войны». Большая часть подписанных его именем публикаций — это чисто литературные произведения: короткие рассказы, отрывки, главы уже завершенного или, напротив, еще не реализованного замысла, переработки старого, казалось бы, давно отточенного. И тем не менее литературная судьба Инклана не просто, как бывает обычно, на страницах газет и журналов началась — большинство его произведений, через периодику пройдя, именно там, как ни парадоксально, обрело свою истинную жизнь. Он же оставался ей верен как своему первому, постоянному и главному издателю вплоть до самых последних дней.
Так рушится еще один миф. Валье и мир журналистики совсем не были далеки. Во всяком случае, оставленное им прессе наследство чуть ли не больше остального: более 70 (50 до 1895 года) статей, несколько рассказов, ряд фрагментов, не вошедших в окончательные редакции романов, более дюжины стихотворений, не включенных в «лирические стихи», не говоря уже о массе интервью, писем, выступлений. И только дележ этой, весьма обширной и ценной части наследства почему-то так и не начинался по сей день...
Сразу же поблагодарим издателя Хавьера Серрано Алонсо. Он проделал огромную работу — не только собрал и издал тексты, но, во-первых, снабдил их замечательной статьей, всесторонне рассмотрев путаные и трудные взаимоотношения дона Рамона с миром журналистики, а во-вторых, дотошно и скрупулезно выверил даты, исправив множество ошибок. Ибо в истории инклановедения существует масса попыток выстроить в таблицу или список издания его произведений. Более или менее подробные и полные, под общим знаменателем все они оказываются в равной степени никуда не годными — доверять нельзя. Серрано Алонсо дает новую сводную таблицу публикаций Валье-Инклана в газетах и журналах, учитывая (а это крайне важно) все известные варианты и исправления текстов. Кстати, кое-какие тексты он заново восстанавливает, например вариант «Капитанской дочки», появившийся в газете «Ланасьон» в Буэнос-Айресе.
Обратимся же все-таки к самому Валье. Книга строится хронологически, и это абсолютно оправдано, и тем не менее все собранные статьи можно было бы условно подразделить на несколько разделов: статьи о литературе, об искусстве, о политике, об истории и разного рода отголоски на современность. Так, оговариваясь, автор относит к литературно-критическим статьям тринадцать работ. Причем оказывается, что от одной из первых проб пера рецензии на роман Гальдоса «Анхель Герра» — до одного из последних, оставленных нам текстов — рецензии на книгу Мануэля Асаньи «Мой бунт в Барселоне» — сюда невольно укладывается вся длинная и неоднородная литературная жизнь Валье-Инклана. Уже одно это настораживает. Можно ли утверждать, что дон Рамон был литературным критиком? (А забегая вперед, скажем, что этот вопрос, и совсем не только применительно к литературе, еще не однажды встанет перед читателями.) И, как всегда, ответа будет два: и да, и нет. Нет, потому что он не был постоянным критиком ни в каком издании, потому что его критика менее всего похожа на критику профессионалов и потому что сама роль исследователя чужих произведений, хотя в заголовки большинства статей как раз вынесены названия чужих романов, а его рецензируемые отнюдь не проходные фигуры: Гальдос, Пио Бароха, Мануэль Буэно, Мануэль Асанья, — ему явно не нравится. Более или менее близки к нормативной критике лишь самые первые статьи (что равно первым пробам пера, а по ним лучше не судить), и только один текст — «Песни» — относительно приближается к филологическому идеалу. Все же остальное — гораздо больше «впечатления» (такой подзаголовок он дал статье о романе Пио Барохи «Дом Аисгорри»), где нет ничего от критического и систематического анализа: вместо того чтобы настойчиво и последовательно обсудить тему, он дает серию взглядов и соображений, зато есть чуткое проникновение в текст через себя, как в «самокритике» (а так дон Рамон озаглавил письмо, опубликованное в журнале «Испания» в ответ на статью Сиприано Ривас Черифа о «Варварских Комедиях»).
Будучи писателем, в высшей мере сознательно относящимся к своему труду, Валье-Инклан был прежде всего проникновенным критиком самого себя — и это, пусть не всегда впрямую, выражено буквально во всем: последовательно и иронично изложено в «Волшебной лампе», вложено в уста самых разных персонажей, обнажено в письмах, высказано в интервью и даже в статьях о чем-то другом. В литературно-критическом наследстве Валье-Инклана интересней всего, конечно же, то, что волнует его самого, а это целый ряд проблем: неверие в традиционные жанры, и особенно в европейский сентиментализм и напыщенный реализм испанского театра, взаимоотношение искусства и политики, комедии и трагедии, истории и вымысла, иронии и компромисса; ряд проблем собственно художественной теории, таких, как точка зрения, перспектива, дистанция, смех, бурлеск, театр марионеток и многое-многое другое. А еще, как бы открыв новый жанр, дон Рамон явился своеобразным миниатюристом литературоведческой теории: его суждения чаще всего принимали характер афоризма, парадокса, эпиграммы, настораживая и заставляя подозрительно к ним относиться серьезных литературоведов, любящих, чтобы все было разжевано и разложено по полочкам. Впрочем, в этой блестящей прозе эпиграмм серьезности больше, чем в чем бы то ни было, ибо именно здесь сокрыта истинная эстетика этого писателя и ключ к ней, сформулированная, кстати, гораздо четче и лучше, чем у всех критиков, вместе взятых.
Несколько иной, хотя и аналогичный, случай представляет Валье-Инклан — критик живописи. В художественном мире своего времени дон Рамон был весьма значительной фигурой. Признанный «магистр эстетики», которого любили и которым восхищались большинство будущих великих художников этого «серебряного Века» испанской литературы и живописи, он был выдающимся знатоком искусств — не только живописи, но и архитектуры. Он часто ходил в музей (Прадо знал как никто) и даже исполнял некие официальные роли: в 1916 году был назначен заведующим кафедрой эстетики в Художественной школе в Мадриде; в 1932 году — хранителем национального художественного богатства, а в 1933 году — директором Испанской художественной Академии в Риме, впрочем, главной из его общественных ролей была ежедневно исполняемая в кафе «Новое Средиземноморье» роль властелина, верховного руководителя и неизменного первого оратора этой очень популярной в среде художников и самой известной из его тертулий.
Письменно же Инклан излагает свои взгляды на искусство в основном в двух сериях статей — рецензиях на художественные выставки в Испании 1908 и 1912 годов. Суровый критик, он начинает первую из них, куда вошло 10 статей, написанных для мадридской газеты «Эль Мундо», с жестокого приговора: «Решусь сказать: художественные выставки в Испании — позор и вздорное мотовство», ибо выставляются на них произведения «исключительно плохие», «все вульгарное и пошлое» в результате получает по медали, сама же процедура раздачи наград оплетена столь грязными и постыдными историями, что недостойно их даже пересказывать. Пожалуй, ни одна из признанных в то время знаменитостей — Сесилио Пла, Хосе Мария Родригес Акоста, Соролья и др.— не избегает его язвительных замечаний; превозносит же он тех, кому удалось передать «то высшее положение поэзии и тайны в вещах, что делает их достойными искусства». Из старых художников это прежде всего художники флорентийской школы (его неизменный эталон): Боттичелли, Рафаэль, Челлини, Леонардо, Донателло; из новых — безошибочно угаданные и вознесенные им молодые: Хулио Ромеро де Торрес, Рикардо Бароха, Солана, Сибаурре. Вторая серия из четырех статей, написанная в 1912 году для журнала «Нуэво мундо» («Новый мир»), несколько отличается от первой — в ней, пожалуй, больше теоретизирования. Именно она еще четыре года спустя вдохновит и ляжет в основу эстетического трактата «Волшебная лампа». И наконец, еще одна весьма важная, впервые переизданная работа — «Баскская живопись». В 1919 году, сопровождая организованную в Мадриде выставку современной баскской живописи, вышла книга — в нее вошли несколько статей довольно известных писателей и мыслителей, таких, как Унамуно, Ортега-и-Гассет и др. Любопытно и логично, что открывается книга статьей Валье-Инклана, которая, впрочем, менее всего походит на критический разбор выставки — о выставленных произведениях здесь речи вообще не идет. Это скорее эссе, в котором дон Рамон размышляет об искусстве и даже больше чем об искусстве — об Испании, ее районах и традициях, о той Испании, которой «правит Средиземноморье, наука цыган».
В условно выделенный Серрано Алонсо раздел «бытописательских статей» и «статей о современности» попали самые разные работы — все, что не вместилось больше никуда. Выделю лишь две: существующий во множестве вариантов и доработок и, бесспорно, наиболее важный в Испании теоретический трактат и манифест «Модернизм» и «Портрет» — литературное воссоздание образа знаменитого галисийского бандита Мамеда Казановы — одного из тех разбойников, что «презирают закон, опасность и смерть», в чем для Валье «есть странное моральное обаяние. Правда, к несчастью, таких людей теперь уже нет». Зато есть многочисленные мелочные и суетливые политические интриганы. Кстати, на политические темы Инклан тоже писал всю жизнь, ибо, отталкивая, политика в то же время его и манила — самой возможностью действия и воздействия на людей и на общество. Но где его голос поистине звучит в полную силу — так это там, где Инклан касается испанской истории. Впрочем, история — сюжет особый.
Вдохновительница и путеводная звезда многих, если не большинства, произведений Валье, история была и своеобразным его коньком. Он был признанным знатоком всех исторических перипетий, и прежде всего XIX века, не просто хранителем дат и имен, но строгим и остроумным толкователем. Ведь именно исторический театр стал почвой и подмостками для главного детища дона Рамона — эсперпенто.
«Исторических» статей у Инклана много, наиболее важны — две поздних серии. 18 июня 1935 года под названием «Книга, внушающая мысли» он публикует первую из статей, посвященных длинному и бурному периоду испанской истории. Поначалу это как бы рецензия на книгу графа Романонеса «Амадео де Сабойя, король-однодневка», но очень скоро Валье резко вырывается за пределы узкорецензионной темы, оставляя книгу лишь поводом, который дает ему возможность передать все свои обширные познания о событиях, персонажах и силах, действующих в последние годы правления королевы Изабеллы. Серия делится на две части или подраздела. Название первой, незначительно варьируясь, оставляет неизменным подзаголовок; вторая же, напротив, при едином заглавии — «Пауль-и-Ангуло и убийцы генерала Прима» — дает особый подзаголовок каждой из частей. Тема здесь — таинственное убийство генерала Прима, причем героем своим Инклан делает отнюдь не жертву, а фигуру, давно, видимо, занимавшую его воображение — ведь уже в 1892 году Валье написал статью, высказывая сомнения, что Хосе Пауль-и-Ангуло был убийцей Прима.
Кстати, именно в этот период дон Рамон активно работает над «Ареной Иберийского цирка», серией романов, которой так и суждено было остаться незавершенной. Каким мог быть следующий роман? Что из дальнейших событий истории занимало автора больше всего? Обо всем этом мы можем теперь только гадать, хотя — выясняется сегодня — кое-какие, весьма интересные свидетельства у нас все же есть.
Два отрывка — «Дипломатическая почта» и «Эстельский двор» — Серрано Алонсо публикует в конце. Первый принадлежит «Арене Иберийского цирка», второй — тематически связанная с «Коршунами былых дней» часть «Карлистских войн», которая, судя по всему, должна была войти в четвертый роман, «Королевские знамена». О нем у нас нет никаких сведений, кроме заверений Валье, что роман завершен. Скорее всего, он не был не только завершен, но и начат, точнее, была написана и опубликована лишь одна — вот эта — часть.
И наконец, возможно, самое интересное — 17 не включенных в «Лирические стихи» стихотворений. Все из разных эпох. Известно, что поэзия Валье-Инклана наиболее явно отражает и выявляет этапы и повороты его литературной карьеры. Он как бы собрал урожай со всех эстетик эпохи и каждой дал свой — пародийный или серьезный — пример. От первых проб пера здесь есть буквально все: и раннее подражание Кампоамору, и стихи, написанные под влиянием модернистской поэзии Дарио, и претенциозные постромантические стихи, и впервые полностью опубликованное, единственное в своем роде подражание ультраизму «Эстетика цветной женщины», вплоть до самых последних, слишком уж отдельных, чтобы их можно было включить в сборники, удивительных стихотворений-прощаний «Реквием» и «Завещание». Серрано Алонсо приводит все три существующих варианта «Завещания», притом что третий — последний — был завершен 2 января 1936 года. Инклана не стало утром пятого.
Кстати, как вы думаете, кому завещает за три дня до смерти свой труп Валье-Инклан? Газетному репортеру. Так еще раз он возвращается и обращается к ненавистной и вместе с тем столь притягательной журналистике, как обращался он часто — невольно и сам того не желая — ко многому в своей трагической и многотрудной жизни: к политике вопреки литературе, к жизни вопреки вымыслу, к реальности вопреки — наверно, самое тяжелое из «вопреки» — мечте. И к журналистике как властительнице и служанке, не мечты, к сожалению, но жизни...
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – 1990. – № 6. – С. 34-39.
Критика