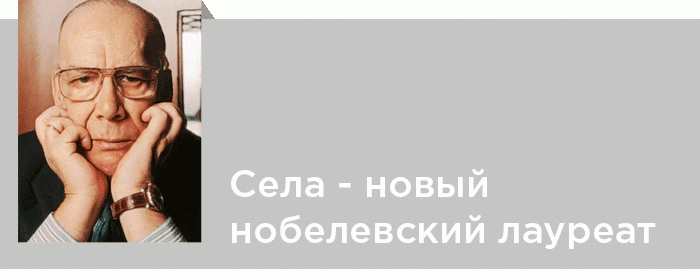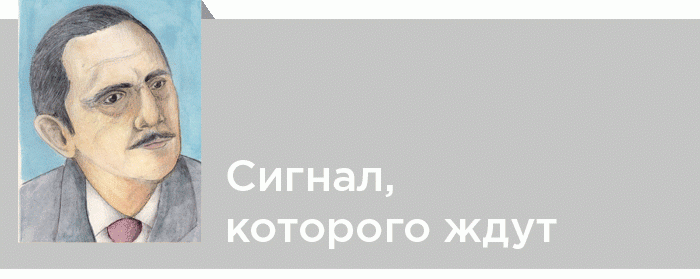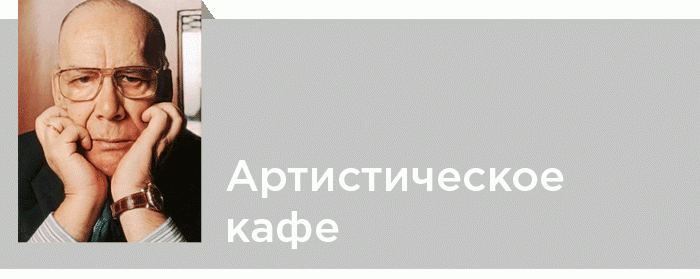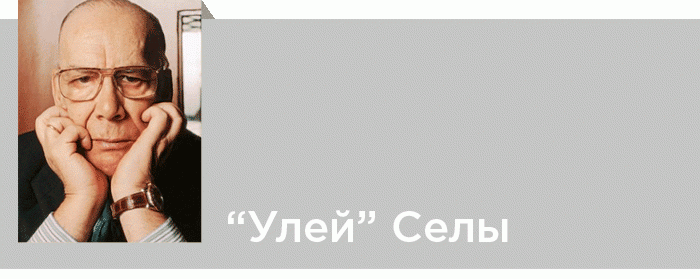Разные объективы, единый взгляд

А. Бочаров
Каждому, кто увлекается фотографированием или киносъемкой, известно, как бывает необходима длиннофокусная и широкоугольная оптика: в первом случае удается выразительно вылепить крупный план, во втором запечатлеть широкую панораму, общий план. Не искажая реальных пропорций, сменная оптика позволяет добиваться большей выразительности, большего эстетического эффекта.
В романах одного из крупнейших современных испанских писателей Камило Xocе Селы «Семья Паскуаля Дуарте» и «Улей», написанных один за другим в начале 40-х годов, как раз и использована такая оптика, давшая возможность представить крупно одну фигуру в первом случае и картину жизни многонаселенного городского квартала — во втором. Можно добавить, что в одном романе перед нами развертывается судьба человека с рождения до смерти, а в другом дан мгновенный срез жизни уголка испанской столицы. Наконец, можно упомянуть, что в «Семье Паскуаля Дуарте» повествование идет от лица главного персонажа, а в «Улье» картина воссоздана в «нейтральном» авторском описании.
Все эти отличия меняют, так сказать, ракурс изображения, но не его суть. Суть же видится мне в словах: «В воздухе будто разлита грусть, она просачивается в сердца. Но стонов не исторгает, сердца могут страдать безмолвно час за часом, всю жизнь, и никто из нас никогда не узнает, не поймет, что в них творится». Это сказано о посетителях небольшого кафе, но, пожалуй, здесь заключено художественное кредо автора: грусть разлита в самом воздухе, в атмосфере, в обстоятельствах жизни; художник должен услышать те безмолвные страдания, которые скрыты от окружающих.
У Паскуаля мрачное прошлое. Он совершил несколько убийств: задушил своего земляка, соблазнившего его сестру и жену, убил свою мать и, наконец, благодетеля графа, проживавшего в их деревне. Что может быть ужаснее и отвратительнее матереубийства?! Но ведь не кто иной, как тот же Паскуаль вспоминает о годах своей семейной жизни: «Мало что в жизни потрясало меня сильнее, чем картина — Лола с распущенной косой кормит малютку грудью». И он же искренне кается и истязает себя постами в ожидании неминуемого справедливого возмездия. А в искусстве есть такая странная сила, такой эстетический «подвох», что человек, испытывающий раскаяние, человек, искренне осуждающий свои прегрешения, пробуждает в читателе симпатию или во всяком случае желание понять, а не просто осудить за неоспоримую вину. Да и написана исповедь так, что мы чувствуем за словами героя если не голос самого автора, то во всяком случае раздумья незаурядной личности.
Так случилось, что недавно я прочитал роман «Войны отцов наших» Мигеля Делибеса — тоже испанского писателя и тоже о человеке, осужденном за убийство и рассказывающем в тюрьме свою жизнь. Только роман Делибеса написан в 70-е годы, и автор уже использовал прием не собственноручной исповеди героя, а записанных на магнитопленку разговоров с ним. Но в обоих случаях перед нами традиционный рассказ человека, грешившего не по злому умыслу, а оттого лишь, что трагично сплелись обстоятельства. Пожалуй, в этом — устойчивая традиция гуманистической литературы: обращаться к подобным ситуациям, чтобы увидеть под одной оболочкой, одной социальной ролью человека другую. Не «падающего толкни», а «к падающему склонись». И у Селы, и у Делибеса звучит рассказ человека, не ощущающего себя как личность, ответственную за все, с ней происходящее. Поэтому так много и часто говорит Паскуаль о судьбе, о роке, о предопределенности.
Но что же видит сам автор за убеждением героя во всевластности судьбы?
Словно привязанный, возвращается Паскуаль каждый раз после побега или тюремного заключения снова домой, в родную деревню, в родной дом, где его подстерегают все новые беды и испытания. И, может быть, именно эта «точечностъ» плацдарма действует особенно убеждающе: не в далеких краях, не в клоаке людных городов, а в собственной семье поджидает его каждый раз беда. Все грозы мира непременно поражают и семью! И это самый трудный вывод: если у многих писателей герои укрываются от невзгод мира в своей семье, в своем доме, то для Селы и семья не предстает крепостью, ибо семья тоже частица общества, его молекула. Именно на эту ступень гуманистической зрелости поднялся Села: винить не только человека, но и сами обстоятельства — те, которые заставили сестру Паскуаля стать проституткой, которые озлобили его мать и сделали невыносимой жизнь сына с нею. И писатель мучительно пытается найти некую равнодействующую «натуры» и «обстоятельств»: «Слишком много зла усвоил я из жизни и чересчур слаб, чтобы противиться инстинкту». Зло жизни здесь причудливо соединилось с агрессивными инстинктами. По этой причине автор, вероятно, ограничивается сообщением об убийстве графа Паскуалем, не объясняя причин: о социальных причинах автор в те годы писать не мог, а только к «натуре», «голосу крови» их не свести. Не случайно друг графа, которому были по просьбе Паскуаля пересланы после казни записки, расценил их как «подрывные и противные добрым нравам», а тюремный священник в своем письме вспомнил о «последнем покаянии этого человека, которого большинство, вероятно, сочтет гиеной... а между тем, проникнув в глубь его души, можно узнать, что был он всего лишь кротким агнцем, которому жизнь внушала робость и страх». Так передает нам писатель косвенными свидетельствами свою оценку этого противоречивого образа, в перипетии жизни которого мы со все большим ужасом, состраданием и болью втягиваемся по мере движения исповеди.
В «Улье» нет такого пристального вглядывания в одну судьбу, там огромное количество — сто шестьдесят, по уверению автора, — фигур, и бытовые сценки мелькают, сменяясь, как в калейдоскопе, и словно воплощая саму лихорадочность жизненного ритма. Самоубийство безработного занимает здесь столько же места, что и «любовь» полицейского и служанки на грязной ночной арене, а бесстыдная брань владелицы кафе — ничуть не меньше рассказа о Викторине, ставшей проституткой, чтобы достать денег на лекарство туберкулезному жениху.
Это сценки из жизни преимущественно низших слоев общества, в них участвуют булочник, прислуга, бедствующий журналист, работница, небогатый издатель, просто безработные. Те, кто удачливее, отыскивают здесь недорогую любовницу, а кто-то, дошедший до полной нищеты, подбирает окурки. И здесь одни повелевают и нанимают работников, а другие подчиняются и терпят, держась за свое место, спасающее от нужды и голода.
Для нашего читателя более привычным был бы, вероятно, образ муравейника, людского муравейника, но легко вообразить это скопище и как улей — там тоже господствует внешне хаотическое движение, которое незримо подчинено какому-то общему закону жизни. В данном случае тому, что всех — даже тех, кто пока преуспевает — неумолимо треплет жизнь, все барахтаются в жестоких обстоятельствах, боятся завтрашнего дня.
Так оба романа, используя разные «объективы», показывают, в сущности, одно: обезличенность, укоренившуюся и всеохватную обезличенность окружающего мира. Мира, делающего все для того, чтобы человек перестал быть личностью. Одни не могут стать личностью потому, что все в них заглушено алчностью, почти инстинктивной жаждой «выбиться в люди», другие — потому, что их так забила бедность, что уже не до «запросов», не до сохранения человеческого достоинства. Все людские стремления сводятся к тому, чтобы достать несколько дуро, несколько песет, а счастьем почитается то, что работница из типографии нашла любовника, который снял ей отдельную квартиру.
И только сила истинной любви может еще иногда противостоять сокрушительному напору бесстыдства, злобы, жадности. Оружие, как мы знаем, хрупкое и не всегда дарующее успех.
В обоих романах есть и еще нечто общее — парадоксальность ситуаций, в которых то и дело оказываются персонажи. Иногда это ситуации на грани фарса: входя в дом с комнатами свиданий, отец встречает выходящую оттуда свою дочь. Оба лепечут про какие-то причины, приведшие их в этот дом, и оба не хотят поверить, что в сущности причина у обоих одна. Иногда же это ситуации, доходящие до трагизма: вернувшись после долгой отлучки, Паскуаль узнает, что его жена забеременела — и не от кого иного, как от щеголя, совратившего ранее его сестру.
Парадоксальность ситуаций не исключает их достоверности, она словно бы зеркально отражает, насколько извращено, сдвинуто все в мире и как бессмысленно, невозможно предвидеть поступки и их последствия в хаосе обстоятельств. Таким безотрадным взглядом на мироустройство Села близок экзистенциализму с той разницей, что среди его персонажей нет людей, способных в своей душе противостоять этому хаосу. Но тут необходимо сказать, что рядом с парадоксальностью, свидетельствующей, как судьба играет человеком, возникает ирония — одна из существенных красок в романе «Улей» и большинстве рассказов Селы.
Пожалуй, ирония — самое сильное оружие автора. Именно ирония позволяет ему давать косвенные оценки персонажам — от самых язвительных («Донья Селия очень чувствительна, да, она очень чувствительная содержательница дома свиданий») до мягко-сочувственных («Теперь она уже с неделю ходит гулять с другим, тоже студентом-медиком. Король умер, да здравствует король!»).
Именно авторская ирония является тем главенствующим настроением в «Улье» и несколько сходной с ним повести «Артистическое кафе», которое удерживает калейдоскопический сюжет, не давая ему рассыпаться. На чем бы ином могло удерживаться это здание, где одни персонажи мелькают несколько раз и исчезают, оставив лишь мимолётный блик?!
Наконец, ирония служит автору защитой от трагизма обстоятельств, подминающих его героев, спасает его самого от растерянности и пессимизма.
Проза, прибегающая к иронии, бывает беззащитной, бывает наступательной, бывает отчаявшейся. Но никогда не бывает нейтральной, сколь бы внешне нейтральным, объективным ни выглядело повествование. И эти романы, от которых нас отделяют четыре десятилетия и совершенно иной уклад жизни, волнуют не только правдой жизни, но прежде всего силой своих гуманистических идей, неприятием всего, что унижает человека, мешает выявлений его возможностей.
Л-ра: Иностранная литература. – 1981. – № 5. – С. 248-250.
Критика