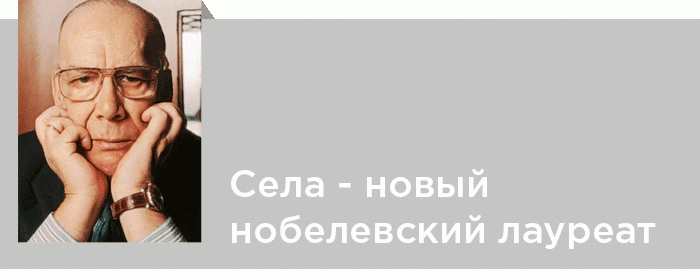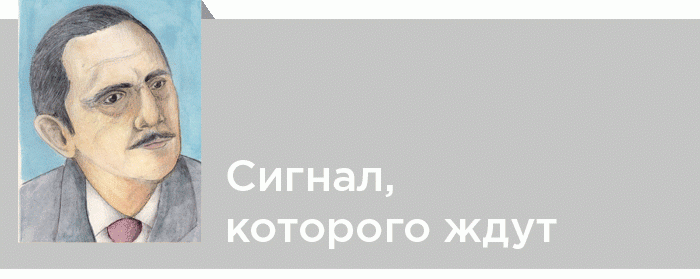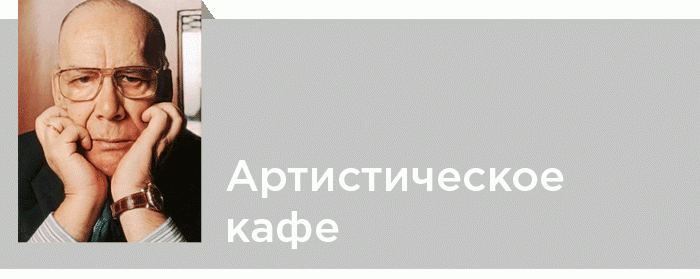«Улей» Камило Хосе Селы: костумбризм и философская метафора
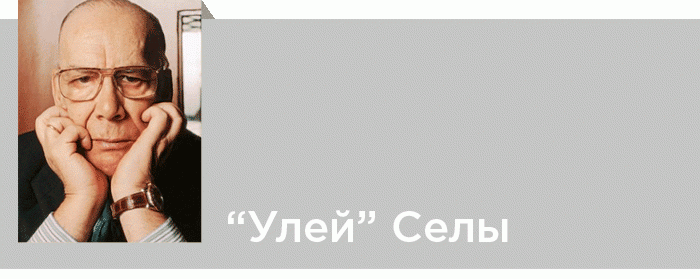
Ю. К. Тальвет
Социальная тенденция в западноевропейском романе XX в. представлена прежде всего неореализмом, местом рождения которого — как в искусстве кино, так и в литературе — принято считать Италию после Второй мировой войны. Действительно, в 1940-1950-е гг. там появляется плеяда писателей (Пратолини, Бассани, Витторини, Кассола, Леви, Моравия, Силоне и др.), творчество которых отражает обострившуюся в войне социальную чувствительность, желание демаскировать корни фашизма, показать разрушительное воздействие фашистской идеологии на страны и народы, но одновременно и рожденные в беде солидарность и сопротивление силам зла. Духовной опорой многим писателям того направления, несомненно, оказалась возникшая уже до войны экзистенциальная философия со своей подчеркнутой этичностью, глубинными связями между свободой и ответственностью.
Распространение неореализма широко как во времени, так и в пространстве. В рамки этой тенденции и метода войдут многочисленные романы, написанные вплоть до 1960-1970-х гг., примером может служить сценарная мастерская Феллини и Гуэрры «Амаркорд». С другой стороны, такую же подчеркнуто социальную тенденцию демонстрирует развитие романа в 1950-1960-е гг. как в Англии («сердитые молодые люди»), так и в Испании (Р. Санчес Ферлосио, X. Гойтисоло, А. М. Матуте, X. Гарсиа Ортелано и др.). В отдельных случаях можно наблюдать консервативность форм, возвращение к традиционному, проложенному уже и XIX в. типу повествования, но в целом, несмотря на различие тематических или структурных оттенков (история индивида, семьи или целой социальной группы), неореализм означал обновление и в художественном (эстетическом) плане.
Одним из первых признаков, отличающих неореализм от предыдущего типа реализма, является сознательное увеличение степени объективности (объективации). Неореалистическая литература очень широко использует диалог, «сцену», пытается запечатлеть сущность явления через тщательное фиксирование внешнего и видимого. В этом проявляется непосредственное влияние искусства кино: исключается разъяснение фона, прямое изложение и анализ скрытых чувств и мыслей персонажей, одновременно неизмеримо увеличивается динамика времени и пространства: место и время действия сменяются часто и быстро.
Подобно натурализму неореализм обращается к той части социального пространства, которая больше всего подчиняется влиянию материальных факторов и где именно поэтому в самом открытом и беспощадном виде проявляют себя нужда, голод, неравенство, именно здесь начало человеческих страданий. Но по сравнению с натурализмом в неореализме гораздо больше ностальгии, гораздо больше веры в существование внутренней красоты человека, в необходимость и даже возможность ее спасения. Целью неореализма, как и натурализма, является создание обличающего и предупреждающего документа, однако этот документ, издателем которого стал XX в., по существу лирический.
В своей будничности и рутине материальная, «низкая» среда противопоставлена приключению и свободе. Если приключение здесь тем не менее имеет место, оно легко может приобрести криминальный облик (напомним плутовской роман: грани бытия настолько узки, каждый шаг материально настолько обусловлен, что шаг в сторону, к свободе сразу же означает нарушение «социальной» нормы, влечет за собой осуждение и наказание со стороны зажиточных слоев и «официального» общества). Остается лишь приключение души, которое в контрасте со свирепостью внешнего мира питает то трагикомическое, то лирико-трагическое видение.
Разумеется, не вся неореалистическая литература многоголосна или многопланова. Периферическими тенденциями этого течения стали так называемый окраинный реализм и бытовая литература, традиционными недостатками которых (начиная уже с аналогичных литературных явлений XVII в.) являлась скудость обобщений, отступление больших проблем перед локальным и бытовым отражением. Подобно тому как реализм XIX в. сменился натурализмом с его детерминистской ограниченностью, так и на неореалистической почве развивалась и приобретала в 1960-е гг. автономность документальная, или фактологическая, литература. Сюжет произведения исчез полностью, роль писателя в качестве организатора текста была объявлена минимальной. Таким образом, была предпринята еще одна попытка, и как всегда наивная, стереть границы между литературой и жизнью. Крупнейшие произведения неореализма, наоборот, показывают не только присутствие писателя, а гораздо большее: огромные усилия писателя, его сугубо творческую работу с материалом.
Трудно было бы осмыслить наиболее значительные романы европейского неореализма (к ним нужно отнести и «Улей» Селы), их познавательную многослойность и структурное своеобразие вне того перелома, который осуществился в европейском романе между двумя мировыми войнами. Внутренний монолог, множественность точек зрения, игра с разными планами времени и пространства, «чужими» текстами, лингвистические эксперименты — это лишь некоторые из важных новаций, введенных в литературу Прустом, Джойсом, Вульф и получивших дальнейшее развитие в творчестве Фолкнера, а затем поколений писателей, пришедших в литературу после Второй мировой войны. Коротко определяя суть этих новаций, нужно прежде всего подчеркнуть осознание значимости формы романа, той истины, что форма не является по отношению к содержанию инертной или может быть отделена от содержания, что, напротив, она способна активно расширить и усилить смысл содержания. Большая часть романных новаций 1920-1930-х гг. сводилась к явлениям психологического порядка: писатели обратились к подсознанию, различным психофизиологическим комплексам; была предпринята попытка раскрыть внутреннюю жизнь человека с большей подробностью, чем это было раньше.
Среди обновителей романа нашлись и писатели, которых прежде всего взволновала социальная сфера жизни. Из этих писателей в связи с романом «Улей» Селы необходимо выделить американского романиста Джона Дос Пассоса. Дос Пассос, которым позднее восхищался Сартр, давая высокую оценку как социальному размаху, так и искусству повествования американского писателя, начал свои новации уже в романе «Манхэттен» (1925). Этот роман состоял из коротких «сценических» эпизодов, которые, чередуясь, раскрывают параллельно истории нескольких персонажей. Чередование эпизодов почти всегда знаменует и чередование точек зрения повествования, и вместе с тем множественность точек зрения в романе. События разворачиваются в средних и низших слоях социального пространства, в данном случае Нью-Йорка, после первой мировой войны. Фиксация действительности (подобно методу других современников Дос Пассоса — Хемингуэя и Колдуэлла) напоминает методы киноискусства; важное место занимает разговорная речь, притом «низкая» речь, жаргон. Появляются вставные «чужие» тексты, главы начинаются как бы мгновенными беспристрастными снимками социального пространства. Результат этого — полифоническое, множественное видение общества. Структура (форма) романа, включая в себя множество точек зрения (линий повествования), отвечает основному объекту изображения (содержанию): она усиливает отражение общества как коллективной, множественной жизни.
Те же самые черты в «Улье» Селы, а вместе с тем и параллели между Селой и Дос Пассосом (и, разумеется, влияние Дос Пасcoca на испанского романиста) уже были отмечены такими испанскими критиками, как П. Илие, М. Дуран и Г. Гульон. Сближает этих двух писателей и принадлежность к «потерянному поколению», хотя речь идет о двух разных поколениях, в первом случае переживших Первую мировую войну, во втором — испанскую гражданскую войну. Эти поколения «потеряли» себя в войне, но, возможно, именно благодаря этой потере по-настоящему обрели себя: вместе с потерянными иллюзиями они избавились от поверхностности, наивности, стали постигать те исторические мотивы, о которых как об оправдании литературного творчества нам говорит Села.
В то же время Селу отделяет от Дос Пассоса приблизительно 20 лет. Объект изображения и время в их романах не совпадают. Исходное положение обоих можно было бы охарактеризовать как болеющую критику; этичность обоих писателей не вызывает сомнений. Но тем не менее остается ряд факторов, подтверждающих индивидуальность и аутентичность их творчества.
Дос Пассос изображает течение жизни, общество США как неудержимый поток; его роман считали примером «романа-реки» (roman-fleuve), Села, наоборот, делает все, чтобы стереть впечатление о течении. «Улей» — это фрагмент жизни, причем изображаемая автором жизнь исключает развитие, перспективу, проявляясь, скорее, как стагнация, застой, тупик. По сравнению с романом Дос Пассоса (в котором время действия охватывает больше одного года) время в «Улье» намеренно ограничено двумя-тремя днями. Время не развивается линеарно, а возвращается то по одной, то по другой линии назад (особенно ярко это видно в эпизоде, где хозяйка кафе донья Роса приказывает выбросить на улицу Мартина Марко, интеллигента, который постепенно становится главным персонажем романа). Симультанное развитие повествования, показ разных линий действия в один и тот же момент создают впечатление застоя, паралича. Естественно, время не исчезает полностью из романа (как и не исчезает полностью надежда), но оно проявляется едва-едва, засыпанное тяжелым слоем каждодневных забот.
Так как исчезает перспектива времени, на передний план выдвигаются пространственные отношения. Выключенное из процесса и движения пространство (Мадрид, центр франкизма в 1943 г.) является закрытым, закованным материальными отношениями. Угрюмы и душны не только кафе и бары, но и улицы, по которым ходят персонажи романа. Их мучит незнание; кажется, что их окружает некая необъяснимая угроза. Села сознательно усиливает атмосферу угрозы и страха, устраняя развязку истории, не давая возможности выйти из тупика. История убийства доньи Марготы, судьба Мартина Марко и других так и остаются непроясненными; нет выхода, нет перспективы; существует лишь хаос; царит слепая случайность. Мастерски сделан финал романа, в котором Мартин, казалось бы, уже приближается к прояснению и перспективе (очищение начинается на кладбище, около могилы матери). Но тут же (по возвращении в город) из мира иллюзий герой низвергается на грязное дно общества, и «тюрьму» («улей»), как бы символично подтверждая бессмысленность ответственности одного человека, когда в обществе и целом ничего не меняется.
Анархическое движение случая пронизывает в качестве центрального мотива все пространство романа. Неотделимым атрибутом этого является социальное неравенство, которое в свою очередь соединяет в себе тему физического, духовного и душевного унижения человека. Заслугой Селы можно и здесь считать то, что им найдена соответствующая данной идее структура, повествовательное развитие. Исключаются округленный сюжет, линеарно формирующаяся «история» (созданная автором искусственная рамка, в которую заключается действительность); вместо этого мы видим, что соприкосновение персонажей возникает неожиданно, спонтанно, как бы в результате чистой случайности среди жизненного хаоса. В романе Дос Пассоса «Манхэттен» созданную непосредственно автором сюжетную линию все же можно опознать; зато в романном цикле «США» (1930-1936) Дос Пассос (как позднее Села в своем «Улье») уже сознательно уступает инициативу действительности: разные сюжетные линии в этих романах долго развиваются независимо друг от друга, и если в конце точки соприкосновения все-таки появляются, то они уже не формируют сюжета, а только придают ему определенные оттенки. Таким образом, идею заставляют отступать перед действительностью. Случайность жизни превосходит случайность в плане идеи, представляя скорее закономерность, законы природного и материально-биологического бытия. В «Улье» видно, как «витальный» сюжет то уплотняется, то разреживается; персонажи то взаимно приближаются, то отталкиваются друг от друга. Часть персонажей находится в тесной взаимной зависимости, другие соприкасаются лишь бегло. Некоторые персонажи появляются только на мгновение и тут же незаметно исчезают; другие постоянно находятся на переднем плане, и тем не менее автор не позволяет их «историям» округлиться, замкнуться. Возникают временные контрапункты, связующие нити между людьми и событиями (газетные новости, затемнение, убийство доньи Марготы и др.), но они тут же рвутся, обнаруживая поверхностность человеческих связей, глубокое одиночество человека.
Транспонируя большой «сюжет жизни» в свой роман, Села последовательно чередует разные пласты повествования, «сцену», «фон» и «комментарий». Если обновители романа 1920-1930-х гг., пренебрегая предыдущим субъективированным повествованием, как правило, старались стереть всякие, даже самые незначительные внешние признаки своего присутствия в качестве автора (к этому близки и цели неореалистов), то Села, хорошо понимая условность самой объективации, усугубляет постоянно свои «сцены» с помощью «фона» и «комментария», как бы намекая на возможность усовершенствования техники, на новые камеры, способные запечатлеть объекты и в темноте, проникнуть сквозь кожу внутрь человека, в скрытые области его существования. Тем не менее сохраняется необходимое многообразие: подобно тому как в жизни часть людей быстро раскрывает себя, а другие предстают только внешней стороной, которая может создать резкий контраст с внутренней, так и камера Селы то раскрывает персонажей до конца, то ограничивается «сценами», которые, постепенно восполняя друг друга, освещают сущность персонажа.
Материальную обусловленность, ограниченность и вместе с тем духовную пустоту послевоенной Испании Села подчеркивает и тем, что не изображает общество в целостном разрезе, а ограничивается его «низкой» частью, охватывающей прежде всего мелкую буржуазию, рабочих и маргинальную прослойку (бедные, бездомные, проститутки). Если у Дос Пассоса (как и у итальянского неореалиста Силоне), несмотря на бескомпромиссное изображение «низкой» действительности, ясно ощущается склонность к дополнению «костумбристского» (бытописательного) плана другим планом идей и, таким образом, к воссозданию идеологической и политической характеристики общества как целого (план идей часто представляется в виде «чужих» текстов, газетной информации, а также посредством, так оказать, объективной авторской камеры), то Села в «Улье», по-видимому, сознательно избегает затрагивать высшие сферы общества. Он как будто исходит из предпосылки, что для проникновения в сущность общества и для раскрытия его пороков достаточно осуществить вивисекцию его низа, его корней. Целое отражается и здесь, хотя иногда лишь в виде намеков. Отражается именно потому, что общество, изображаемое Селой, — это тоталитарное общество, диктатура, которая боится перемен и переходов, закрывает все входы и выходы. Повсюду стены; возможностей для отражения бесконечно больше, чем в «открытом» пространстве. Села не выходит из плана ежедневного быта, рутинной реальности, но снабжает его опознаваемой символикой, которая позволяет сделать выводы и о более высоком (в романе непосредственно не показанном) плане пространства.
Одним из центров изображаемого пространства в романе является кафе доньи Росы. Его атмосферу формирует хозяйка, символ правой, ортодоксальной и реакционной Испании, персонаж, который своим богатством, властностью, приземленностью и жестокостью чем-то напоминает некоторых женских персонажей Габриэля Гарсии Маркеса. Это наиболее темная часть Испании, опора традиции, «порядка» и физического насилия наряду с теми многочисленными духовно ограниченными в своей наивности карикатурными домохозяйками, которых в романе олицетворяют доньи Виситасьон, Матильде, Асунсьон и другие. Высший идеал доньи Росы — накопление. В ее кафе не разговаривают о политике, а если и говорят, то только в «правоверном» духе, восхваляя лозунги официальной пропаганды. Донья Роса не терпит духовности.
Правый лагерь и «официальная» идеология представлены в «Улье» еще целой группой персонажей, причем именно здесь в самом открытом виде проявляется деформирующий гротеск Селы: писатель не щадит сил, разоблачая представителей правого лагеря и их порочную безнравственную сущность (хорошим примером может служить история дона Роке и его семьи). Правый, ортодоксальный лагерь изобилует жуликами, карьеристами, аферистами, которые ловко пользуются отсутствием демократических основ системы для личного обогащения и продвижения по социальной лестнице (весь правый лагерь образует сплоченный клан, делящий между собой обеспеченные властью привилегии).
Другим центром в пространстве «Улья» является бар Селестино. Он как бы представляет противоположную, оппозиционную силу (Селестино участвовал в гражданской войне на стороне республики). Во всяком случае Селестино со своим баром явно воплощает ту (и также влиятельную) часть Испании, которая ради того, чтобы обеспечить существование, вынуждена присоединиться к господскому лагерю, однако страдает из-за этого и сохраняет романтические мечты о более духовной и душевной жизни. Эту часть испанской мелкой буржуазии всегда характеризовала определенная склонность к анархии (так, Селестино читает произведения Ницше, но в конце романа мы увидим, как он в требующей морального решения ситуации солидаризируется с Мартином, находящимся в социальном отношении «ниже», чем он). Села никак не идеализирует Селестино; не идеализирует он и испанскую, гуманистически настроенную, но часто далекую от жизни интеллигенцию, олицетворяемую в романе довольно карикатурно доном Ибрагимом: патетику обоих персонажей (как красноречие дона Ибрагима, так и героические грезы Селестино) он приземляет с помощью иронии.
Гораздо ниже, чем названные два пространственных центра, находятся улица и официальные или неофициальные места развлечения. Как улица, так и публичные дома являются символом временного, проходящего: улица не дает крова никому, а публичный дом — это лишь иллюзорный, недолговечный кров. Их населяют люди, которых господствующая система со своим легализованным неравенством толкала ко «дну». Здесь голод, лишения сильнее всего влияют на людей. Чтобы хоть на мгновение избавиться от нужды, им приходится унижаться, скрывать чувства и мысли, продавать свое тело. Это весьма безутешное зрелище, где всякий выход перекрыт как законами самой общественной системы, так и естественными (биологическими) склонностями человека. Но отметим, что именно женских персонажей Селы, жертвующих своим телом и более всех страдающих от угнетения, находящихся «ниже» всех, продолжают соединять некая необъяснимая теплота и близость. Может быть, в этом и коренятся надежда Селы и одновременно метафорическое, романно-философское соответствие его идее о том, что человек — вообще не политическое животное (как предполагал Аристотель), а, скорее, одинокое животное, которое на самом деле все-таки нуждается в обществе, так до сих пор это и не осознав.
Л-ра: Iberica. Культура народов Пиренейского полуострова в ХХ в. – Ленинград, 1989. – С. 178-185.
Критика