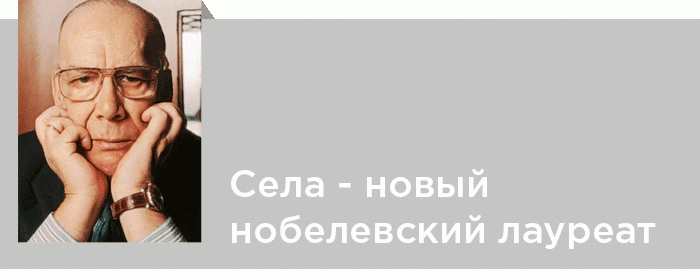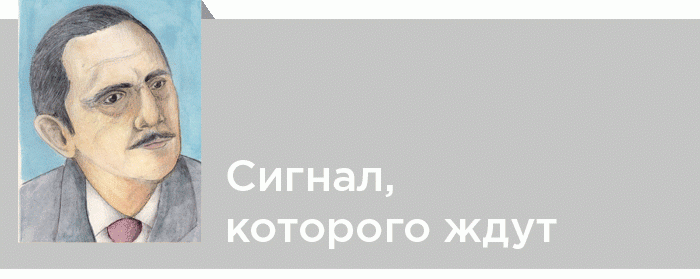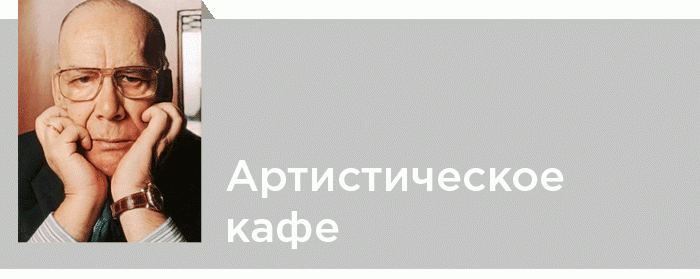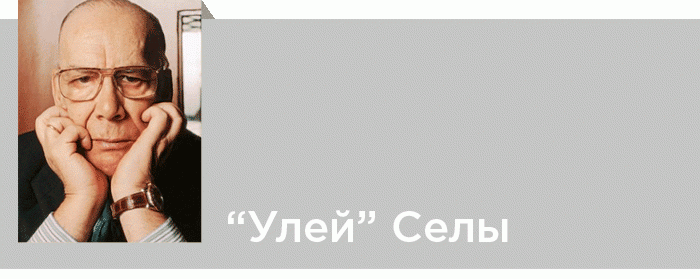Камило Хосе Села. Семья Паскуаля Дуарте

(Отрывок)
Посвящаю это издание моим врагам, которые столь помогли мне в моей карьере
ЗАМЕЧАНИЕ ПЕРЕПИСЧИКА
По-моему, пришла самая пора издать воспоминания Паскуаля Дуарте. Сделать это раньше значило б, пожалуй, проявить излишнюю поспешность; я, не хотел торопиться с их подготовкой к печати, потому что всякий труд, включая исправление орфографических ошибок в рукописи, требует времени, да вскачь, как говорится, и пахать без толку. Сделать это позднее было б, с моей стороны, ничем не оправдонной проволочкой: раз труд закончен, он должен быть обнародован.
Отыскав приводимые далее записки в середине 1939 года в одной из аптек Альмендралехо, где их оставила бог знает чья неведомая рука, я беспрерывно с тех самых пор на досуге разбирал их и приводил в порядок, ибо отчасти из– за плохого почерка, отчасти из-за того, что найденные четвертушки листа не были пронумерованы и лежали не в идеальной последовательности, рукопись едва поддавалась прочтению.
С самого начала хочу со всей ясностью заявить, что мое участие в создании произведения, которое я предлагаю теперь любознательному читателю, ограничилось его перепиской; я не переправил и не добавил от себя ни единой буквы, желая сохранить в неприкосновенности даже стиль повествования. В некоторых чрезмерно грубых местах я предпочел воспользоваться ножницами и прибег к хирургической операции, что, естественно, лишает читателя возможности ознакомиться с некоторыми мелкими подробностями (не зная которых, он ничего не теряет), но зато имеет то преимущество, что избавляет его от интимных признаний отталкивающего свойства, которые, повторяю, я счел более уместным вырезать, нежели приглаживать.
Герой, на мой взгляд, являет собой единственный в своем роде пример поведения (только потому я и вытаскиваю его на свет божий) – пример не для подражания, а для избежания, пример, перед которым смолкает любое сомнение, пример, перед которым достаточно сказать: «Видишь, что он делает? Ну, так надо как раз наоборот».
Однако предоставим слово Паскуалю Дуарте – ему есть что порассказать нам интересного.
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К РУКОПИСИ
Сеньору дону Хоакину Баррере Лопесу,
Мерида.
Глубокоуважаемый сеньор, Вы простите меня, что посылаю вам при этом письме, и без того длинном, мою длинную повесть, но потому как случилось, что из друзей дона Хесуса Гонсалеса де ла Ривы (бог да простит его, как, не сомневаюсь, сам он простил меня) вы единственный, чей адрес мне запомнился, я решил отправить ее вам, чтобы от нее избавиться, а то при одной мысли, что я написал ее, меня в жар кидает, и в худую минуту, которых, по воле бога, перепадает мне ныне много, я могу ее выбросить и тем лишить иных людей возможности крепко– накрепко затвердить себе то, что сам я узнал, когда было уже поздно.
Немного поясню вам, в чем дело. Поскольку для меня не тайна, что, на беду мою, поминать меня будут больше лихом, и мне хочется облегчить, насколько возможно, мою совесть открытой исповедью, а это довольно тяжелый вид покаяния, я решил рассказать из моей жизни что помню. Память у меня никогда не была особо крепкая, и легко может статься, что многое, даже интересное, я перезабыл, но, несмотря на это, я положил рассказать все, что не выветрилось из головы и не отказалась писать рука, а было еще и другое, и я пытался его описать, но на душе у меня стало так муторно, что я предпочел о нем умолчать и позабыть навсегда. Принимаясь за такие записки, я хорошо понимал, что настанет в моей жизни событие, описать которое я никак не смогу, – это моя смерть, да сделает господь ее быстрой; над этим вопросом поломал я голову немало и – готов поклясться вам жалким остатком жизни – не раз боялся лишиться чувств оттого, что рассудок не давал мне ответа, на чем же мне поставить точку. Я надумал, что лучше всего начать, а развязку возложить на бога – когда он руку мою остановит, тогда и ладно, – и так я и сделал; и вот сегодня, чувствуя, что мне уже опостылела вся эта прорва бумаги, заполненной моей болтовней, я окончательно бросаю писать и предоставляю вам самому докончить в воображении мою жизнь – докончить ее вам будет нетрудно, поскольку, помимо того, что жить мне заведомо осталось недолго, не думаю, чтоб в этих четырех стенах со мной приключились новые важные события.
Когда я начинал составлять то, что вам теперь посылаю, меня терзала мысль, что кто-то уже знает, завершу я мою повесть или нет и на каком месте прерву ее, если неверно рассчитаю время, и эта уверенность, что волей– неволей все мои действия пойдут по заранее известной колее, прямо сводила меня с ума. Теперь, стоя ближе к порогу иной жизни, я смиреннее. Да удостоит меня господь своего прощения.
Рассказав все пережитое, я замечаю в себе какую-то успокоенность, и бывает, что даже совесть мучает меня меньше.
Верю, что вы поймете и то, о чем лучше говорить вам не стану, потому что лучше того не знать. Сожалею теперь, что сбился с пути, но в этой жизни прощения не прошу. Зачем? Может, оно и к лучшему, если со мной сделают что намечено, не то я, всего вероятнее, опять примусь за старое. Не хочу просить о помиловании: слишком много зла усвоил я из жизни и чересчур слаб, чтоб противиться инстинкту. Пусть свершится то, что записано в небесной книге.
Примите, сеньор дон Хоакин, вместе с посылкой мои извинения, что побеспокоил вас, и не откажите в мольбе о прощении, с которым обращается к вам, как к самому дону Хесусу, ваш покорный слуга Паскуаль Дуарте,
Бадахосская тюрьма, 15 февраля 1937 года
ПУНКТ ИЗ СОБСТВЕННОРУЧНОГО ЗАВЕЩАНИЯ ДОНА ХОАКИНА БАРРЕРЫ ЛОПЕСА, КОТОРЫЙ УМЕР БЕЗ НАСЛЕДНИКОВ, ЗАВЕЩАВ ВСЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО МОНАХИНЯМ ОРДЕНА ДОМАШНЕГО УСЛУЖЕНИЯ.
4. Приказываю лежащие в ящике моего письменного стола бумаги в перевязанном шпагатом пакете с надписью красным карандашом «Паскуаль Дуарте», не читая, незамедлительно предать огню как подрывные и противные добрым нравам. Тем не менее если провидение распорядится так, что указанный пакет, без чьего-либо злонамеренного вмешательства, в течение 18 месяцев не будет сожжен согласно моему желанию, приказываю тому, кто его найдет, не уничтожать его, а взять себе в собственность и поступить с ним по своему усмотрению, если оно не противоречит моей воле.
Дано в смертный час в Мериде (Бадахос)
11 мая 1937 года.
Памяти славного аристократа дона Хесуса Гонсалеса де ла Ривы графа Торремехийя, который, принимая смерть от руки автора, назвал его голубчиком и улыбнулся.
П. Д.
(1)
Я, сеньор, не злой человек, хотя озлобиться причины у меня были. Все мы, смертные, в той же самой шкуре родимся, однако, покуда растем, судьба удовольствия ради изменяет нас так или эдак, будто мы из воска, и разными путями направляет к единому концу – смерти. Одним велено шествовать по дороге, устланной цветами, других посылают продираться сквозь чертополох и колючки. Те глядят безмятежно и, как младенцы, улыбаются запаху своего счастья, а эти страждут от палящего солнца равнины и, чтоб кто не тронул, щерятся, как мелкое зверье. Большая разница – натираться румянами да одеколоном или разукрашивать себя татуировкой, которую ничем не сотрешь.
Родился я тому назад уже много лет – пятьдесят пять но крайней мере – в деревне, затерянной в провинции Бадахос; деревня стояла в двух лигах от Альмендралехо, приткнувшись к проезжей дороге, гладкой и длинной, как день без хлеба, гладкой и длинной – на ваше счастье, этой глади и этой длины вы и представить себе не можете, – как дни смертника.
Деревня была жаркая, открытая солнцу, весьма обильная оливами и – с вашего позволения – свиньями, с такими белыми домами, что от одного воспоминания глазам больно, с площадью, замощенной плитами, с красивым фонтаном на три трубки посреди площади. К тому времени, как я покинул деревню, вода из отверстий не била уж несколько лет, и, однако, каким благородным, каким изящным казался всем нам этот фонтан, украшенный фигурой голого мальчика, весь в завитках наподобие цветов розмарина по краю бассейна! На площади стояла управа, большая и квадратная, как ящик из-под табака, с башней на крыше, а на башне были часы, белые, как причастная облатка, и всегда показывали девять, будто их повесили для красоты, а не для дела. Дома в деревне, само собой разумеется, были и хорошие, и плохие; плохие, как водится, преобладали. Единственный дом в два этажа – дом дона Хесуса – радовал глаз верандой в изразцах и цветочных горшках. Дон Хесус вообще очень любил растения и, сдается мне, наказал домоправительнице ходить за геранями, гелиотропами, пальмами да мятой, как за малыми детьми: старуха вечно сновала с ковшиком и заботливо их поливала, что, несомненно, шло им на пользу – такие они были пышные и зеленые. Дом дона Хесуса тоже стоял на площади и, странное дело,– при богатстве-то хозяина, не скупившегося на траты,– отличался от остальных домов не только в хорошую сторону, как я сказал уже, но и в худую – фасад у него был цвета камня как он есть (что очень простит), а не беленый, как у всех, даже самых бедных домов, но дон Хесус, верно, имел на то свои причины. Над входом красовались каменные гербы большой, как говорят, ценности, увенчанные головами древних воинов в шлемах с перьями; головы глядели одна на восток, другая на запад как бы в знак того, что караулят дом от опасности, которая может оттуда прийти. За площадью, примыкая к дому дона Хесуса, стояла церковь с каменной колокольней и колоколом, звонившим по-особенному; описать этот звон не берусь, хотя слышу его так явственно, будто он идет из-за угла. Колокольная башня была той же высоты, ч ю и часовая, но аисты, прилетая, знали, на какой они провели прошлое лето: хромой аист, переживший у нас две зимы, был из гнезда над церковью – он вывалился оттуда птенцом, испугавшись ястреба.
Мой дом стоял за околицей, примерно в двухстах широких шагах от самой деревни. Был он узкий и – сообразно моему общественному положению – одноэтажный, но я привязался к нему и бывало даже им гордился. Собственно говоря, единственным в доме, на что стоило глядеть, была кухня – первое, что открывалось глазам при входе. Всегда чистая, тщательно выбеленная, с полом хоть и земляным, но плотно утоптанным и в узорах из камешков, она ничем не уступала кухням многих других домов, хозяева которых заливали пол цементом, считая, что так современнее. Очаг был широкий и просторный, а вокруг колпака, по краю шла полка с нарядной посудой: памятными кувшинами, расписанными голубой краской, и тарелками с голубыми или желтыми рисунками – на одних изображено лицо, на других цветок, или рыба, или какое-нибудь имя. По стенам висели разные вещи: очень красивый календарь с картинкой – девушка с веером на палубе корабля, а под ней подпись, наведенная как бы серебряным порошком: «Модесто Родригес. Высококачественные колониальные товары. Мерида (Бадахос)»; цветной портрет Эспартеро в парадном мундире; три или четыре фотографии – одни маленькие, другие обычного размера – не знаю чьи: всю жизнь видел их на том же месте и потому мне в голову не приходило спросить. Еще висели у нас будильник, да не просто так – ходил он исправно, и красная бархатная подушечка, в которую были воткнуты красивые булавки с разноцветными стеклянными головками. Мебель на кухне была простая и скудная – три стула (один из них очень хорошего качества, со спинкой и ножками гнутого дерева и плетеным сиденьем) и сосновый, с ящиком, стол, который для стульев был низковат, но свое назначение выполнял. На кухне было уютно и удобно: летом, когда мы не топили и под вечер, раскрыв настежь двери, садились на камень очага,– прохладно, зимой тепло от углей, которые, если их хорошо уложить, иногда сохраняли жар всю ночь напролет. Занятно бывало глядеть на наши тени на стенке, когда по углям пробегали огоньки! Огоньки появлялись и исчезали, одни медленно, другие подпрыгивая, точно играли. Помню, в детстве я их боялся и даже теперь, взрослым, вздрагиваю, припоминая свои тогдашние страхи.
Остальное в доме не стоит труда описывать – такое все было простое и грубое. Помимо кухни, имелись две жилые комнаты, если называть их жилыми только за то, что в них жили,– других оснований нету, и конюшня, которая стояла по большей части пустая и заброшенная, так что теперь уж и не знаю, за что мы называли ее конюшней. В одной комнате спал я с женой, в другой мои родители, пока бог или, может, дьявол их не прибрал; с тех пор она почти всегда пустовала – сперва в ней некому было жить, а после жилец отыскался, да предпочел кухню, где было светлей и не дуло. Сестра, приезжая домой, спала только на кухне, и детишки, когда я обзаводился ими, едва сойдя с материнских рук, тянулись туда же. Оно верно, комнаты были не очень-то чистые и устроенные, но, по правде сказать, и жаловаться не приходилось – от рождественских туч и успенского зноя по мере возможности они укрывали, а это главное. Конюшня была хуже всего – темная, мрачная, стены пропитаны запахом мертвечины, какой разносился со свалки в мае, когда скотина начинала плодить падаль воронью на кормление.
Удивительное дело, но смолоду, разлучаясь с этим запахом, я впадал в тоску прямо смертную. Помню, когда ездил в столицу провинции на рекрутский набор, в дороге мне весь божий день было не по себе – я обнюхивал воздух, как охотничий пес. На постоялом дворе, ложась спать, я понюхал свои плисовые штаны, и кровь горячей волной прошла у меня по всему телу. Я сдвинул подушку в сторону и лег головой на штаны, сложив их вдвое. В ту ночь я спал как убитый.
В конюшне мы держали тощего, клячеватого осла для работ, а когда дела складывались неплохо, что, откровенно сказать, бывало не всегда, еще пару– тройку, извиняюсь, свиней. За домом у нас был загон в виде пристройки, не очень большой, но по нашему хозяйству достаточный, и в нем колодец, который со временем пришлось мне закупорить, потому что вода из него шла очень нездоровая.
Позади загона лежал проточный пруд, пересыхавший иногда наполовину и до краев никогда не заполнявшийся, грязный и вонючий, как цыганский табор; в нем ловились недурные угри, и вечерами я порой занимался этим от нечего делать. Жена моя, несмотря ни на что остроумная, говаривала, что угри жирны оттого, что едят то же, что и дон Хесус, только днем позже. Когда находила на меня блажь поудить, часы пролетали так незаметно, что собирать манатки спохватывался я обычно уже в темноте. Вдали, как приземистая широкая черепаха или свернувшаяся в клубок змея, что боится оторваться от земли, зажигал свои электрические огни Альмендралехо. Его жителям и невдомек было, что вот я поудил рыбу и теперь смотрю, как зажигаются огни в их домах, да еще воображаю себе, как многие из них говорят то, что приходит мне в голову, или рассуждают о том, о чем размышляю я сам. В городах люди живут спиной к правде, они зачастую не подозревают, что в двух лигах от города, посреди равнины, деревенский человек может развлекаться мыслями о них, сматывая удочку и подбирая с земли корзинку с полдюжиной угрей!
Однако рыбная ловля мне всегда казалась занятием, мало подходящим для мужчины, и свой досуг я по большей части посвящал охоте. В деревне я считался охотником не из последних, и, сказать без ложной скромности, те, что так думали, не заблуждались. У меня была легавая сучка Искра, хитрая и свирепая, но меня слушалась отлично; с ней по утрам я часто хаживал на болото – за полторы лиги от деревни в сторону португальской границы, и мы никогда не возвращались домой порожними. На обратном пути собака убегала вперед и поджидала меня на развилке, где лежал круглый сплюснутый камень вроде низкой табуретки, о котором вспоминаю я тепло, как о человеке, и безусловно с большим удовольствием, чем о многих людях. Был он широкий, с небольшой впадиной; когда я садился, моя, извиняюсь, задница соскальзывала в ямку и так удобно в ней располагалась, что жаль бывало вставать; я подолгу просиживал на камне у развилки, поставив ружье между колен, свистел, глядел по сторонам, курил самокрутки. Сучка садилась напротив и, склонив голову набок, смотрела на меня карими, очень смышлеными глазками; я заговаривал с ней, а она, как бы для того, чтоб понять меня лучше, слегка настораживала уши; когда я умолкал, она вскакивала побегать за кузнечиками или просто меняла позу. Уходя, я всегда, сам не знаю почему, вроде бы на прощание, оборачивался к камню, и вот однажды мне показалось, он так опечалился моим уходом, что я не выдержал – вернулся и сел снова. Собака устроилась напротив и уставила на меня глаза; теперь-то я понимаю, что взгляд у нее был, как у исповедника – пытливый, холодный, что называется рысий… По всему моему телу пробежала дрожь, будто какой-то ток силился выйти из меня через руки. Самокрутка моя давно погасла, ружье-одностволка, которое я медленно поглаживал, стояло между колен. Собака упорно не сводила с меня глаз, как будто видела впервые или вот-вот собиралась в чем-то обвинить; от ее взгляда кровь в моих жилах так горела, что я чувствовал приближение минуты, когда вынужден буду сдаться; мне было жарко, ужасно жарко, и глаза сами опускались под острым взглядом твари.
Я поднял ружье и выстрелил, перезарядил и выстрелил снова. Кровь у собаки была темная и вязкая, она постепенно расползалась по земле.
(2)
О детстве у меня сохранились не очень приятные воспоминания. Отца моего звали Эстебан Дуарте Динис, и был он португалец, в возрасте уже за сорок в пору моего младенчества, высокий и толстый, как гора. У него была темная от солнца кожа и огромные черные усы, загнутые книзу. В молодости, говорят, концы их торчали кверху, но после отсидки в тюрьме, где с него посбили спесь, сила в усах ослабла, и он так до могилы и носил их обвислыми. Я его весьма почитал и сильно побаивался, сторонился, как только мог, и старался не попадаться ему под ноги; был он суров и резок и не терпел, чтоб ему перечили, – прихоть, которую я уважал в своих же интересах. Приходя в ярость, что случалось с ним чаще, чем стоило, он за что попало колотил мать и меня; мать давала ему сдачи, надеясь его образумить, мне же, учитывая мои малые годы, оставалось только смиряться. В юном возрасте тело очень чувствительное!
Ни самого отца, ни мать я не смел расспрашивать про то время, когда его посадили, считая, что собак, которые и без того кидаются чаще обычного, благоразумнее не дразнить. Но само собой ясно, что, по сути дела, мне и нужды не было о чем-то спрашивать, – нашлись люди (доброхоты всегда сыщутся, особенно в местечках с таким малым числом населения), которые поспешили все мне выложить. Отца взяли за контрабанду; видимо, он промышлял ею много лет, но уж коль повадился кувшин но воду – сложить ему голову, и, потому как нет промысла без изъяна, а где сладко, там и падко, в один прекрасный день, когда он заведомо всего меньше того ждал – храбрецов губит самонадеянность,– пограничники выследили его, захватили с грузом и упекли в тюрьму. Все это, надо полагать, было очень давно, потому что сам я ничего такого не помню; наверно, меня еще и на свете не было.
Моя мать в противоположность отцу дородством не удалась, хотя рост имела очень хороший; была она длинная и сухопарая и с виду не отличалась крепким здоровьем, даже наоборот – лицо цветом точно лимон, щеки впалые и вся внешность такая, что не поймешь – то ли чахотка у нее, то ли вообще она долго не протянет. К тому же была она крута и неистова, нрав имела дьявольский, и дай бог, чтоб на том свете ей не досталось за язык, потому что ругалась она последними словами то и дело и по любому вздорному поводу. Ходила она всегда в черном и с водой не дружила, до того не дружила, что, сказать откровенно, за всю мою жизнь я только один раз видел, как она умывалась – и то потому, что отец обозвал ее пьяницей, а она хотела доказать ему, что не боится воды. Зато к вину такого отвращения у нее не было, и, спроворив монету-другую, а то и вытряхнув их из мужнего жилета, она непременно посылала меня в кабачок за бутылкой и прятала ее под кроватью, чтоб не добрался отец. В уголках губ у нее росли седые усики, а жесткую всклокоченную шевелюру она убирала в пучок – не очень большой – на затылке. Вокруг рта были заметны рубцы, или метки, маленькие и розовые, как следы дроби, оставшиеся, я думаю, от дурных прыщей, которые были у нее в молодости; летом они иногда оживали, разгорались цветом и наливались гноем с булавочную головку, а осенью жухли и зимой сходили совсем.
Мои родители промеж себя жили плохо; как люди малообразованные, не имея к тому же особых достоинств и склонности поступать так, как велит господь (недостатки, которые, на беду мою, все перешли ко мне по наследству), они очень мало заботились о соблюдении заповедей и обуздании инстинктов, а это вело к тому, что по любому самому мелкому поводу у нас поднималась буря и не затихала по многу дней кряду – бывало, конца ей не видно. Я, как правило, ничьей стороны не держал, потому что, сказать откровенно, мне было безразлично, кто возьмет верх; порой я радовался, что отец вздул мать, порой – что мать вздула отца, но никогда не считал это вопросом жизненной важности.
Мать не умела ни читать, ни писать, отец умел и так этим гордился, что напоминал ей про то семь дней на неделе и часто, хоть и некстати, обзывал ее неграмотной дурой – тягчайшее оскорбление для моей матери, от которого она свирепела, как дракон. Случалось, отец приносил домой газету и, хотели мы или нет, сажал нас обоих на кухне и читал вслух последние известия; известия затем обсуждались, и вот тут на меня нападала дрожь, потому что обсуждения неизменно кончались потасовкой. Мать назло отцу говорила, что ничего этого в газете нет и что он все выдумал, а отец от ее слов выходил из себя – орал как полоумный, обзывал ее неграмотной дурой и ведьмой и никогда, бывало, не забудет громовым голосом добавить, что, умей он говорить как по-писаному, черта с два он бы на ней женился. И тут поднималось: мать ругала его грубым мужиком и мерзавцем, честила голодранцем и португалишкой, а он снимал ремень, будто дожидался только этого слова, и гонял ее по кухне, покуда не надоест. На первых порах мне тоже перепадало ремнем разок-другой, но, став опытнее и усвоив, что не надо лезть под дождь, коли не хочешь вымокнуть, я, стоило мне завидеть, что дело принимает скверный оборот, убегал, оставляя их наедине. Пускай разбираются сами.
Что и говорить, жизнь у нас в семье была не очень-то радостная, но раз уж выбирать нам не дано и еще до рождения одним назначена одна участь, а другим другая, я старался приноровиться к тому, что выпало на мою долю,– это ведь единственный способ не отчаяться. В детстве, когда воля человека всего податливее, меня недолгое время посылали в школу; отец говорил, что борьба за существование очень сурова, к ней надо готовиться и единственное оружие, с помощью которого жизнь можно одолеть,– это оружие ума. Все это он выпаливал одним духом, как заученное, и в такие минуты голос его смягчался и приобретал неожиданные для меня оттенки. Потом, словно раскаиваясь, он принимался громко хохотать и, отсмеявшись, говорил почти что ласково:
– Не слушай меня, сынок. Я старею!
Он задумывался и тихо повторял, раз и еще раз:
– Старею! Старею!
Мое школьное образование продолжалось недолго. Отец имея, как я сказал, характер буйный и властный, в иных делах был слаб и малодушен; я вообще заметил, что характер он проявлял только по пустякам, а в важных вопросах – не знаю, из робости или еще почему, – редко настаивал на своем. Мать не хотела, чтобы я ходил в школу, и по всякому поводу, а то и без повода твердила мне, что жить в бедности – ученья не надо. Ее слова упали на тучную почву – меня самого сидеть на уроках не прельщало, и вдвоем мы – да еще время нам подсобило – убедили в конце концов отца, чтоб он разрешил мне бросить занятия. Я умел читать и писать, знал сложение и вычитание и, если разобраться, к самостоятельной жизни был вполне подготовлен. Когда я бросил школу, мне было двенадцать лет, но не будем забегать вперед – всякое дело любит порядок, и оттого, что мы встанем до зари, солнце раньше не подымется.
Я был еще довольно мал, когда родилась сестра Росарио. То время помню я неясно и смутно и не знаю, до какой степени верно передам это событие; попробую, однако, и думаю, что, даже если мой рассказ погрешит неточностью, он все равно будет ближе к истине, чем любой ваш домысел, основанный на чистом воображении, что называется – сляпанный на глазок. Помню, что день, когда родилась Росарио, был жаркий – стоял, должно быть, июль или август. В пересохших полях ни ветерка, визжат цикады, будто хотят пропилить землю насквозь; люди и скотина попрятались; в вышине господином ходит солнце, все освещает, все палит… Мать моя рожала всегда очень трудно и болезненно; она страдала женским недугом, телом была суха, и боль превышала ее силы. Примером добродетелей и достоинств бедняга никогда не была, переживать молча, как я, не умела, и оттого у нее все выходило криком. Покуда Росарио родилась, она прокричала несколько часов – в довершение своих бед рожала она подолгу. Говорит же пословица: баба с усами, что подолгу рожает… (вторую половину пословицы не пишу из внимания к очень высокой особе, которой эти строки предназначаются). Повитухой у матери была женщина из деревни – сеньора Энграсия с бугра, дока по хворям и родам, вроде бы колдунья и вообще какая-то таинственная; она принесла с собой снадобья и накладывала матери на живот, чтоб облегчить боль, но мать и с мазью, и без мази вопила что было мочи, и сеньора Энграсия, не зная, что делать, принялась срамить ее безбожницей и нехристью; тут вопли матери понеслись шквалом, и я подумал, а не одержима ли она и впрямь бесом. Мое сомнение длилось недолго – скоро выяснилось, что причиной неслыханного крика была моя новая сестра.
Отец давно уже вышагивал по кухне. Когда Росарио родилась, он кинулся к постели матери и, невзирая на обстоятельства, стал ругать ее лентяйкой и притворщицей и с такой силой лупить ременной пряжкой, что я до сих пор удивляюсь, как он не измолотил ее заживо. Потом он ушел и двое суток не показывался; вернулся пьяный в стельку, подошел к кровати и поцеловал мать – мать не отворачивалась… Потом пошел спать в конюшню.
(3)
Колыбельку для Росарио устроили из ящика, не очень глубокого, вытряхнув на дно целую подушку шерсти; Росарио лежала в нем рядом с постелью матери, обернутая в полотняные свивальники и так плотно накрытая, что я все опасался, как бы она не задохлась. До той поры я – не знаю уж почему – представлял себе маленьких детей белыми, как молоко, и отлично помню, какое неприятное впечатление произвела на меня сестренка, липкая и красная, как вареный рак; на голове у нее рос редкий пух, как на скворчатах или голубятах – со временем он вылез,– а ручонки были перетянутые и стиснутые до синевы, так что брала оторопь. Когда через три-четыре дня сестренку распеленали обмыть немного, я оглядел ее внимательно и должен сказать, на этот раз она вызвала во мне меньше отвращения: кожа у ней посветлела, глазки не открывались еще, но казалось, что веки вот-вот подымутся, и даже руки с виду как будто обмякли. Сеньора Энграсия – какая она там ни была, но в нужде всегда пособляла – начисто вымыла ее розмариновым настоем, опять завернула в свивальники – те, что почище, а сильно замаранные убрала в стирку, и ублаготворенный младенец заснул так крепко, что по тишине у нас в доме никто б не догадался, что тут были роды. Отец садился на пол у ящика и часами глядел на дочку – точно влюбленный, говорила сеньора Энграсия; я даже забывать стал про его истинный нрав. Посидев, он подымался и шел пройтись по деревне; возвращался для нас неожиданно, в необычный для него час, и снова подсаживался к ящику – лицо такое кроткое, а взгляд до того смиренный, что, не зная его, иной подумал бы, чего доброго, что перед ним сам святой Рох.
Сестренка росла хиленькой, заморенной – откуда ей взять силы, если у матери груди пустые! – и на первых порах была так плоха, что несколько раз чуть не померла. Отец горевал, что дитя чахнет, а всякое горе размыкивал он вином, так что нам с матерью одно время пришлось куда как несладко, и мы тужили по прошлому, которое казалось нам таким суровым, покуда мы не узнали худшего. Люди всегда так – что имеют не хранят, а потерявши, плачут! Матери, которая после родов стала слабей здоровьем, доставались знатные взбучки, а мне, если я подвертывался, хоть поймать меня было нелегко, небрежные пинки, от которых порой у меня, извиняюсь, из задницы текла кровь, а на ребрах оставались метки, будто припечатанные каленым железом.
Девочка помаленьку выправилась и окрепла от супов на красном вине, которыми моей матери присоветовали ее кормить, и, хоть выучилась ходить позднее, чем это обычно бывает, но от природы шустрая – а время брало свое, – совсем еще малышкой заговорила так легко и бойко, что мы надивиться не могли на ее проворство.
Эта пора, когда все детишки одинаковые, миновала. Росарио подросла – скоро невеста; приглядываясь к ней, мы всякий раз замечали, что она смекалистей ящерицы, а в семье у нас никто сроду не шевелил мозгами, хоть они на то и даны нам, и потому девчонка быстро сделалась в доме царицей, мы ж у ней по струнке ходили. Если б она от природы тянулась к хорошему, из нее вышел бы толк, но бог, как известно, не пожелал, чтоб кто-нибудь из нас отличился добрыми наклонностями, и она направила свой ум на иные надобности. Скоро нам стало ясно – хоть она и не дура, лучше бы ей быть дурой. На все ее хватало, да только не на хорошее: воровала ловко и сноровисто – впору старой цыганке, рано пристрастилась к выпивке, сводничала старухе в ее шашнях; наставить ее на верный путь и применить к доброму делу ее ясную голову было некому, катилась она все ниже и ниже и в один прекрасный день – было ей тогда четырнадцать лет,– прихватив из дому то малое, что имело ценность, сбежала в Трухильо и устроилась в заведение Эльвиры. Можете себе представить, какое действие произвел ее побег у нас в доме: отец винил мать, мать винила отца… Сильней всего ее отсутствие сказалось на отцовских привычках: раньше, когда она жила дома, он старался у ней на глазах не буянить, теперь же, от нее вдалеке, любое место и любой час были ему хороши, чтоб затеять безобразие. Любопытно, что мой отец, с которым по грубости и упрямству могли тягаться очень немногие, единственно ее и слушался; одного взгляда Росарио довольно было, чтобы утих его гнев, и не раз только ее присутствие и спасало нас от увесистых тумаков. И кто бы подумал, что этого здоровенного мужика усмирит слабый ребенок!
В Трухильо она протянула пять месяцев, по прошествии которых полумертвая, в лихорадке, вернулась домой и отлежала в постели около года – лихорадка, свойства злокачественного, чуть не свела ее в могилу, и по настоянию отца – хоть он был пьяница и забияка, но из старого христианского рода и строго соблюдал обряды – ее соборовали и приготовили в последний путь. У недуга, как водится, были свои повороты, и за днями, когда больная вроде оживала, наступали ночи, когда все мы ждали конца; родители ходили мрачные, и единственно, помню, чем было покойно в то печальное время,– несколько месяцев наши стены не слышали затрещин; вот до чего старики приуныли!.. Соседки наперебой предлагали поить сестру травами, но мы всех больше доверяли сеньоре Энграсии и за исцелением Росарио обратились к ней и ее советам; зелье она велела пить ей бог знает какое мудреное, но готовилось оно добросовестно и оттого, надо думать, и пошло ей на пользу – здоровье у нее явно, хоть и медленно поправлялось. Худая трава живуча, говорит пословица (этим я не хочу сказать худое про Росарио, хоть за ее добродетель руку в огонь не положил бы),– попивши отваров, какие наказала сеньора Энграсия, оставалось только выждать время – и к сестре вернулось здоровье, а с ним красота и задор.
Но не успела она поправиться, а родители повеселеть – кроме беспокойства за дочку, у них ни в чем не было согласия, – как снова пустилась во все тяжкие: прикарманила отцовские сбережения и без поклона – что называется по– французски – улетела; на этот раз подалась в Альмендралехо и устроилась у Ньевес-Мадридки. Конечно, и у самого отпетого негодяя в душе всегда остается что-то хорошее, во всяком случае, я так считаю, потому и Росарио насовсем нас не забыла, присылала, случалось, на именины или рождество какой-нибудь жилетик – нужен он был нам, как кушак после сытного обеда, но все же тем дорог, что сама она, пышно наряжаясь по роду занятий, в роскоши, надо сказать, не купалась. В Альмендралехо она сошлась с человеком, который ее погубил; погубил не честь, к тому времени давно погубленную, а кошелек – единственное, что ей, потерявши честь, оставалось блюсти. Звали того типа Пако Лопес, по кличке Щеголь, и должен признать, что был он видный малый, хоть и глядел в неопределенном направлении – у него один глаз был стеклянный, на месте своего, потерянного бог весть при каком подвиге, и оттого взгляд его сбивал с толку даже тех, кого смутить нелегко; роста был высокого, рыжеватый, поджарый и вышагивал так фасонисто, что первый, кто прозвал его Щеголем, можно сказать, угодил в самую точку; лучшего занятия, чем лицом промышлять, не имел – раз женщины по своей глупости его содержат, он предпочитал не работать, но, может, я потому считаю это дурным, что самому случай не подвернулся. Рассказывают, в былое время он выступал на андалузских площадях с молодыми быками; не знаю, верить тому или нет,– мне он казался храбрым только с женщинами, но так как они, и моя сестра в их числе, верили ему слепо, жил он припеваючи – вы же знаете, в какой цене у женщин тореро. Однажды, ходя на куропатку к Зарослям (имению дона Хесуса), я повстречал его на прогулке в глухом месте, за полтыщи шагов от Альмендралехо, разряженного, как картинка,– кофейная тройка, козырек, в руке прут. Мы поздоровались; он, продувная шельма, видя, что про сестру я не спрашиваю, так и тянул меня за язык, чтоб подковырнуть, но я не поддавался, и он, должно быть, заметив, что мне не по себе, уже когда подали друг другу руки и собрались расходиться, кинул безо всяких обиняков и как бы невзначай:
– А как Росарио?
– Тебе лучше знать…
– Мне?
– Брось! Будто не знаешь!
– Откуда мне знать?
Он сказал это так серьезно, что иной подумал бы – человек в жизни не соврал; мне тяжело было говорить с ним о Росарио, вы меня понимаете.
Он похлестывал прутиком кусты чебреца.
– Ну, что ж, если хочешь знать, она жива-здорова! Ты хотел про это знать, верно?
– Послушай-ка, Щеголь! Я не баба, языком не треплю… Ты не дразни меня! Ты меня не дразни!
– А чем я тебя дразню? Что ты хочешь знать про Росарио? И что тебе за дело до Росарио? Сестра она тебе? Ну так что? А у нас с ней, коли на то пошло, любовь!
В словах он меня побивал, но дойди до дела, клянусь вам моими покойниками, я убил бы его раньше, чем он ко мне прикоснулся. Я решил – надо поостыть, потому что знал свой характер, да мужчинам и не подобает драться, если у одного ружье, а у другого нет.
– Послушай-ка, Щеголь, кончим этот разговор. Любовь? Ладно, пускай! Мне– то что?
Щеголь смеялся; похоже, он хотел драки.
– Знаешь, что скажу тебе?
– Ну.
– Если б ты гулял с моей сестрой, я б тебя убил!
Богу известно, что смолчать в тот день стоило мне здоровья, но я не хотел с ним драться, почему – не знаю. Меня удивило, что со мной так разговаривают: в деревне никто б не посмел сказать мне и половины того, что сказал он.
– А если увижу когда, что ты за мной ходишь, убью посреди площади при всем народе.
– Ну, это ты загнул!
– Заколю.
– Послушай-ка, Щеголь!..
С того дня засел у меня в боку шип и сидит до сих пор.
Почему я его сразу не вырвал, и сейчас не знаю. Прошло время, и в другой свой наезд к нам – новую лихорадку лечить – сестра мне рассказала, чем кончился тот разговор. Щеголь, зайдя вечером к Ньевес повидать Росарио, отозвал ее в сторону:
– А братец-то у тебя не мужчина, а тряпка!
– Услышит голос, жмется как заяц.
Сестра за меня вступилась, но что проку – он взял верх. Взял надо мной верх в единственном бою, где я был разбит, потому что отказался вести его своими средствами.
– Ладно, детка, поговорим о другом. Сколько у тебя?
– Восемь песет.
– Это все?
– Все. Что ты хочешь? Времена тяжелые!
Щеголь хлестал ее прутиком по лицу, пока не надоело. А потом:
– А братец-то у тебя не мужчина, а тряпка!
Сестра упросила меня ради ее здоровья остаться в деревне. Шип в боку как разбередили. Почему я его сразу не вырвал, и сейчас не знаю…
Критика