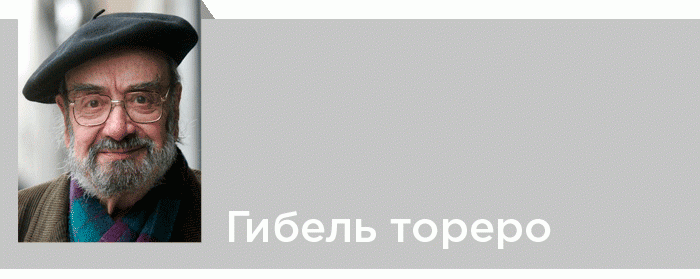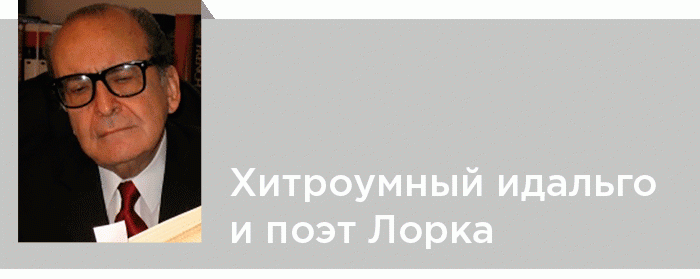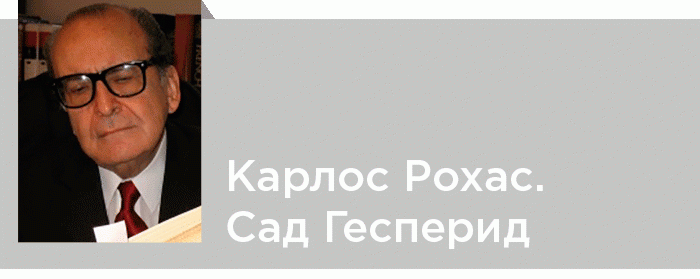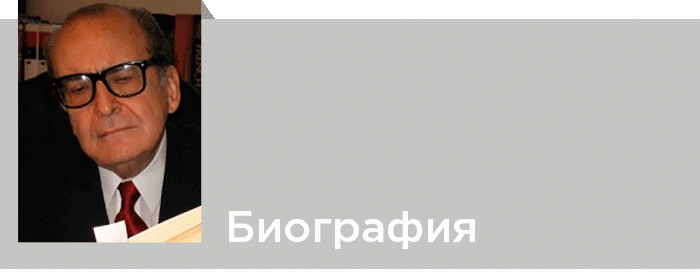Карлос Рохас. Долина павших
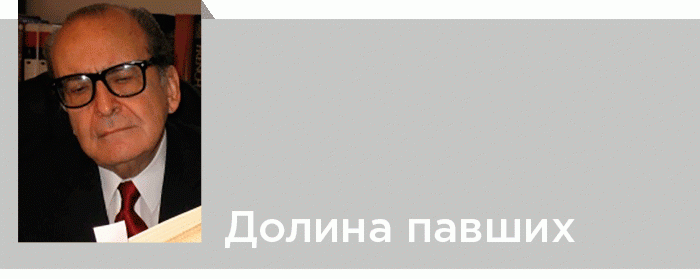
(Отрывок)
Нелепицы
Сон разума
«Семья Карлоса IV»
В июле 1800 года Гойя получает гонорар за свою самую прославленную картину «Семья Карлоса IV». Жозе Гудиоль — основываясь на дате, которой помечен денежный чек, — заключает, что художник закончил картину весной 1800 года — в первую весну XIX века. Сначала Гойя делает наброски портретов каждого из членов королевского семейства на размытом красном фоне. В Прадо хранятся эскизы портретов инфанты Марии Хосефы и принца Антонио Паскуаля, сестры и брата короля. На этих эскизах, по сути являющихся законченными картинами, совершенно отчетливо видны намерения художника в отношении полотна в целом. Гойя не станет ни идеализировать, ни очернять свои модели. Он так же далек от насмешки, как и от лести. Просто покажет короля с королевой в кругу их близких, точно так же, как некогда Веласкес написал шутов: со всеми подробностями и физическими изъянами, дабы и в них отразился внутренний мир его героев. Однако же результаты у Веласкеса и у Гойи получились совершенно противоположные. Королевские шуты Веласкеса при всем их уродстве обнаруживают повышенную чувствительность и трагическое ощущение жизни, а монаршие глупцы Гойи — как скажет о них веком позже английский писатель Олдос Хаксли — обнажают тупость, распирающее их властолюбие и затаенное коварство.
Почти на всех эскизах персонажи предстают в том же виде, что и на картине. Единственное исключение составляет эскиз головного портрета принца Дона Карлоса Мариа Исидро, который впоследствии разожжет так называемые карлистские войны, оспаривая трон у своей племянницы Исабели II. С эскиза смотрит головка ребенка со светлыми бровями; однако взгляд мальчика почти так же мрачен, как и у его старшего брата Фернандо, принца-наследника, еще более властен и лишен даже проблеска печали, в то время как в глазах его старшего брата печаль мешается со злобой. На семейном же портрете Дон Карлос Мариа Исидро, полускрытый фигурою Фернандо, — бледный мальчик-старичок, чуть ли не карлик, будто в насмешку украшенный бело-голубой орденской лентой Карлоса III; увядшее личико отрока, так и не перешагнувшего порога возмужалости.
Хотя король и выставил ногу, словно собираясь шагнуть вперед, главным персонажем этого трагического гротеска выглядит королева. С глубоким декольте и вся в драгоценностях — на груди, на парике и в ушах, — она улыбается неприятной улыбкой: губы сжаты, почти не видны. В те самые дни, когда Гойя работает над картиной «Семья Карлоса IV», в марте 1800 года, французский посол пишет Наполеону: «Королева встает в восемь, принимает нянек и отдает распоряжения, как прогуливать детей. Ежедневно она пишет письма Принцу Мира, подробно рассказывая ему обо всем. После того как отзавтракает король, подается завтрак королеве. Королева ест в одиночестве, ей готовят специальные блюда, поскольку у нее нет зубов. Три умельца ежедневно прилаживают королеве искусственную челюсть. Королевская семья в полном составе присутствует на бое быков. Королева столь суеверна, что во время грозы прикладывает к телу святые мощи». Кажется, что голова Марии Луисы на картине вот-вот преобразится в чудовищную птицу из гойевских «Капричос». Голова монархини приводит в восторг Наполеона, захватившего Мадрид. «Невероятно! В жизни такого не видел!» — повторяет он со смехом, рассказывая о холсте. Королевская же чета, напротив, была вполне удовлетворена работой Гойи. 9 июня того же года Мария Луиса пишет Годою: «Завтра Гойя начинает писать мой портрет. Остальные, кроме королевского, уже закончены и вышли замечательно похожими». Две недели спустя королева снова пишет ему: «Гойя нарисовал мой портрет. Говорит, получился лучше всех. Теперь будет писать короля в Крестьянском домике».
В центре холста, словно покрытого смолистым налетом и написанного прозрачно, будто акварелью, Мария Луиса обнимает за плечи инфанту Марию Исабель и держит за руку принца Франсиско де Паула. В дворцовых сплетнях отцом обоих детей называли Годоя. Мальчику в то время было не более восьми лет. Искусствовед Антонина Вальентен отмечает цепкий и сумрачный взгляд, необъяснимо злобный для детского лица. Сходство его с детским портретом Годоя поразительно. Мария Исабель через два года выйдет замуж за принца Неаполитанского. Ее свекровь, королева Каролина, признается французскому послу Алкьеру, что инфанта, по всей видимости, дочь Годоя и унаследовала его внешность я жесты. И о ее брате, принце Астурийском, королева Каролина думает не лучше: «Принц ничего не делает, не читает, не пишет, не думает, ровным счетом ничего. И это — нарочно, они хотели, чтобы он вырос идиотом. А что он вытворяет постоянно по отношению ко всем — можно со стыда сгореть. И Исабель — то же самое. Им дали вырасти в полном невежестве, просто позор, что из них сделали. Мария Луиса деспотически правит Испанией и до смерти боится, как бы кто не вздумал лезть в политику или в ее дела».
Король выглядит восковой фигурой себя самого. Ему пятьдесят два, на два года меньше, чем Гойе, который написал себя с краю подобно тому, как это сделал Веласкес в «Менинах», написал себя пишущим их. Однако монарх выглядит намного старше человека, который увековечил его на этом холсте. Он состарился и не по возрасту растолстел, а было время — отличался крепостью и здоровьем. Его голубые глаза, чуть более темные, чем у брата, Антонио Паскуаля, который выглядывает из-за спины Его величества, кажутся карикатурой на карикатуру, взгляд уходит в пустоту, словно у слепца. Когда принцесса Мария Антония Неаполитанская, на этой картине пока еще невеста Фернандо, родит мертвым своего единственного ребенка, Мария Луиса напишет Годою: «Ребеночек был меньше анисового зерна. Чтобы разглядеть его, королю пришлось надеть очки для чтения». Сама Мария Антония стоит между Фернандо и Марией Исабелью, отвернувшись к картинам, висящим на стене. Она к тому времени еще не приехала из Неаполя, и Гойя, не видя, не мог нарисовать лица. Ему и впоследствии не удалось нарисовать принцессу, и картина вышла неполной. Из-за спины Фернандо и Марии Антонии выглядывает голова старой инфанты Марии Хосефы — сестры короля и Дона Антонио Паскуаля. Глядя на нее, кажется, будто зеркало, которое смотрятся гойевские ведьмы, меж тем как крылатое время собирается их вымести, возвратило жизни облик одной из них. Украшенное длинными золотыми подвесками со страусовыми перьями, это привидение улыбается. На виске у инфанты родимое пятно, а глаза такие же голубые и такие же стеклянистые, как у братьев.
Справа сбились в группу четверо. Старшая королевская дочь, Карлота, видна лишь в профиль, и только лицо. Она станет королевой Португалии, и ее дочь Исабель де Браганса будет царствовать в Испании, выйдя замуж за своего дядю Фернандо VII; для обоих это будет вторым браком. Герцогиня Абрантес называет Карлоту уродкой: одна нога короче другой, и вдобавок горб. Перед Карлотой стоит ее сестра Мария Луиса с ребенком на руках: некрасивая, с мелкими чертами лица, но открытым взглядом, делающим ее миловидной. Подушка, на которой Мария Луиса держит ребенка, не скрывает ее живота. Рядом — ее муж, принц Луис де Бурбон Пармский, наследник Пармского графства и племянник королевы. Это высокий, светловолосый, остроглазый и губастый молодой человек, в котором уже намечается тучность. Он тоже эпилептик.
На заднем плане картины — полотна, подобно тому, как на заднем плане «Менин» виднеется зеркало, которое на самом деле, может быть, и не зеркало, а картина, а может быть, и окно. У Гойи — за спинами четырнадцати изображенных на ней персонажей — два больших, висящих на стене полотна. Оба они — работы Гойи, хотя их и нет в полном каталоге Гудиоля. На первом — мягкий пейзаж в рассеянном свете, возможно, юношеская работа художника, когда он видел мир таким, каким позволяло его видеть время, — в отблеске просветительских идей; то был период «Игры в жмурки» и пикников на берегу Мансанареса. На другом, потемневшем от лет, с трудом можно различить три фигуры. До 1967 года никто не обращал на него особого внимания, а между тем в этом полотне заключена последняя, нравственная разгадка картины «Семья Карлоса IV».
В июне 1967 года музей Прадо решил реставрировать картину «Семья Карлоса IV», а в декабре были выставлены на общее обозрение удивительные результаты этой работы. На полотне, изображенном позади семейной группы, рядом с пейзажем, являющим светлые березки у ручья, изображена странная оргия гигантов. На этой картине внутри картины широкими мазками, которые идут от Веласкеса и предвосхищают, а быть может, и закладывают основы импрессионизма и экспрессионизма одновременно, Гойя пишет обнаженного титана, вкушающего наслаждение в обществе полуобнаженных женщин, столь же огромных, как и он. Лицо мужчины — несомненно — лицо Гойи, как утверждает Хавьер де Салас, директор Прадо. И никто пока еще ему не возразил.
В 1800 году, начав писать «Семью Карлоса IV», Гойя уже восемь лет как был совершенно глух и жил в долг. В 1792 году микробы сифилиса, по-видимому перенесенного Гойей в ранней юности, о чем, судя по всему, он до той поры не знал, попадают в слуховой канал, и целых два года художник находится на грани жизни и смерти. Андре Мальро сравнивает его с одним из тех больных, которые, выскочив из смертельной агонии, становятся медиумами. Пережив такой кризис, Гойя, заключенный в вечную тишину, сквозь всю оставшуюся жизнь пронесет отсвет иного мира. Только Гойя будет заклинать живых призраков, а не мертвые привидения. Поэтому его чудовища кажутся Бодлеру такими vraisemblables, такими достоверными. Глухой Гойя описывает черную ночь души, где жизнь скрывает свою самую страшную правду. Смерть, чтобы раскрыть эту правду, явится шестнадцать лет спустя, в другой роковой день его жизни, 2 мая 1808 года, когда на площади Пуэрта-дель-Соль он окажется свидетелем жестокого сражения между народом и мамелюками Мюрата.
Из своих встреч со смертью Гойя вынес умение судить, дабы быть судимым. Перед лицом разума, который в кошмаре сна рождает мерзких призраков и чудовищ, Гойя провозглашает правду человека, одолеваемого этими чудовищами, но неспособного найти покой и прийти к согласию с миром, пока не отыщет покоя и согласия с самим собой. Правда, как и смерть, для всех одна, равно как и сифилис для всех заразен. Пройдет девятнадцать лет, и Гойя, прежде сторонник просвещенной гармонии, идеалист, уповавший на разум, напишет на стенах своего дома всех демонов, одолевающих его народ, чтобы уже никогда ни он сам, ни история их не забыла. Его вера в правду, как единственную меру и синтез человеческой личности, передается королевской чете, так что они и сами начинают видеть себя глазами Гойи. Единственный компромисс художника заключается в том, что Гойя закрывает горб инфанты Карлоты фигурой принца Бурбона Пармского. Но расползшаяся талия ее сестры, Марии Луисы, видна так же явственно, как все пороки остальных членов семейства.
Полотно же, изображенное на картине, — исповедь самого Гойи. Этой оргией, где он — один с двумя женщинами, глухой художник провозглашает себя человеком, которому ничто человеческое не чуждо. Гойя не обличает увековеченное им стадо безобразно-комических персонажей, ибо считает себя не лучше и не хуже любого из них. Он прекрасно знает, что подобная оргия принесла сифилис, который грызет его изнутри, лишил слуха и изничтожил четверых его детей. И свою вину, вину Сатурна, он первой показывает на этом Страшном суде, на холсте «Семья Карлоса IV», который являет собой благороднейший документ XVIII века. Страшный суд над живыми куда более страшен, нежели суд Микеланджело над мертвецами, как утверждает Рамон Гомес де ла Серна. В книге, написанной полтора века спустя и теперь уже забытой, мы читаем: «Глазами Гойи мы должны увидеть себя в его демонах и в его королях, как в двух залах ожидания, где мы ждем приговора судьбы. Этические заветы Гойи раскрываются нам ежедневно вместе с дверями музея Прадо. И основа основ насущной, но пока еще не понятой диалектики, которая может стать последним спасением для человека, такова: «Возлюби ближнего своего, чудовище, как самого себя».
Критика