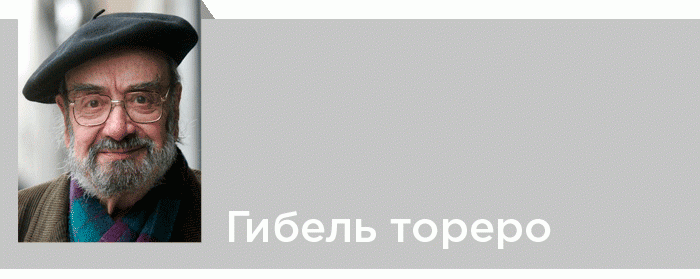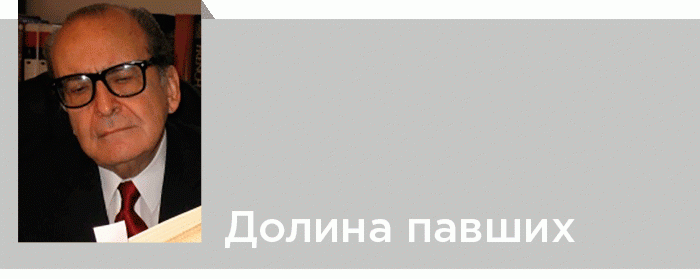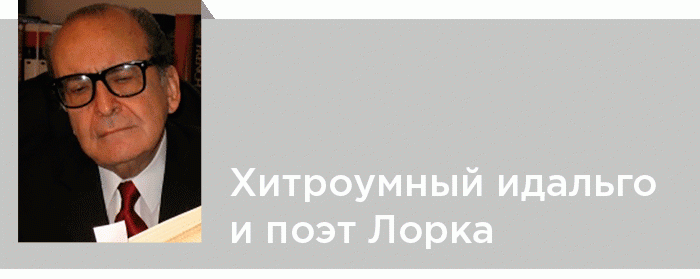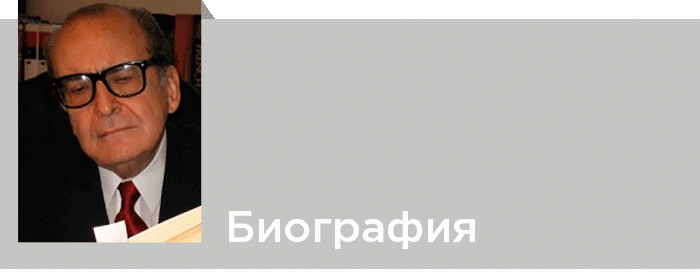Карлос Рохас. Сад Гесперид
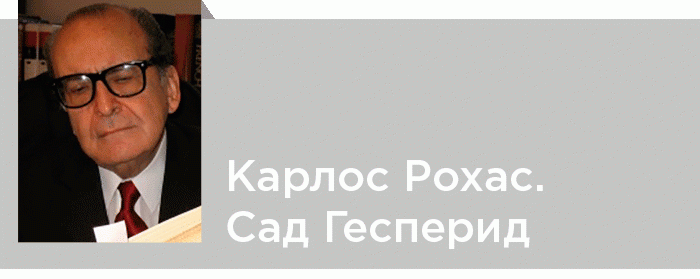
Е. Афиногенова
Прошло много лет с начала творческой карьеры Карлоса Рохаса, и теперь, похоже, можно и не заглядывать в его романы, чтобы получить примерное о них представление. Потому что все эти годы, приносившие литературные премии, признание публики, международную известность и даже сделавшие великим — во всяком случае, удостоившимся издания в серии «Великие испанские писатели XX века», — Рохас-прозаик творил все то же и все так же.
«Задача писателя — напоминать нам, кто мы такие» — это слова из книги эссе Рохаса «Диалоги для другой Испании» (1966). Так он и делал: напоминал из романа в роман, настойчиво, как никто другой. «Кто ты? Откуда пришел? Что делаешь здесь? Чего хочешь?..» — эти вопросы из раннего романа «Аутодафе» (1968) сложились в странную анкету, ответа на которую писатель требовал в разных своих книгах. Его собственные ответы были туманны. «Я — всего лишь никто», — написал он в романе «Шабаш». «Ты — последний Минотавр», — подсказал Гитлеру в романе «Мой фюрер! Мой фюрер!». В поисках хотя бы намека на решение читатель брался за следующий роман и снова находил только череду вопросов: «Кто мы все? Что делаем здесь? Чего хотим?..»
В Испании 1967 года путь поиска смысла жизни был настолько редким, что могло служить характеристикой Рохаса как писателя. Испанские писатели той поры называли себя реалистами либо объективистами и искали смысл не столько в жизни, сколько в испанской действительности эпохи безвременья и диктатуры. Вот что странно: пока настоящие писатели бились над вечными вопросами, Рохас мучил ими читателей и выставлял напоказ — как вывеску, как рекламу. И продолжает выставлять, хотя давно прошло время литературных битв, а с ними и необходимость защищать литературу. И теперь, наткнувшись в очередном романе на все те же вопросительные знаки, хочется спросить: а что, если все свои вечные вопросы автор никогда не задавал себе?
Философия романа Рохаса «Сад Гесперид» заключена уже в эпиграфе — строфе из «Ноктюрна» Рубена Дарио:
И печаль оттого, что не стал я иным и лучшим, и утрата царства, что было мне суждено, и мысль, что рожденье мое — это только случай, и жизнь, что с первых мгновений была и пребудет сном.
Уже здесь есть все, что требуется Рохасу для романа: неисполненное предназначение, жизнь призрачная, как сон. У каждой из этих тем своя история в мировой литературе, и к каждой свой счет в литературе испанской: у Кальдерона, Унамуно. Рохас только собрал их вместе и соткал основу. Теперь осталось найти сюжет, и роман готов.
...В пустынном и похожем на лабиринт доме умирает старый художник. Как зовут его, когда он родился — неизвестно; известно только, что зачат он был в день похорон единственного брата и получил его имя и его право на жизнь. «Мы должны соединиться, чтобы родить сына, который никогда не умрет. А того, которого похоронили сегодня, природа просто уничтожила, сделав набросок» — так, по воле матери и по предсказанию эпиграфа, лишился своего царства первенец и получил жизнь тот, чье рождение было только случаем. Вот только набросок не исчез и, став призраком, потребовал у брата доказательств его подлинности. Так и жили они, самые верные враги и непримиримые друзья, стараясь разделить на двоих одну жизнь, а в конце концов обнаружили, что она была всего лишь сном. Сном, а точнее, фрейдистским кошмаром. Потому что в этой жизни-сне можно было не только быть зачатым в день похорон, на балконе, после драки, но и оказаться сыном своего дяди или любовником собственной матери и, все пережив, вечно мучиться, стараясь отличить случившееся наяву от увиденного в бреду.
Почему автор выбрал именно такой сюжет — череду часто противоестественных соитий, кровосмешений, — неясно. Рохас, конечно же, не Набоков, и его любовные сцены кажутся банальными, однообразными и, главное, ничем не оправданными. «Сад Гесперид» — книга вовсе не о любви и страсти. Стоило облечь философскую основу в сюжет, как все метафизические проблемы поблекли, уступив место весьма физическим. Похоже, вечные, проклятые темы для Рохаса не более чем темы для вариаций, исходные пункты и повторяющиеся мотивы. И чтобы дать жизнь, он стремится не просто одеть их в сюжет, а разрядить в пестрое одеяние, способное привлечь внимание публики. И тогда уже неважно, что вопросы неискренни, а ответы примитивны, что тема не подходит для такой разработки, — роман все равно должен получиться.
[…]
Как и всякая массовая литература, эта — массовая литература для интеллектуалов — развлекает и льстит одновременно; развлекает так же, льстит же иначе, выдавая банальную выдумку за обманчивую философскую игру. Сейчас влияние массовой литературы для интеллектуалов заметно повсюду: она уже сломала все преграды между высокими и низкими жанрами, превратила любителей философии в любителей детективов и, кажется, в скором времени создаст самые интересные памятники нашего (а заодно и нашему) времени. Что ж, пока остается надеяться да еще недоумевать: неужели и сегодня фрейдистские сюжеты годятся для того, чтобы привлечь западного читателя, видавшего виды и уже, кажется, утратившего способность удивляться?
Но, как бы то ни было, сюжет «Сада Гесперид» именно таков, и он по-своему служит автору: любовные сцены с их простейшей композицией можно повторять бесконечно, лишь изредка тасуя королей, валетов и дам. В романе Рохаса, построенном как раз на таких перекличках и аналогиях, все любовные пары похожи друг на друга, поскольку повторяют одну, изображенную Художником на картине: короля Испании Филиппа IV и актрису Дамиану, позирующую Веласкесу для «Венеры перед зеркалом».
Кроме них, на картине изображен сам Веласкес перед мольбертом (как в «Менинах»), королевский шут карлик Луис де Аседо (с пером и книгой в руках, как на портрете кисти Веласкеса) и его сын Франсискито Ассизский в роли Купидона, держащего зеркало Венеры. В отличие от полотна Веласкеса зеркало Художника деревянное и ровным счетом ничего не отражает.
Картина называется «Невероятная загадка в мастерской Веласкеса», но, кроме этого деревянного зеркала, в ней нет ничего загадочного либо невероятного. Тайна картины — это тайна романа, в ней приоткрытая. Ибо вместе с картиной в книгу входит новый герой, который оспорит право Художника называться главным: Диего де Сильва Веласкес. Читатель-интеллектуал любит тайны, а потому эту загадку, которая, в сущности, не более чем секрет Полишинеля, Рохас будет хранить до конца, до появления автора, сознающегося наконец, что, работая одновременно над двумя биографиями — Художника и Веласкеса, — он решил соединить их в одну. А до этих пор читателя будут томить загадками, а героев — догадками и предчувствиями, что их жизнь — спектакль, а у этого спектакля есть сценарий, автор и зрители, смотрящие его из совсем иных времен.
«С тех пор как ты усеял свои полотна зеркалами, картинами и окнами, прошлое стало проглядывать сквозь настоящее, а мы, люди, превратились в какие-то мазки. Ты виноват в том, что мир оказался вывернут наизнанку», — говорит умирающему Веласкесу король. Сказано неплохо, хотя и немного торжественно. […]
«Писать книги — значит всякий раз начинать заново и, как ни странно, писать все время одно и то же, если только у тебя есть свой голос и свое лицо» — вот слова самого Рохаса, сказанные вскоре после получения им первой литературной премии. Похоже, именно тогда, поняв, что свой голос и свое лицо уже найдены, Рохас счел излишним начинать всякий раз заново и стал писать все время одно и то же. И не заметил, как оригинальный стиль обернулся стилизацией под самого себя, а дальше дело дошло и до немыслимых сюжетов, «невероятных загадок» и — к ним — еще более невероятных отгадок. И вот Веласкес, решив зарисовать с натуры короля, насилующего Венеру перед зеркалом, вдруг в ужасе отбросил рисунок: вместо Филиппа и Дамианы он увидел на нем контуры двух мужских фигур, сплетенных в любовном объятии. Эти фигуры, сквозь три века проступившие на рисунке Веласкеса, — Художник и... поэт Федерико Гарсиа Лорка.
Тут серьезный читатель, скорее всего, захлопнет книгу. Но читателя-интеллектуала так просто не проймешь: он выше таких условностей и, кроме того, уже знает о том, что Рохас не стесняется спекулировать именем и судьбой Лорки (роман «Хитроумный идальго и поэт Федерико Гарсиа Лорка восходит в ад», 1978). И вот — снова Гарсиа Лорка, которого автор, подобно российским поклонницам Марины Цветаевой, зовет просто по имени — Федерико. […]
Читатель-интеллектуал станет свидетелем настоящих откровений — вроде этого: «Из-за своей невинности или гордыни он (Лорка. — Е. А.) принял на себя вину всей цивилизации и вместе с нею проклял себя за то, что извратил закон природы»; или вот этого, вложенного в уста Сальвадора Дали, двойника героя и его прототипа: «Каждый из нас смог стать настоящим художником только после того, как сделался его, Федерико, любовником; точно так же как и сам Федерико не превратился в настоящего поэта, пока не овладел нами».
[…]
Здесь на помощь приходит особая философия, скроенная специально для читателя-интеллектуала: философия приземленная и глубокомысленная. […]
«Если все мы — и живые, и призраки, и те, от кого осталось лишь воспоминание или одно только имя, — были не более чем отражениями в зеркале вашей книги, то вполне возможно, что и сами вы постепенно сходили с ума, превращаясь в пародию на себя самого»,— бросил однажды в лицо автору рассказчик-призрак. Он немного ошибся: автор не сошел с ума и не превратился в пародию — просто, решив использовать разом все свои любимые мысли, афоризмы и технические приемы, он превратил в пародию свой роман. […]
Среди старых, знакомых мыслей и слов как-то затерялся и сам замысел романа — романа-картины. «Садом Гесперид» назвал Художник свое последнее — после смерти написанное — полотно, где в золотом сиянии похищенных из волшебного сада плодов, дарующих бессмертие, изобразил себя за мольбертом (подобно Веласкесу в «Менинах»), своих родителей, брата-призрака, и Дали, и Лорку, и улитку, и красный велосипед, увиденные когда-то у дверей дома, где жил Зигмунд Фрейд, и самого Фрейда, чей дух витает над этими страницами, и всех, от кого в романе действительно «осталось только имя или одно лишь воспоминание», — нарисовал «Сад Гесперид». Картина, кажется, получилась похожей на полотна Ильи Глазунова, но Рохас как будто забывает то, о чем столько раз писал: живопись — это остановившееся время, а не парад героев. Он пишет роман, который становится картиной, а на картине рядом с волшебными яблоками находят бессмертие те, кто мучился в книге-лимбе и ждал окончательной смерти как спасения. Похоже, автор оставил там место и для себя, завершив свой роман скромным пожеланием: «Хотелось бы верить, что, когда и нашему хронисту придет время исчезнуть, он скроется по эту сторону Ничто и на мгновение различит в сиянии картины солнечные плоды». Что ж, пусть будет так, и все же хочется верить, что хронист, прежде чем затеряться по эту или по ту сторону Ничто, поищет еще других путей к бессмертию.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – 1990. – № 5. – С. 26-29.
Критика