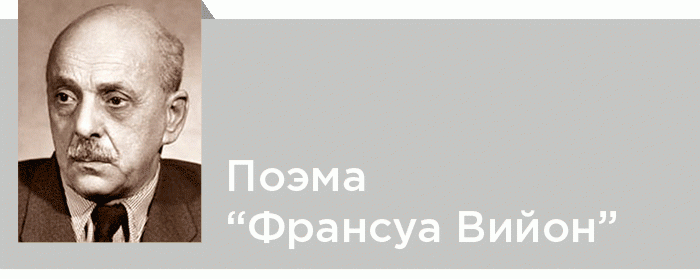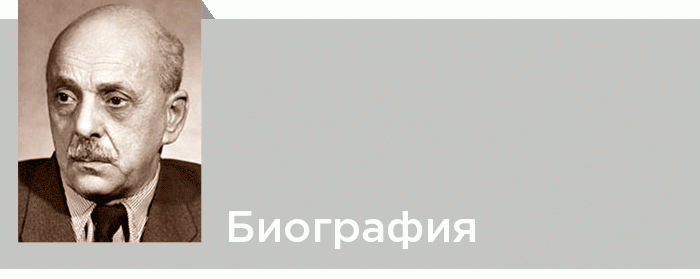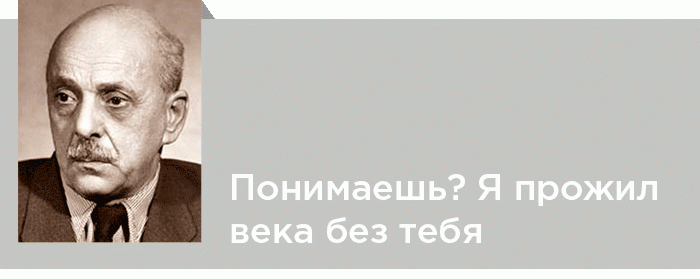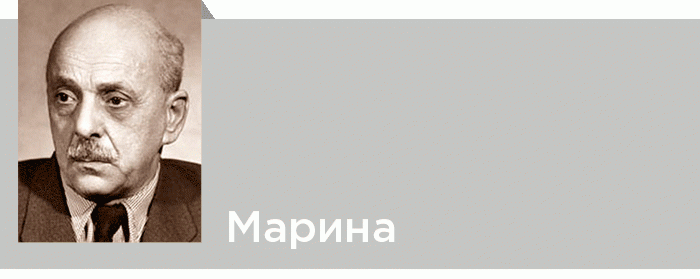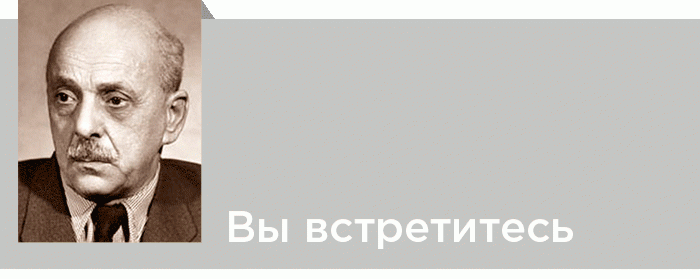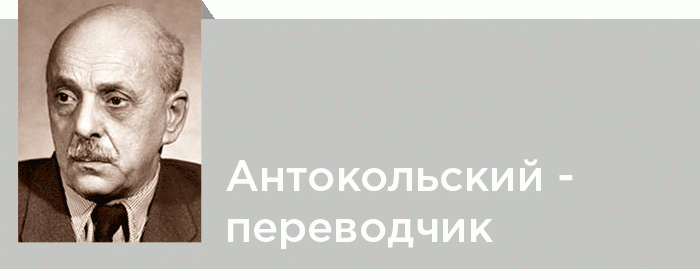Любовь к поэзии обязывает… (Строки из писем П. Антокольского)
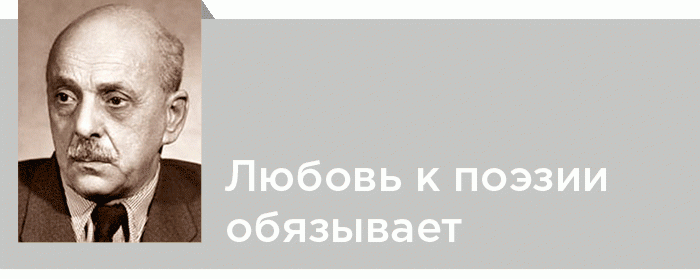
Захар Дичаров
Работая над стихами, я однажды послал их Павлу Антокольскому. Ответил он пространным письмом, которое датировано 23 февраля 1954 года.
«Возвращаю Вам Вашу поэму. Скажу прямо: мне она никак не понравилась.
...О чем поэма? Об искусстве талантливого хирурга? Это тема интересная, вполне возможная в поэтическом произведении, новая. Вы могли бы стать в ней пионером. Но ни хирург, ни его искусство никак не показаны. Что он за человек, как он рос и развивался, в чем его сила, — все это осталось за полем Вашего зрения. Зачем понадобилось Вам делать из хорошего специалиста в своем деле дилетанта в музыке и скульптуре? Что прибавляет это к его характеристике? Ровно ничего! Зачем понадобились евангельские параллели (Христос — дочь Иаира, Понтий Пилат...)? Все это совершенно произвольно.
Мне понравились строки о кровеносных сосудах:
Они бегут, как трубы в подземелье,
Переплетаясь, словно кружева...
Тут, очевидно, можно Вам довериться: это похоже на правду.
Но когда в один из ответственных моментов повествования автор ограничивается телеграфно-астматическим:
Спокойствие. Точность. Опухоль раскрыта.
— Тампоны. Снимок. Нож. Перевязать, —
тут уж нет и не может быть никакого доверия к нему, автору! Он ничего не объяснил, ничего не раскрыл.
Я испортил Вашу рукопись пометками, относящимися к мелочам: это ошибки против языка, против вкуса, против стихосложения и т. п. Как видите, таких ошибок много. Но суть, конечно, не в них. Это все легко устранимо, это работа редактора и Вашей доброй воли.
Сложнее обстоит дело с неясностью замысла, с общим порочным методом.
Если Вы молоды, если способны на самозабвенную работу, на сжигание груд исчерканной бумаги; если в дальнейшем будете бешено работоспособны, и добросовестны, и безжалостны к себе; если такой режим не испугает Вас, — только в этом случае из Вас может получиться толк. Никто, кроме Вас самого, не может решить этого глубоко личного и ответственнейшего дела. Беретесь? Пожалуйста! Нет? Тогда бросьте мысль о поэзии!
Я знаю, как это трудно бросить то, что любишь. Но мой долг в том, чтобы предупредить Вас: любовь к поэзии обязывает к суровым лишениям, обязывает к самосжиганию!
Вот почему я решился написать Вам такое откровенное и суровое письмо,
С дружеским приветом П. Антокольский.
Москва».
Это письмо было для меня не то чтобы откровением, но таким горячим, таким душевным наставлением большого, неизменно искреннего поэта, что запомнилось перечисленными в нем постулатами творчества навсегда.
Стихов в ту пору я писал много. Получив письмо Павла Григорьевича, я извлек из груды бумаг свой стихотворный цикл «Волхов-река» и принялся черкать и перечеркивать почти все, что в нем было заключено. И когда мне показалось, что стихи стали лучше, — послал их в Москву, Антокольскому.
В письме, которым сопровождались эти стихи, я писал:
«Ваше письмо глубоко меня взволновало и тронуло, не знаю, смогу ли высказать все то, что просится сейчас на бумагу, но дело не в этом, а в том, что все, что Вы прочтете, — правда моей жизни, и мне очень хочется, чтобы Вы верили мне.
Да, все так и есть, как Вы говорите: «любовь к поэзии обязывает к суровым лишениям, обязывает к самосжиганию!» Я давно так мыслю и никогда не относился к тому, что для меня так дорого, с легкомыслием. Мне только хочется возразить Вам, что всякое дело, если оно дело Вашей жизни, требует жертв и самосжигания, будь это наука, инженерия или поэзия. Моя профессия далека от поэзии. Иногда делается грустно при мысли, что вместо поэзии приходится заниматься строительством на далеком Севере, в Заполярье, но тут уж ничего не поделаешь — такова жизнь. Вы пишете: «Если Вы молоды, если способны на самозабвенную работу, на сжигание груд исчерканной бумаги...» Да, на все это я способен, ибо так работать мне приходилось и приходится ежедневно, и не один год... Стихи я пишу давно, но только никогда я не писал их для славы или создания благополучия. Я пишу их для себя.
Жизнь моя богата впечатлениями и наблюдениями, много приходилось ездить, во многих местах бывать, многое видеть. У меня возникла потребность все, что меня волновало, записывать. Так у меня появились дневники, только написаны они не прозой, а стихами. Это не дневники в буквальном смысле слова, а запись впечатлений, чувств, фактов — в стихах. Я так и назвал их: «Поэтические дневники». Это, разумеется, не ново, но для меня это так. В этих дневниках можно встретить стихи: «карельские», «волжские», «заполярные», «уральские», «казахстанские», «ленинградские», «донбасские», «печорские», «крымские» и т. д.
...Я не могу бросить писать, так же, как не могу перестать дышать. Я не думаю, чтобы это было графоманией, нет — это именно то, что любишь и без чего не можешь жить. ...Я для себя наиболее полно выразил то, что меня волновало. Вот — Север:
Из тьмы, вонзаясь снова в тьму,
Снопы на звездной шкуре тлеют.
Бледнеют. Тают.
Вновь алеют,
Свиваясь в яркую тесьму.
Вот так, непостижим, незнаем,
Сквозь холод пережитых лет
Ворвется в душу
Тихий свет,
И все горит, не угасая...»
21 марта того же 1954 года Антокольский писал мне:
«Стихи, на этот раз присланные Вами, кажутся мне значительно живее, интереснее и зрелее, нежели ваша поэма о хирурге. Прежде всего — волховский цикл. В нем есть энергия, есть поиски своего языка, своей выразительности, есть знание материала. Образная ткань стихов о Волховстрое на большой высоте.
В целом цикл не безошибочен. Меня, например, раздражают составные рифмы вроде: «Зарев в высь» или «Зверь живой...» — их немало! Кроме того, засоряет стихи ненужное обилие географических названий: все эти: «Вольково», «Бабино», «Вельцы», «Званка», «Карабино» и прочие, известные в окружности с радиусом в 100-200 километров от силы. Зачем же сообщать их читателям? Хотелось бы еще ко многому придраться, но суть не в придирках. Повторяю: стихи мне нравятся.
Насчет вольного переложения казахских четверостиший вирши судить не берусь. В общем сделаны они вполне грамотно и передают народную мудрость. Единственное, от чего надо уберечь себя при такой закованности и сжатой форме,— от произвольной перемены размера: пятистопный ямб у Вас нечаянно соседствует с шестистопным. Это неряшливость. Ведь тут все дело в том, чтобы строки геометрически были равны друг другу.
Что же мне отвечать на Ваши стенания о возрасте, о неудачном поэтическом пути, о равнодушных консультантах... Ничего вразумительного я Вам не отвечу. Это жизнь, дорогой товарищ. Так же, как поэзия, жизнь «существует — и ни в зуб ногой!».
Но предложенного Вами совета «брось писать!» в моем письме Вы не прочтете.
Я никогда бы не осмелился дать такой совет, даже на основании поэмы о хирурге, которая не понравилась мне!
Но все же я скажу Вам: дело Ваше трудное, очень трудное! Журналов у нас ужасающе мало. На словах редакторы жаждут так называемых свежих и новых голосов, а на деле, как Вы сами видите, редко-редко кто пробьет для себя дорогу с периферии. В конечном счете тут господствует удача, лотерея, тираж выигрышей по облигациям.
К сожалению, ни с одной из редакций я не дружу сейчас в такой степени, чтобы представить Ваши стихи и таким образом помочь Вам практически.
Крепко жму Вашу руку П. Антокольский».
Этим строкам уже более четверти века... Начав, однако, не со стихов, а с очерка (моя первая книга вышла еще до войны), я так и не стал поэтом в профессиональном смысле слова. Давно уже моя «стихия» — проза, публицистика, документальный очерк. Но стихи — для себя — я пишу по-прежнему, всегда помня при этом заветы П. Г. Антокольского...
Л-ра: Литературная учёба. – 1982. – № 4. – С. 116-118.
Критика