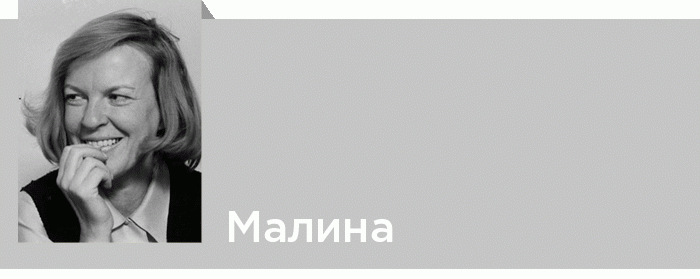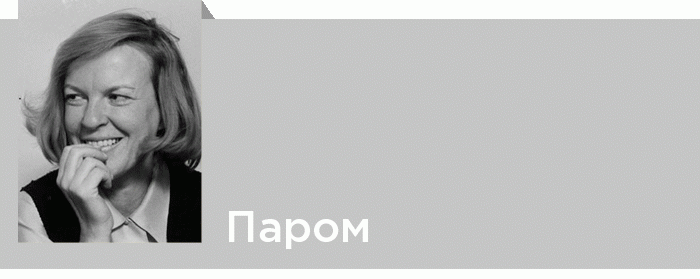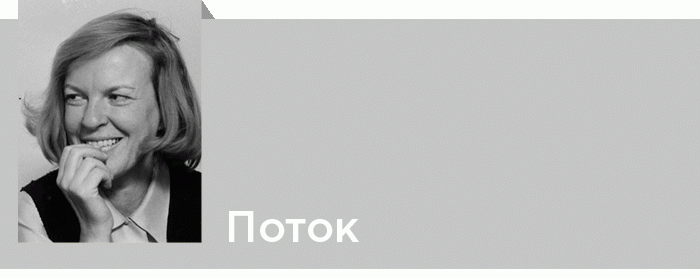Библейский код в романе И. Бахман «Малина»

А. Э. Воротникова
Ключом к расшифровке библейского кода в романе австрийской писательницы И. Бахман «Малина» (1971) является упоминание строки из прозаической поэмы А. Рембо «Сезон в аду» (1873), потрясшей главную героиню, безымянную женщину Я: Мы восходим к духу [1, с. 103]. Протагонисту Рембо, как и Я, уготована мука неприкаянного существования в несовершенном мире, пороки которого не дано победить поэзии. Ожидание героем духовного воскрешения оказывается бесплодным. Бахман подхватывает идею французского писателя о невозможности спасения тонко чувствующей, творчески одаренной личности в современной действительности, утверждающей примат выхолощенного разума с его принципом пользы и выгоды над иррациональными феноменами бытия: вдохновением, любовью, страстью.
Бахман, как и Рембо, претит догматизм мышления, поэтому и ее отношение к христианству и его священной книге Библии отличается заметной свободой. В истории героини прослеживается евангельский след, проявляющийся в отдельных мотивах, в общей фабуле и в образе самой Я. Последний оказывается в непосредственной близости к фигуре Сына Божьего, а страдания главной героини напоминают страсти Христовы. В этом можно было бы заподозрить нечто еретическое, если бы не пронзительность и высочайшее напряжение, отличающие романное повествование и позволяющие возвысить историю единичной поруганной жизни женщины до вселенской трагедии.
Открытие вневременного - евангельского - измерения бытия протагонистки происходит, в частности, через видение чисел, наделенных библейскими коннотациями. Цифра три сопровождает Я на протяжении всего повествования. Героиня три раза соприкасается со своим двойником Малиной, прежде чем познакомиться с ним лично. Лист бумаги на ее столе содержит надпись Трое убийц. Три камня, несущих важные духовные послания, находит умирающая Я в тюрьме. Библейский подтекст заключает в себе триединство героини, ее возлюбленного Ивана и Малины. Также обращает на себя внимание трехчленное построение бахмановского произведения. Подобные примеры можно множить.
Священная в христианской религии цифра указывает и на мессианское предназначение любви Я и Ивана. Герой проживает в Третьем районе так же, как Я и Малина. Тройка спрятана в номере его дома - девять. При этом не случайно, что номер дома Я - шесть. Шестерка - перевернутая девятка, таким образом, дома влюбленных оказываются связанными магией обозначающих их чисел, создающих особую ауру умиротворенности и счастья. Тройка символизирует гармонию и совершенство. У возлюбленного Я два сына, вместе с которыми он образует троицу. Ужинает Иван в ресторане Три гусара. В первой главе Я сетует, что вынуждена провести без своего любимого три дня.
На то, что Иван - посланец провидения, указывает не только божественная цифра три. Иван является носителем нового языка, призванного преобразовать мир в целом, поэтому образ возлюбленного Я - это аналог библейского Логоса: Ибо он пришел, чтобы снова сделать согласные твердыми и внятными, чтобы снова открыть гласные и придать им полное звучание, чтобы позволить мне снова произносить слова, чтобы восстановить первые разрушенные взаимосвязи и разрешить проблемы... [1, с. 37-38]. Имя Ивана, означающее в переводе с древнееврейского «милость Божья», воспринимается Я как знак защищенности и победы над духовным недугом. Отношения с Иваном обладают в представлении героини сакральным смыслом,
близость с возлюбленным приравнивается к священнодействию, в которое нет доступа непосвященным - Малине и домработнице Лине. Религиозным ритуалом становится для Я ожидание звонка от любимого, что и позволяет ей сравнить телефонное пространство с Иерусалимом и Меккой - священными для христиан и мусульман местами. Унгаргассенляндию (от названия улицы Унгаргассе, где проживают влюбленные) протагонистка отождествляет с землей обетованной [1, с. 214]. Иван подвигает Я на строительство Стены радости вместо Стены плача. Свое счастье героиня называет воскресением из мертвых, в своем любимом она видит Спасителя, пришедшего исцелить страдающую женщину.
Однако образ Ивана как идеального возлюбленного оказывается скорее иллюзией, плодом воображения Я. Эмоциональная черствость, эгоизм, несерьезное отношение к любви как к игре, ограниченность и заурядность отличают настоящего Ивана. Его образ оказывается незащищенным от пародийно-иронических коннотаций, проникающих в восторженный рассказ Я. Любовь оборачивается не спасением, а крестной мукой для влюбленной женщины, чей образ сближается с фигурой страстотерпца Христа. В романе неоднократно возникают образы крестного пути, который пролегает между домами Я и Ивана [1, с. 187-188, 286], креста, на котором болезненно трепыхается распятое тело героини [1, с. 188]. Образ Ивана двоится: он воспринимается не только как освободитель и спаситель, но и как судья, которому протаго- нистка пишет письмо о помиловании, и как сказочный убийца - черный рыцарь, вонзающий шип в сердце alter ego Я - принцессе Кагранской.
Тема поражения женщины в столкновении с патриархатным миром, из которого изгнана любовь, получает свое дальнейшее развитие во второй главе «Третий мужчина», посвященной взаимоотношениям Я с отцом. Образ последнего множится (фашист, кутюрье, крокодил, мать, режиссер фильма, автор оперы, священник, мясник и т. п.), оставаясь при этом равным самому себе. Отец неизменно творит произвол и насилие, порабощая и истязая Я, ее мать и сестру. Едва ли оправданно рассмотрение данного образа в его конкретном, прямом значении уже потому, что героиня неоднократно говорит об отсутствии кровного родства между нею и отцом. Этот образ предельно абстрактен (не случайно он так легко меняет личины в сновидческом маскараде) и не лишен известной монументальности, ощущение которой возникает, в первую очередь, благодаря его аллюзийной соотнесенности с библейской фигурой Бога Отца, выпадающей из традиционной христианской концепции божественного человеколюбия и воплощающей в романе закон патриархатного насилия, а также идею несправедливого антигуманного мироустройства и непреодолимого господства разрушительной силы зла. При этом себя и своего возлюбленного героиня видит в некоторых романных эпизодах в образах евреев, гонимого и притесняемого народа, не имеющего родины, везде чужого, но в то же время богоизбранного, несущего особую духовную миссию. Хотя не стоит забывать и о том, что ассоциация с евреями закономерно возникает в тех романных отрывках, где отец предстает в обличье фашиста.
Сверхчеловеческие деструктивные способности отца предполагают его связь с потусторонней силой, сущность которой остается не до конца проясненной в произведении. Образ отца, подавшегося в театр, сливается с образом Всевышнего, когда Я замечает: Бог - это представление [1, с. 197]. При этом актерствующий отец смеется дьявольским смехом, от которого под воду уходит остров, где в полной изоляции пребывает героиня. На божественно-дьявольскую ипостась образа отца указывает также выполняемая им функция воскресного священника, читающего для прихожан, среди которых присутствует и протагонистка, проповедь на тему Одно и то же. Название проповеди позаимствовано отцом у Я, которая таким образом обозначила свои плотские отношения с ним, отвратительные и одновременно однообразные. Однако одно и то же приобретает в контексте общей антипатриархатной идейности произведения расширительное значение и указывает на трагическую неизменность отношений полов, в которых женщине испокон века была уготована унизительная роль подчиненной и истязаемой, роль, отчасти закрепленная и в Священном Писании. О том, что принцип дурной повторяемости, как нельзя точнее воплощенный в словах одно и то же, лежит в основе всего мироустройства, свидетельствует и выбранный Я модус вневременного описания жестоких событий. Образ проповедника в «Малине» отличается от традиционного своей неприкрытой агрессией: его речь заканчивается проклятиями в адрес Я и ее матери, то есть в адрес женщины как таковой. Религия предстает в романе инструментом патриархатной власти и одной из сфер ее реализации.
Бог, с образом которого сливается образ отца, видится автору как сущность далеко не однозначная. Не случайно поэтому Я, не дожидаясь окончания проповеди, покидает церковь, предварительно увлажнив свой лоб святой во-дой именем Отца. Вода служит для Я спасительной субстанцией. Следовательно, вера в Бога и религия, зачастую извращающая и подрывающая эту веру, представлены как не одно и то же. В страшные моменты отцовских преследований Я также апеллирует к Богу: Боже мой, Боже мой [1, с. 203]. Таким образом, Я отвергает канонический образ патриархатного христианского Бога, входящий в непосредственное соотношение с образом жестокого отца, накладывающийся на него и просвечивающий сквозь него, но не отказывается от веры в высшую силу - носительницу идеи добра и милосердия.
Другой эпизод, в котором отец выступает в роли священника, связан с ритуалом омовения ног. Согласно Евангелию, Иисус перед началом Тайной вечери омыл ноги своим ученикам. Отсюда и возник обряд омовения ног прихожан священниками в Великий четверг, воспринимающийся как символический акт проявления христианской любви к ближнему вне зависимости от его социального статуса. Однако в романе этому обряду не дано состояться в его традиционном виде, поскольку отец-священник отказывается от своего участия: и Я, и Иван моют себе ноги сами. Вода выполняет функцию очищения и спасения героини от прошлого, в котором главенствовал закон уничтожения, воплощенный в зловещей фигуре отца. Подобно воде, чувство Я к Ивану дарует ей свободу и покой. Примечательно, что образ Ивана в первой главе возникает в непосредственной близости к образу Иоанна Крестителя (не случайно и единство их имен), когда Я причащается новой религии - религии любви, а Иван смывает своим взглядом старые образы из памяти героини [1, с. 38].
Вода ассоциируется с женственностью, порождением жизни, чувством, поэтому именно в ней протагонистка ищет спасения во многих эпизодах романа. Заключенная в тюрьму, Я страдает от жажды, которую следует толковать более широко, чем физическое испытание: это еще и неудовлетворенное желание творить, связанное с запретом писать. Замерзшая вода воплощает жесткое мужское начало, безжалостный патриархатный порядок, холод безлюбовья. Отец загоняет Я во льды северного полюса, сбрасывает на нее снежную лавину. Кладбище убитых дочерей располагается на берегах замерзшего озера, на льду которого поет мужской хор. Негативные ассоциации, навеваемые образом льда в «Малине», усиливаются благодаря его аллюзийной соотнесенности с картиной из «Божественной комедии» Данте: в девятом круге ада грешники, среди которых главный - сатана, закованы в лед. В мифологии и фольклоре образ дьявола отчетливо ассоциируется с ощущением холода. Даже его обиталище - дворец пандемониум - характеризуется как холодный. В романе отец, носитель дьявольских черт, также владеет ледяным дворцом.
Лед входит в ассоциативную пару с образом синевы, которая душит Я своей избыточностью. Синий чаще всего воспринимается как цвет романтической мечты (вспомним голубой цветок Новалиса), творчества и высокой духовности. Именно это смысловое наполнение синева получает в стихотворении Бахман «К солнцу», цитируемом в «Малине»: Моя синева, моя дивная синева, в которой разгуливают павлины, и синева моих далей, мой синий случай на горизонте [1, с. 193]. Однако в сне об отце мечта о гармонии и счастье предстает несбыточной, огромная синяя клякса [1, с. 193], влетевшая Я в рот, лишает ее возможности творить. В результате синева получает противоположную исходной трактовку, оборачиваясь цветом печали, фрустраций и отчаяния. Синяя софа, вывезенная отцом из квартиры Я, - еще один символический образ, воплощающий идею украденной, неосуществленной мечты.
Другая мифологическая стихия, окружающая Я в ее сновидческих фантазиях, - огонь. Пожирающий адский пламень выступает проводником карающей высшей воли, что подкрепляет догадку о концептуальной связи образов отца и Бога. Аллюзийный образ пустыни, куда отец заманивает Я, также соотнесенный с образом огня, рождает ассоциации с сорокадневными искушениями, которым Иисус подвергся в пустыне со стороны врага рода человеческого, а также с сорокалетними мытарствами еврейского народа опять же по пустыне. Топос пустыни несет символическую нагрузку, воплощая опасность внутреннего опустошения, одиночества и беспомощности, утраты духовной опоры и безверия, но также и возможность преодоления этой опасности. Достойно выдержавший испытание приобретает духовный опыт и мудрость. Именно этот процесс внутреннего роста в аллегорической форме запечатлен в эпизоде пребывания Я в пустыне. Здесь она вступает в священную войну с отцом, отнимает у него жезл Венского университета (символический атрибут знания, заключающего в себе могущество и силу), которым он незаконно завладел, и становится неуязвимой. Героиня спасается от сатанинских преследований благодаря полученной ею божественной способности ходить по воде, подобно Христу. Вода как животворная женская стихия противопоставляется отцовской вотчине - пустыне.
Примечательно, что образ Я ассоциируется с Сыном Божьим, в то время как фигура Бога Отца, наделенная дьявольскими коннотациями, просвечивает сквозь образ жестокого отца из снов героини. Постулат о равенстве и неразделимости ипостасей, считающийся главным в церковном догмате о Троице, подлежит низложению в романе. Земная иерархия распространяется и на соотношение божественных образов Отца и Сына: первый предстает карающей инстанцией, второй - жертвой.
Немаловажным указанием на отказ героини от принятия канонического христианства является и то, что Малина - персонифицированная рациональная ипостась личности Я - занят написанием некоего апокрифа, то есть произведения с библейским сюжетом, содержание которого не вполне совпадает с христианским вероучением. При этом Я называет Малину, защищающего ее от отца, Флоризелем и Святым Георгием [1, с. 24]. Флоризель - имя, восходящее к святому Флориану, защитнику верхней Австрии, спасающему ее от огня и потопа, тех самых природных сил, с помощью которых отец пытался уничтожить Я. Святой Георгий известен своей победой над драконом, жертвой которого стала дочь правителя одного из языческих народов. Примечательно, что Я как эмоционально-чувственная часть женской личности, постепенно утрачивающей свою любовь, гибнет в финале в результате утверждения рассудочной ипостаси - Малины. Таким образом, сближение последнего со святыми оказывается трагическим заблуждением Я, первоначально воспринимающей Малину как своего верного помощника.
Все библейские образы в «Малине» отмечены амбивалентностью, что отличает их от более прямолинейных толкований с позиций религиозного сознания. Ясность и однозначность не являются творческими ориентирами автора, утверждающего множественность в качестве ведущего принципа представления своих героев. Не случайно ни один из них не тождествен самому себе. Обращение Бахман с библейскими образами и мотивами характеризуется особой вольностью и гибкостью, оно в целом лишено системного характера и в каждом отдельном случае несет особую идейно-художественную нагрузку.
Одна из основных евангельских тем романа эсхатологическая. История индивидуальной жизни протагонистки вливается в историю общечеловеческую. Я, загнанная в ад, переживает гибель мира, катастрофическое падение в ничто [1, с. 194]. Ощущение близящегося краха пронизывает повествование Я, которое отчетливо напоминает новый женский вариант апокалиптических пророчеств. На конференции, куда попадает Я, докладчик с лицом мальчика- певчего рассуждает об универсальной прости-туции, которая разъедает современное общество, уподобившееся библейскому Содому. Идея универсальной проституции вновь и вновь всплывает в повествовании Я, ощущающей свою полную беспомощность в мире, утратившем духовно-нравственные ориентиры. Мечта об иной гармоничной жизни воплощена в пророческих записях Я, имеющих аллюзийное единоначатие Наступит день... [1, с. 132, 149, 151, 153] и отсылающих читателя к Апокалипсису Иоанна Богослова. Наблюдающая ад на земле уже сегодня героиня, в отличие от легендарного евангелиста, создает не пугающий образ конца времен, занимающий основную часть Иоаннова послания, но светлую картину нового возрожденного мира.
Своеобразное бегство из патриархатного ада в пространство женского инобытия - подобие рая, оказывается возможным на краткие мгновения не только в процессе письма, но и в обыденной ситуации, когда Я смотрится в зеркало. В этом романном эпизоде прочитывается аллюзия на сотворение мира и человека, в несколько иронической интерпретации Бахман - сотворение женщины: Должна быть сотворена женщина для домашнего платья [1, с. 148]. Я, входящая в зеркало, где царит вечное воскресенье - день, когда Создатель отошел от дел, обретает бессмертие. Она утрачивает память о своей земной любви к мужчине и о своем внутреннем разладе, получая божественное ощущение самодостаточности.
Название финальной главы романа «О последних вещах» содержит в себе прямое указание на эсхатологию - учение о последних вещах. Героиню ждет гибель, если не физическая, то духовная, о чем свидетельствуют возникающие в финале романа символические кровавые видения. Теперь Я пророчит людям не светлое завтра, но мрачный конец. Прекрасная книга, которую она мечтала создать, так и не будет написана, а новый день преображенного бытия не наступит. Бахмановская героиня, лишенная духовного стержня, повсюду начинает ощущать фальшь. Захватывающую ее прежде музыку Шёнберга она воспринимает как пародию и подлость [1, с. 344], а самое себя как карикатуру [см. 1, с. 356]. Не случайно упоминание в романе пьесы Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», центральной проблемой которой является губительное несоответствие между внешним существованием и внутренним бытием. Воскресение романной протагонистки оказывается невозможным, поскольку она утрачивает способность любить, а вместе с этим и внутреннюю целостность, служащую основой духовности.
Таким образом, Бахман вольно переосмысливает библейские образы и мотивы, по сути, создавая подобие нового «женского Евангелия»
истории любви, сближающейся в романе с религиозным подвижничеством, наполненной мукой и заканчивающейся гибелью главной героини, если не физической, то духовной. Воплощенная в романе идея искупающего страдания протагонистки делает вполне органичной соотнесение ее судьбы с судьбой Богочеловека, в образе которого в прецедентной форме воплотился опыт безвинно поруганной жизни всех предшествующих и последующих поколений людей.
Список литературы:
- Бахман И. Малина / Пер. и предисл. С. Шлапоберской. М.: Аграф, 1998. 368 с.
Л-ра: Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 2 (3), с. 29-33.
Биография
Произведения
Критика