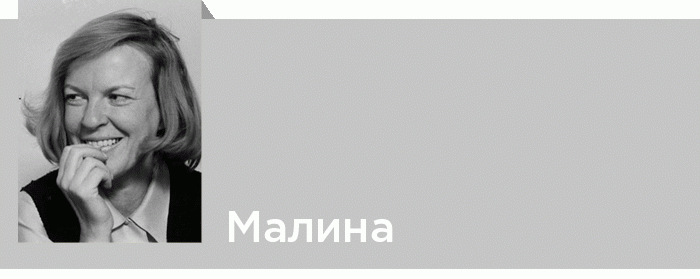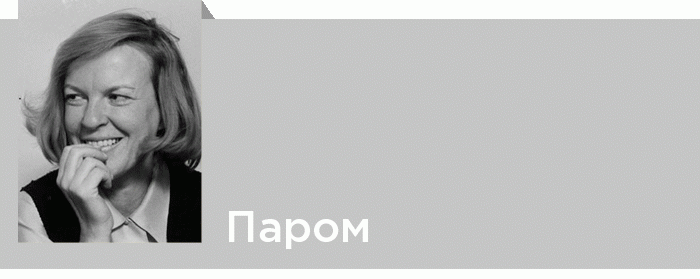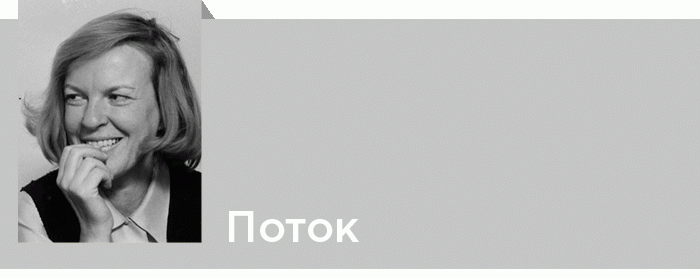Утопическое сознание и любовь в новелле И. Бахман «Всё» («Alles»)

Д. Д. Моросеева
Статья посвящена философским основаниям мировосприятия и поэтики И. Бахман, раскрываемым через проблему взаимодействия языка и сознания. Рассматривается проблема перехода границ между реальностью и утопией как формой ментального эскапизма. Утопии И. Бахман противопоставляет любовь как особый язык, способный примирить субъекта с окружающей действительностью.
Ключевые слова: язык, сознание, утопия, «мистическое», любовь, И. Бахман.
Проблема языка, особенно обострившаяся в ХХ веке и традиционно понимаемая как поиск новых художественных форм, способных аутентично выразить действительность, раскрывается в творчестве И. Бахман как глубокая философская проблема, связанная не столько с «техническими» экспериментами, сколько с актуализацией глубинных духовных смыслов, заложенных в самой экзистенции человека. В частности, одним из таких смыслов выступает любовь как особая форма духовности, которая согласно концепции И. Бахман способна наполнить слово и бытие, мир художественный и реальный, преодолеть отчуждение между сознанием и языком, сознанием и жизнью. Наиболее полно и подробно, на наш взгляд, данная проблематика раскрывается в новелле «Все» («Alles»), вошедшей в сборник «Тридцатый год» („Das drei ßigste Jahr“).
Текст новеллы представляет собой лирический монолог героя-повествователя, из которого мы узнаем, как менялось его мировоззрение и система ценностей в связи с появлением в его жизни сына. С момента рождения ребенка герой новеллы одержим поисками чистой реальности, свободной от любых заданных рамок мышления и восприятия, навязанных «прогнившей» общественной системой. Существующая реальность, являющаяся по словам повествователя, «наихудшим из всех миров» („die shlechteste aller Welten“) [1, c. 68], не должна вторгнуться в сознание малыша и превратить его в «продукт социума».
Понятие «alles» («все»), вынесенное в заглавие новеллы и часто в ней встречающееся в разнообразных контекстах, выступает не просто как организующая лексическая единица, а подразумевает под собой весь универсум, который, по мнению героя новеллы, призван изменить его сын. Такая трактовка коррелирует с философией Л. Витгенштейна, взгляды которого во многом разделяла И. Бахман: «alles» отождествляется с понятием «Gesamtheit der Tatsachen der Welt» («совокупность фактов мира» — перевод мой. — Д. М.) [5, с. 42], т. е. то, что наличествует в мире, являя собой материальную реальность, должно в представлении героя подлежать кардинальному изменению. Ребенок, по его словам, должен начать «с чистого листа»: стать свободным от любых социально и исторически обусловленных связей и ограничений, морали, норм, религии, языка и вырваться из бесконечного круга предписанных традициями правил и законов существования. Именно поэтому отец отказывается учить своего сына чему-либо и готовить его к жизни в обществе, передавая ему накопленные им самим знания и опыт. Так в сознании героя как будто сосуществуют две модели мира — мирская, «профанная» и идеальная, реальная и воображаемая. С. Заммер полагает по этому поводу, что за миром как «совокупностью фактов» герой пытается угадать второй, более глубокий слой — место обитания скрытых смыслов и символов, т. н. «мистическое» [2, с. 45].
«Мистическое» («das Mystische») — это то, что в философии Л. Витгенштейна находится на границе мира («an der Grenze der Welt») и не подлежит вербализации, так как не может быть закреплено как материальный и безусловный «факт» «посюсторонней» реальности [2, с. 42]. Определяя задачу своего «Логико-философского трактата», Л. Витгенштейн писал: «Смысл книги в целом можно сформулировать приблизительно так: то, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно; о том же, что сказать невозможно, следует молчать. Итак, замысел книги — провести границу мышления, или, скорее, не мышления, а выражения мысли: ведь для проведения границы мышления мы должны были бы обладать способностью мыслить по обе стороны этой границы (то есть иметь возможность мыслить немыслимое). Такая граница поэтому может быть проведена только в языке, а то, что лежит за ней, оказывается просто бессмыслицей» [3, с. 290]. Согласно М. Шмитц-Эманс, концепция перехода границ является центральной концепцией эстетического модернизма и допускает разнообразные спецификации: «В литературе и поэтиках ХХ века тематика границы и перехода границы часто соединяется с рефлексией над языком. Сознание, что язык наталкивается на свои границы, соединяется с богатым оттенками топосом невыразимого, различными формами тематизации невыразимости, а также с рефлексией по поводу молчания» [3, с. 291].
Понятием «das Mystische» Л. Витгенштейн обозначает сферу того «невыразимого» («das Unsagbare»), с чем пытается иметь дело искусство и, в частности, И. Бахман. По мнению Германа Вебера, ее работа начинается там, где заканчивается философия Л. Витгенштейна, т. е. она вступает в ту «запретную» область, о которой австрийский логик-позитивист предпочитал молчать. Таким образом, Г. Вебер подчеркивает, что под искусством следует понимать своего рода «откровение», «проявление» мистического, того, что находится по ту сторону «совокупности фактов»: «Kunst ist auch als „Zeigen“ oder „Sich-Zeigen“ des Mystischen zu verstehen» [4, c.27].
Но любой предмет требует особого языка, и чем сложнее объект познания, тем выше требования к средствам его описания и выражения. На формирование языковой концепции И. Бахман оказала большое влияние, с одной стороны, представленная в работах Ф. Ницше, Ф. Маутнера, Х. фон Гофмансталя и Л. Витгенштейна «традиция современного языкового скепсиса» («Tradition des modernen Sprachzweifels»), ставящая под сомнение способность языка аутентично выражать новую действительность. С другой же стороны, проблема языка у И. Бахман получила свое развитие за счет философии М. Хайдеггера с его представлением о языке как о «доме бытия», «хранилище бытия», «лоне всей человеческой культуры», «в обители» которой «живет человек». Онтологическая герменевтика, разработанная М. Хайдеггером для анализа художественных произведений посредством проникновения в смыслы, по его представлению, изначально заложенные в языке бытием, по замечанию О. Н. Турышевой, была ориентирована на постижение «таинственного, сокровенного содержания жизни» [5, с. 75].
В своей диссертации, посвященной экзистенциальной философии М. Хайдеггера, И. Бахман, однако, оспаривает целесообразность вступления философии в сферу «невыразимого», так как это, по ее мнению, скорее является задачей искусства. Только искусство как особая реальность, согласно И. Бахман, способно схватывать те смыслы, которые не поддаются точному определению в философии, как например, вопрос о смысле жизни.
Новый мир, по словам Л. Витгенштейна, невозможен без нового языка, именно поэтому герой новеллы решительно отклоняет «старый» язык, подразумевая под ним не только вербальные и невербальные формы общения, но и способы «бытийствования» человека в целом — его мышление и чувства, эмоционально-интеллектуальный мир, являющийся, по его представлению, источником всех несчастий. Следовательно, язык выступает как мощное средство управления сознанием человека. Отсюда рождается попытка главного героя избежать диктата языка, довлеющего над сознанием человека, и дать сыну возможность стать свободным. Стратегия поведения отца согласуется со знаменитым тезисом Л. Витгенштейна «Границы моего языка — границы моего мира» («Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt»). Вот почему он полагает, что для того чтобы выйти за пределы «наихудшего из всех миров», место «старого» языка должен занять язык природы — теней, воды, камней и листьев, которому герой однако не в состоянии обучить своего ребенка. Своим отрицанием современной цивилизации и обращением к природе как к первоначалу, герой как будто бы надеется свести на нет изгнание первых людей из рая и «вавилонское смешение языков», надеется вернуться в невинное состояние духа, в Эдем до грехопадения. Не случайно он называет сына «первым человеком» («der erste Mensch»), так как возлагает на него надежды как на Спасителя — надежды на искупление всех грехов, и прежде всего, первородного греха: „[...] я ожидал, что он спасет мир“ (перевод мой. — Д. М.) [1, с. 72]. Подобные мысли провоцируют героя даже на отказ от физической близости с женой, поскольку размножение рода человеческого на протяжении своей многовековой истории представляется ему «проявлением бессмысленности в мире» („Manifestation der Sinnlosigkeit in der Welt“ [2, c. 63]).
Заммер замечает, что, вероятно, главный герой испытывает страх перед жизнью, обозначенный М. Хайдеггером как страх перед «бытием-в-мире» („In-der-Welt-sein“). Героя пугает бесконечный круговорот жизни, поскольку он представляется ему ничем иным как «постоянным процессом умирания» („ein ständiger Prozess des Endes“), вследствие чего его поведение выливается в эскапизм, форму ухода от реальной действительности [2, с. 68].
Отказ передавать ребенку смыслы, принадлежащие «посюсторонней» реальности, даже лишает героя желания подобрать для ребенка имя, вследствие чего родители называют сына Фипс („Fipps“). Отец, видя, как его сын играет по правилам социума и постепенно становится его «продуктом», внутренне отрекается от ребенка и полностью перестает обращать на него внимание.
Фипс же, чувствуя пренебрежение отца, пытается говорить с ним на своем языке — языке агрессии и зла. Вспышки гнева, угрозы поджечь родительский дом и все уничтожить, нападение с ножом на своего одноклассника не приносят результата и только еще больше отвращают главного героя от своего сына. Развивая свою собственную «языковую концепцию» (если под языком понимать весь эмоционально - интеллектуальный строй человека), Фипс в первую очередь стремится привлечь к себе внимание отца и почувствовать себя нужным и любимым. По этому поводу в своем первом докладе в рамках т. н. «франкфуртских лекций» И. Бахман подчеркивает, что «если бы у нас был язык, нам не нужно было бы оружия: «Haitten wir das Wort, haitten wir Sprache, wir brauchten die Waffen nicht“» [6, c. 15].
Однако рассказчик отказывается принимать сына таким, какой он есть, отказывается понимать его «язык», зная только чуждый реальной жизни «язык утопии». Таким образом, фигура отца относится к т. н. «спящим» («Schafer»), как И. Бахман характеризует людей, от страха отказывающихся принимать себя и окружающий мир [6, c. 27].
Кульминацией новеллы становится гибель Фипса, сорвавшегося со скалы во время школьной экскурсии. Только после смерти ребенка к герою постепенно приходит осознание произошедшего. У отца и сына появляется общий язык, на котором герой теперь мысленно говорит с Фипсом, впервые ласково называя его «своим сорванцом», «своим сердцем» («mein Wildling», «mein Herz» [1, c. 80]). «Человеческий» язык, язык подлинных чувств заменил язык рациональных и абстрактных схем утопии. Таким образом, как утверждает С. Заммер, падение ребенка опустило отца с небес на землю, и в итоге Фипсу все-таки удалось, пусть и после смерти, «создать» новый язык и действительно все изменить [2, c. 72].
Преодоление кризиса языка осуществилось через приобретение нового опыта как определенного акта познания мира, опыта границы между реальностью и утопией. Осознание пришло к герою, когда он переступил черту, зашел слишком далеко, не сумев быть дружелюбным к сыну и не проявив к нему любви. Признание им собственной вины («Я был первым человеком и все потерял, ничего не сделал!» (перевод мой. — Д. М.) [1, с. 72]) позволило изменить фокус зрения. Ожидание спасения извне, возложение ответственности на другого человека осознается теперь героем как нечто неправомерное, не способное разорвать порочный круг. Глобальные и глубинные изменения свершаются не по ту сторону «совокупности фактов» и не кем-то другим, а на самой границе существующей действительности в рамках конкретного индивидуального сознания. По мнению Г. Вебера, человек как метафизический субъект сам представляет собой определенную границу и наряду с границами языка и реальности является тем «пространством», в котором возможен прорыв в абсолютное: „Die Grenze“ von Sprache, Welt und Existenz (wir selbst als metaphysisches Subjekt sind ja auch „Grenze“) ist der Ort, an dem der „Ruck geschieht“ [4, c. 125]. Но расширение сознания, открывающее новое духовное измерение, невозможно без пересечения этих границ: «Denn ohne ein „Überschreiten“ ist auch eine „Erweiterung“ nicht möglich [...] Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten» [4, c. 116].
Понятию утопии как форме ментального эскапизма И. Бахман противопоставляет понятие „Fleisch“ («плоть»), которое синтезирует в себе материальный и духовный планы. Физическая связь людей между собой, цепочка смертей и рождений, продолжение рода человеческого, т. н. «игра старого мира», и составляет своего рода святость «плоти». Только она как «человеческое, слишком человеческое» может быть тем посредником между людьми и Абсолютом, через которого говорит «мистическое», «невыразимое» — истина, свобода и любовь. Поэтому так опасно отклонение в сферу рассудочного, абстрактного, оторванного от понимания сущности жизни и естества человека, а значит, бездуховного знания. Недоверие ко всему рациональному, к разуму, так характерное для мировосприятия многих писателей ХХ века, находит свое выражение и в концепции И. Бахман. Не интеллектуальный конструкт, претендующий на статус универсальной теории, объясняющий мир, и тем самым выхолащивающий все живое и сокровенное, а только любовь как особый язык, по ее мнению, может преодолеть отчуждение и стереть границы, стоящие на пути к пониманию другого человека. Тяжелые испытания, трагедии, «пограничные ситуации», пропущенные человеком через себя и потрясающие основы его привычного бытия, позволяют перейти ему на качественно новый уровень восприятия, ибо совершенство, по мнению И. Бахман, невозможно без опыта боли и перехода границ. Следовательно, «плоть» становится тем инструментом, посредством которого осуществляется познание мира, чреватое столкновением с болью, но также и указывающее путь к подлинному освобождению. Ключом же к нему, согласно концепции И. Бахман, выступает любовь, как определенная духовная величина, как особый язык, примиряющий субъекта с окружающей действительностью и делающий возможным в рамках конкретной реальности, конкретного языка и сознания прорыв в сферу абсолютного.
Таким образом, выраженная в новелле на конкретном образном уровне антиномия «отец-сын» может служить аллегорией взаимоотношений художника и языка. Стремление автора-творца к созданию языковой реальности отличной от предыдущей обнаруживает свою несостоятельность. Не новая знаковая система как принципиально иная форма мышления, а апелляция к глубинным экзистенциальным смыслам, заложенным в человеке, — чувствам, духовности — может преодолеть границы между сознанием и жизнью. Так, любовь в концепции И. Бахман являет собой некоего медиума, способного средствами конкретного существующего языка транслировать высшие смыслы и тем самым творить новую действительность.
Библиографический список:
- Bachmann Ingeborg. Das dreiß igste Jahr. Erzählungen. München, Zürich: Piper Verlag. 6. Auflage, 2011. 186 s.
- Sammer Simone Rebecca. Interpretationen zu Ingeborg Bachmanns „Das dreißigste Jahr”. Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Universitat Passau. URL: http://d-nb.info/1026805902/34 (дата обращения: 06.09.2014).
- Schmitz-Emans Monika. Spiele an und mit Grenzen: Zu einigen poetischen Experimenten Ernst Jandls und anderer zeitgenossischer Lyriker // Поэтика рамы и порога: функциональные формы границы в художественных языках [Граница и опыт границы в художественном языке. Вып. 4] / науч. ред. Н.Т. Рымарь. Самара: Издательство «Самарский университет», 2006. С. 271-289.
- Weber Hermann. An der Grenze der Sprache. Religiose Dimension der Sprache und biblischchristliche Metaphorik im Werk Ingeborg Bachmanns. Essen: Verlag Die blaue Eule, 1986. 294 c.
- Турышева О.Н. Теория и методология зарубежного литературоведения: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2012. 160 с.
- Bachmann Ingeborg. Frankfurter Vorlesungen. Probleme zeitgenössischer Dichtung. Munchen: Piper Verlag, 1982. 126 c.
Л-ра: Вестник СамГУ. 2014. № 9 (120). С. 190-194.
Биография
Произведения
Критика