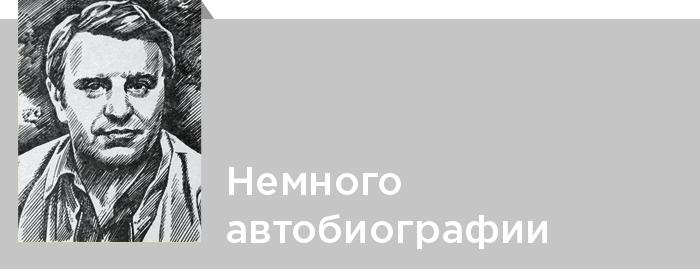Борис Пильняк. Снега

I
С вечера в хрусткой тишине были слышны ямщичьи колокольцы; должно быть, проехали со станции. Колокольцы прозвонили около усадьбы, спустились в овраг, потом бойко — от рыси — задребезжали на деревне и стихли за выгоном. В усадьбе их слышали.
Полунин сидел в кабинете с Архиповым за шахматным столиком. Вера Львовна была у ребенка, говорила с Аленой, затем ходила в читальню-гостиную, рылась в книгах. Кабинет был большим, на письменном столе горели свечи, валялись книги, над широким кожаным диваном висело, поблескивая тускло, старинное оружие. В окна без гардин заглядывала лунная безмолвная ночь. В окно проходил телефонный провод, рядом стоял столб, и провода гудели в комнате, где-то в углу у потолка, однотонно, чуть слышно, точно вьюга,— гудели всегда. Сидели молча,— Полунин,— широкоплечий, с широкой бородой, Архипов,— сухой, четкий, с голым черепом.
Пришла Алена, принесла молоко, простоквашу и творог.
— Милости прошу поужинать, чем бог послал,— сказала застенчиво, поклонилась, сложила руки под грудями, молодая, скромная, в белом платочке, с тихими глазами. Сели к столу, ужинали молча, рассеянно. Алена присела было, но скоро ушла — заплакал ребенок, с нею ушла и Вера Львовна. Самовар шумел чуть слышно, вил тонкую верею, в унисон с проводами. Мужчины взяли с собой чай, вернулись опять к шахматам. Вернулась Вера Львовна, села на диван рядом с мужем, сидела неподвижно, напоминали глаза ее глаза некой ночной птицы — были неподвижны, сосредоточены.
— Посмотрели, Вера Львовна, Гойю?
— Просматривала историю искусств, потом сидела с Наташей.
— Удивительнейшая чертовщина! А вы знаете, есть еще живописец —Бохс. У того еще больше чертовщины. Его искушения св. Антония.
Заговорили о Гойе, о Бохсе, о св. Антонии, говорил Полунин, незаметно перевел разговор на Франциска Ассизского,— читал сейчас творения Франциска, увлекался им,— его аскетическим приятием мира,— потом разговор иссяк.
Ушли Архиповы поздно, Полунин ходил провожать. Орион подошел к полуночному своему месту, мороз в безмерной тишине жестко колол, под ногами скрипел снег.
Возвращаясь, смотрел в пустынное небо, искал любимое свое созвездие Кассиопею, следил за Полярной. Затем задавал на ночь корм лошадям, поил их, угощал специальным посвистом; в конюшне было тепло, пахло конским потом, тускло горел на стене фонарь, лошади выдыхали парные серые облака, жеребец Поддубный косил большим наивным глазом, точно неумело следил. Запер конюшню, постоял на дворе на снегу, осмотрел запоры.
Алена в кабинете на диване постлала постель, сидела около в кресле, кормила грудью ребенка, склонив к нему голову, напевала тихо, без слов. Полунин сел рядом, говорил о хозяйстве, принял с рук Алены ребенка, качал его. В окна шли зеленые пласты лунного света. Полунин думал о Франциске Ассизском, об Архиповых, потерявших веру и все же ищущих закона, об Алене, о хозяйстве. В доме была тишина. Уснул быстро, спал бодро, крепким сном, к которому привык давно, после бессонных прежних ночей.
Над безмолвными полями проходила луна,— не спала, верно, этой ночью Ксения Ипполитовна Енишерлова.
II
День пришел белый, прозрачный, холодный,— тот, в которые дышится паром, и на деревья, дома, изгороди садится иней. На деревне дым из труб пошел прямо, сизый. За окнами был опустевший сад, лежала деревушка, придавленная снегом к земле, дальше шли белые поля, овраг, лес. Небо было бело, воздух — бел, солнце не выходило из белых же облаков.
Заходила Алена, говорила о хозяйстве, ушла палить к Рождеству свинью.
В читальной часы пробили одиннадцать, им ответили часы из зала, и сейчас же за ними прозвонил телефон; в пустынной тишине его звон прозвучал необычно и резко; в телефоне глухо, издалека зазвучал женский голос.
— Это вы, Дмитрий Владимирович? Дмитрий Владимирович, вы ли это?
— Да. Но кто говорит?
— Говорит Ксения Ипполитовна Енишерлова,— ответил голос покойно и зазвучал взволнованно:— Это вы, мой аскет и искатель? Это я, это я,— Ксения...
— Ксения Ипполитовна,— вы?— Полунин спросил радостно.
— Да-да... О, да-а!.. Я устала метаться и быть на кончике острия, и я приехала к вам в поля, мой аскет, где снег, снег, снег и небо... к вам, искатель... Примете ли вы меня? Вы простили мне тот июль?
Полунин стоял около телефона сгорбившись, лицо его было серьезно и внимательно.
— Да, я простил.
Одно лето, давно уже, часто Полунин и Ксения Ипполитовна встречали вместе июньские всходы, и по зарям, в матовой росе на террасе, когда горько пахло березами и меркнул хрустальный серп на западе, прощаясь до завтра, Полунин целовал свято наивные, думалось ему, Ксении Ипполитовны, в горьком березовом соке, чистые губы, и поцелуи эти были наивны и чисты. Но Ксения Ипполитовна потом смеялась над ними и покойно пила изнемогающую, протестующую страсть Полунина порочными своими губами, чтобы покинуть его потом, сменять на Париж и оставить после себя лоскутья любви чистой и страстной.
Были те июнь и июль, были с тем, чтобы принести радость и горе, добро и зло. Алену встретил Полунин уже уставшим, уже нашедшим свое. Жил один, с книгами. Алену встретил весной, сошелся быстро, просто, зачав ребенка,— нашед в себе уже не страстные инстинкты, но инстинкт отцовства. Алена в дом пришла без венчания, тоже уже после весенней любви, пришла вечером, поставила в кухне на скамью свой сундучок, прошла в кабинет, сказала тихо:
— Вот я. Пришла,— и платком утерла уголки губ, красивых еще очень и скромных.
Ксения Ипполитовна приехала к заполдням, когда день уже меркнул и над снегами пошли синие полосы. Небо потемнело, налилось синей мутью, кричали под окнами на снегу снегири. Ксения Ипполитовна подъехала к парадному, позвонила, хотя Полунин ей отпирал уже. Прихожая была большая, светлая, холодная. Когда входила Ксения Ипполитовна, на минуту упали на окна солнечные лучи, свет в прихожей стал теплым и восковым,— лицо Ксении Ипполитовны показалось Полунину в нем зелено-желтым, как кожица персика,— безмерно красивым. Но лучи погасли, свет стал синим, сумеречным,— Ксения Ипполитовна померкла, стала уставшей, постаревшей.
Алена поклонилась, Ксения Ипполитовна на момент приостановилась, верно, раздумывая: — подать ли руку? — подошла быстро, обняла Алену, поцеловала.
— Здравствуйте, я ведь старый друг вашего мужа. Руки для поцелуя Полунину не дала.
С тех пор, с того давнего лета Ксения Ипполитовна изменилась очень. Так же прекрасны были глаза, так же тонки и красивы были своевольные губы, прямой нос, изломанные брови,— появилось нечто, что напоминало поздний август. Носила раньше она светлые костюмы,—была одета сейчас в черное платье, рыжие свои нежные волосы заложила простым жгутом.
Прошли в кабинет, сели на диван. Свет стал синий, за окнами лежал синий снег. Мебель и стены в сумерках посерели. Полунин был очень серьезен и внимателен, заботливо стал около Ксении Ипполитовны. Алена ушла; уходя, смотрела на мужа долго и пристально.
— Я сюда прямо из Парижа. Это очень странно. Собиралась уезжать к весне в Ниццу, складывала вещи и нашла у себя в гардеробе гнездо мыши; мать убежала и осталось три детеныша,— они были без шерсти и едва ползали. Я все дни проводила с ними, но на третий день умер первый, затем ночью оба остальные... И наутро я стала собираться в Россию, сюда, к вам, где снег, снег... Вы знаете, в Париже нет снега, а у нас скоро Рождество, русское Рождество. Ксения Ипполитовна замолчала, скрестила пальцы, поднесла руки к щеке; были пальцы ее тонки и длинны, с полированными ногтями; мелькнуло в лице сиротливое и грустное.
— Говорите, Ксения Ипполитовна.
— Я ехала нашими полями и думала о том, что жизнь здесь скучна и проста, как эти поля, но что жить здесь можно не только от вещей. Знаете,— жить от вещей. Меня зовут — я еду, меня любят — я позволяю любить, в витрине бросилась в глаза вещь — я покупаю. Если бы не было тех, кому не лень меня двигать,— я бы не двигалась... Я ехала нашими полями и думала о том, что так нельзя. И еще я думала о том, что приеду к вам и расскажу о мышах... Париж, Ницца, Монако, платье, английские духи, вино, де-Виньи, неоклассицизм, любовники... У вас все по-старому.
Ксения Ипполитовна встала, подошла к окну.
— Снег, синь, как в Норвегии. В Норвегии я бросила Вальпянова. В Норвегии люди похожи на клейдейсталей. Лучше России — нет. У вас все по-старому. Вы молчите. Вы простили — тот июль?
Полунин подошел, стал рядом.
— Да, простил,— сказал серьезно.— Снег в сумерки всегда синий.
— А я не простила того июня. А в читальной — тоже по-старому. Помните, мы читали вместе там Мопассана.
Ксения Ипполитовна пошла к читальной, отворила дверь, вошла. В читальной были книжные шкафы, где за стеклами стояли ровные золоченые тома, стоял диван и около него большой круглый полированный стол. В окна шли последние желтые лучи, свет здесь был не холодно-синим, как в кабинете,— восковым, теплым, и опять лицо Ксении Ипполитовны показалось Полунину необыкновенным — зеленым, а волосы — цвета мальв; глаза ее, большие, черные, пустые в своей глубине, смотрели упорно.
— Вам, Ксения Ипполитовна, бог дал величайшее— красоту.
Ксения Ипполитовна посмотрела пристально на Полунина, усмехнулась.
— Величайший соблазн дал мне бог... Вы мечтали о вере — нашли ее?
— Да, нашел.
— Вера — во что?
— В жизнь.
— Ну, а если ни во что не верить?
— Невозможно.
— Не знаю. Не знаю...— Ксения Ипполитовна положила руки на голову.— В Париже и Ницце меня ищет сейчас японец Чики-сан. Я не знаю,— знает ли он про Россию. Я, вот уже неделю,— как умер последний мышонок,— не курю, а раньше я курила египетские. Да,— невозможно не верить.
Полунин подошел быстро к Ксении Ипполитовне, взял ее руки, опустил их; были глаза его очень внимательны; он сказал серьезно и тихо:
— Ксения, не надо грустить. Не надо.
— Вы меня любите?
— Как женщину — нет, как человека — да,— ответил твердо, тихо.
Усмехнулась, опустила глаза. Пошла быстро, села на диван, поправила черную свою юбку, улыбнулась.
— Я хочу быть чистой.
— Вы очень чистая.— Полунин сел рядом, сгорбился, поставил локти на колена.
Молчали.
— Вы постарели, Полунин.
— Да, постарел. Люди стареют, но это не страшно, если они нашли.
— Да, если — нашли... А теперь — как? Почему — Алена?
— Что же, я устал... Рублю дрова, топлю печи, живу, чтобы жить, читаю Франциска Ассизского, думаю, и мне очень грустно, что это никогда не повторится. Он, я знаю, смешон,— но у него вера. А Алена — я люблю ее, навсегда.
— А вы знаете, как пахнут маленькие мышата?
— Нет. Это зачем?
— Они пахнут, как новорожденные — дети людей, конечно. У вас дочь, Наташа. Это самое главное.
Солнце померкло, на западе осталась в холодных облаках огромная красная рана, снега были фиолетовыми, в комнатах стала лилово-черная муть. Вошла Алена, из раскрытой двери в кабинет слышно было, как громко гудели провода,— по полям к вечеру пошла колкая серая поземка.
Вечером поднялись и пошли по небу поспешные мутные облака, и в них луна плясала. Крутилась — свивалась, ползла поземка, ветер дул по-стариковски, злобно и колко. Было в полях сиротливо, непокойно и нехорошо, темными провалами заливалось небо.
В семь пришли Архиповы.
Ксения Ипполитовна знала Архиповых давно, еще до их свадьбы, знали друг друга безразлично. Архипов поцеловал руку Ксении Ипполитовны, здороваясь, заговорил о загранице,— знал и уважал Германию. Перешли в кабинет, разговаривали, немного спорили; говорить, собственно, было не о чем. Вера Львовна молчала, как всегда, уходила к Наташе. Полунин был тоже молчалив, ходил по комнате, заложив руки назад. Ксения Ипполитовна, верно бессознательно, шутила с Архиповым тоном своевольным, кокетливым,— Архипов отвечал серьезно, точно, покойно,— не умел вести разговоров легких и острых, чувствовал, верно, неловкость. Заговорили о Рождестве; Ксения Ипполитовна доказывала, что Рождество надо провести шумно, с сочельником, со святками, тройками, с Новым годом. Из пустяков, из того, что Ксения Ипполитовна утверждала некий промысел в святочном гадании, вспыхнул между Полуниным и Архиповым спор о старейшем,— о вере и безверии. Архипов говорил покойно и твердо, Полунин волновался, путался и сердился. Архипов утверждал, что вера, как и все чувства, как инстинкт,— не нужна и вредна, что есть единственное непреложное — ум, что нравственно только то, что разумно. Полунин ответил, что умное и неумное — не мерило жизни, ибо — разумна ли жизнь? — что без веры — смерть, что в жизни непреложна лишь трагедия веры и духа.
— А вы знаете, что такое мысль, Полунин,— мысль?
— О, да. Знаю.
— Не улыбайтесь, ведь вы знаете, что мысль убивает все? Продумайте, промыслите трижды ваше святое — и оно будет простым, как стакан лимонада.
— Но смерть?
— Смерть — это уход в ничто. Это всегда у меня в запасе,— когда будет скучно. Пока мне хочется жить и делать.
Когда спор уже иссякал, Вера Львовна сказала покойно, как всегда, и тихо:
— В жизни трагично только то, что нет ничего трагичного, а смерть — смерть только одна, когда человек умирает физически. Поменьше метафизики.
Ксения Ипполитовна слушала спор непокойно, настороженно,— горячо ответила Вере Львовне.
— Но все-таки есть трагедия — отсутствие трагедии?
— Да. Только одна.
— А любовь?
— Нет. Любви — нет.
— Но вы же ведь замужем?
— Я хочу ребенка.
Ксения Ипполитовна сидела с ногами на диване, поднялась на колени, протянула руку, крикнула:
— А-а? Ребенка! Это не инстинкт?
— Это закон.
Заспорили женщины. Затем спор иссяк. Архипов предложил преферанс. Раскрыли зеленый столик, поставили по углам свечи, играли не спеша, молчаливо, со старинной записью, по-зимнему. Архипов сидел прямо, положив локти на стол, держал их под прямым углом. За домом свистел ветер, вьюга разрасталась, где-то сиротливо, тоскливо скрипело, хлябало железо. Пришла Алена, села около мужа, сидела тихо, скрестив на груди руки. Коротали вечер.
— Последний раз я сидела за преферансом в шхерах, в маленькой деревенской гостинице, была страшная буря,— Ксения Ипполитовна заговорила задумчиво.— Нет, в жизни есть большие трагедии и маленькие трагедийки.
Ветер свистел упорно, тоскливо, в окна хлестала метель.
Ксения Ипполитовна засиделась до позднего часа, Алена упрашивала ее остаться ночевать,— не осталась, уехала.
Полунин провожал до околицы. Поземка летела стремительно, больно кололась, свистел ветер, была кругом зеленая, снежная муть, луна прыгала наверху в облаках. Лошади шли трудно, шагом. В полях был мрак.
Возвращался Полунин один, без дороги; ветер дул в лицо, снег слепил глаза. Заходил убирать лошадей; Алена встретила его у кухни, поджидала,— было лицо ее тихим и скорбным; подошел к ней, обнял, поцеловал.
— Не грусти, не бойся. Тебя одну люблю, только. Знаю, отчего затомилась.
Алена взглянула благодарно и нежно, улыбнулась застенчиво.
— Ты не понимаешь,— одну любить. Другие этого не умеют.
Над домом выл ветер, в доме была тишина. Прошел в кабинет, сел к столу; заплакал ребенок, ходил со свечой к нему, принес его Алене, Алена кормила. Ребенок был маленьким, хрупким, красным,— нарождал безмерную нежность в сердце Полунина. Одиноко светила затекшая свечка.
На рассвете прозвонил телефон. Полунин встал уже. Рассвет творился медленно, синими красками, за окнами и в комнатах была синяя муть, окна замело снегом, вьюга стихла.
— Я вас разбудила, вы уже легли? — говорила Ксения Ипполитовна.
— Нет, я уже встал.
— Чтобы бодрствовать?
— Да.
— А я только что приехала. Буран кружил нас полями и без дорог, все дороги замело... Я ехала и думала, думала,— о снеге, о вас, о себе, об Архипове, о Париже... О, Париж!.. Вы не сердитесь, что звоню я, о, мой аскет... Я думала о нашем разговоре.
— Что — думаете?
— Вот... вот, мы с вами говорили... но вы простите,— ведь так вы не можете говорить с Аленой. Она ничего не поймет?.. Как же,— как?
— Можно совсем не говорить и все понимать. Есть нечто, что соединяет без слов не только меня и Алену, но меня и весь мир.
— Ну да...— Ксения Ипполитовна сказала тихо,— простите,— баба Алена...
— Я ее люблю, и у меня от нее дочь.
— Ну да. А мы любим без детей... мы встаем не утром, а днем, и днем скучаем, чтобы веселиться ночью, когда вы разумно спите,— крикнула Ксения Ипполитовна.— Мы «гейши фонарных свечений»,— помните у Анненского? Ночью мы сидим в ресторане, пьем вино и слушаем ночное кабаре. Любим без детей... А вы? — вы живете разумно, правдивою жизнью, ищете правду... что же!? — правда!..— крикнула зло, насмешливо.
— Это несправедливо, Ксения,— Полунин ответил тихо, опустив голову.
— Нет, погодите! Тоже из Анненского: «и было мукою для них, что людям музыкой казалось...» мы — «гейши фонарных свечений», но — «нет у Киприды священней несказанных нами люблю...»
— Это несправедливо, Ксения.
— Несправедливо? — крикнула, расхохоталась и вдруг затихла, заговорила скорбно, еле слышно — «но нет у Киприды священней несказанных нами люблю...», люблю-у... Милый, тогда,— в том июне я смотрела на вас, как на мальчика, а теперь я кажусь себе маленькой, маленькой, а вы — большим, который защитит... Как сиротливо было ночью одной в полях! Но это — искупление... Вы единственный, кто любил меня свято. Спасибо вам, но у меня нет уже веры.
Рассвет был серым, медленным, холодным, красно бурел восток!
III
После Парижа встретил Ксению Ипполитовну старинный дом, опиравшийся на свои колонны целое столетие, архитектуры классической, с фронтоном, двухсветною залою, с гулкими коридорами, с мебелью, застывшей так, как ставилась она последний раз при прадеде,— встретил дом, уже отживший, ее, последнюю в роде, безразлично и хмуро, холодными комнатами, темными и страшными ночью, многолетней пылью. Прежнее помнил один ветхий лакей,— помнил прежних господ, старую барскую ширь; горничная, что приехала с Ксенией Ипполитовной, не говорила по-русски.
Поселилась Ксения Ипполитовна в комнатах матери; сказала старику, что порядок будет прежний по старинным правилам. Тогда же старик сообщил, что при старых господах в сочельник собирались родные и близкие, а под Новый год — весь уезд, все дворянство «даже без приглашения почитало за долг» приехать, и что теперь же надо готовить запасы.
Поднимал старик Ксению Ипполитовну в восемь, подавал кофе и после кофе говорил сурово:
— Вам надо, барыня, пройтись, прогуляться по хозяйству, а потом в кабинет книги читать и записать приходо-расходы, управляющий придут. Так барин всегда поступали.
И делала все так, как указывал старик,— по прежнему порядку, была тиха очень, покорна, печальна, читала толстые наивные книги, те, где «ш» путалось с «т». И лишь иногда, тайком от деда, звонила Полунину и говорила с ним долго и боязно, с тоскою, ненавистью и любовью.
На святках катались на тройках, гадали; Ксении Ипполитовне вышла из воска колыбель; ездили в город ряжеными, заезжали на любительский спектакль в клуб, Полунин рядился лешим, Ксения Ипполитовна — лешего дочкой, березницей. Ездили к соседним помещикам. Святки стояли ясными, морозными, с красным утренним солнцем, с восковым от солнца дневным светом, с длинными синими вечерами.
IV
К Новому году, к шумному балу в доме, старик поднял суматоху, чистил паркеты, расстилал ковры, наливал лампы, расставлял новые свечи, доставал из сундуков сервизы и серебро, заготавливал нужное для гадания,— к вечеру дом был готов, парадные комнаты блистали огнями, у дверей стояли парнишки из села.
Ксения Ипполитовна проснулась в этот день поздно и не вставала, лежала до обеда в кровати, туда ей приносили кофе и завтрак, лежала неподвижно, закинув руки за голову. День был яркий, в окна шло солнце, и золотые солнечные лучики падали на глянцевитый пол, отражаясь, раскидывали зайчиков по темным стенам в штофных обоях. За окнами холодно блестел синий снег с узорными следами птиц. Над конным двором стало небо, синее и пустое. Спальня была большой, сумеречной, в коврах; у внутренней стены стояла двухспальная кровать под балдахином, в углу кивот. Лицо Ксении Ипполитовны было скорбно и утомленно. Перед обедом принимала ванну, долго одевалась, обедала одна, вяло, медленно, с книгой в руках. За окнами в парке перед сумерками кричали вороны, птицы разрушения. С вечера ненадолго поднимался новорожденный месяц, красный и хрупкий. Вечер в морозе стал ясным и тихим. Звезды казались огромными, небо — атласным, синим, снег — бархатным, зеленоватым.
Полунин приехал рано. Ксения Ипполитовна встретила его в диванной; горел камин, лампы не было, у камина стояли два вольтеровых кресла, окна, закругленные вверху, в инее, были, казалось, серебряными. Отсветы из камина падали оранжевые, теплые.
— Я грущу сегодня, Полунин.
Была Ксения Ипполитовна в черном вечернем платье, волосы заплела в косы, руку для поцелуя подала.
Сидели рядом в креслах.
— Я ждала вас в пять. Сейчас шесть. Вы все невежи и невнимательны к женщине. Вы ни разу не захотели побыть со мной наедине,— не догадались, что я хочу этого,— говорила Ксения Ипполитовна тихо, немного холодно, смотрела упорно в огонь, щеки оперла узкими своими ладонями.— Вы очень молчаливы, дипломат... Как сегодня в поле? Холодно, тепло? Вам сейчас подадут чаю.
— Да, холодно, очень, но тихо,— сказал не сразу, помолчал.— Когда мы с вами говорили, вы не сказали всего. Говорите сейчас.
Ксения Ипполитовна усмехнулась.
— Я уже все сказала... Холодно очень? Я сегодня не выходила. Думала о Париже и о том,— об июне... Сейчас принесут чай.
Встала, позвонила, вошел старик.
— Скоро чай?
— Несу, барыня.
Ушел и принес поднос с двумя стаканами, флаконом рома, печеньем, смоквой, медом, расставил на столиках у ручек кресел.
— Свету не прикажете?
— Нет. Ступайте... притворите дверь.
Старик ушел, посмотрел внимательно и понимающе.
— Я вам уже все сказала. Как вы не поняли? Пейте чай.
— Говорите, Ксения.
— Пейте чай, подлейте рому. Я вам все уже сказала. Помните, о мышах? Вы не поняли? — говорила Ксения Ипполитовна холодно, тем же тоном, что и лакею, сидела в кресле прямо.
— Нет, значит,— не понял.
— Ах боже мой! Вы раньше чутки были, мой аскет. Хотя здоровье и счастье всегда не чутки,— вы ведь здоровы и счастливы.
— Вы опять хотите быть несправедливой. Вы ведь знаете, что я люблю вас.
— Ну, хорошо. Это пустяки.
Ксения Ипполитовна усмехнулась, взяла стакан, откинулась к спинке, помолчала. Полунин тоже взял чай, отпил сразу полстакана, согреваясь после дороги.
— Вот в печке сгорят огни и потухнут, и будет холодно. У нас с вами всегда надрывные разговоры. Быть может, правы Архиповы,— когда умно — надо убить, когда умно — надо родить. Разумно, умно, честно...— Ксения Ипполитовна говорила тихо, тоном мечтательным, замолчала на минуту, выпрямилась, стала говорить быстро, горячо, неровно: — Вы меня любите? А вы хотите меня — как женщину? — целовать, ласкать,— понимаете? Нет, молчите! Меня, очищенную,— я приду к вам так, как вы ко мне в том июне... Вы не поняли о мышах? Или так. Вы заметили, вы думали о том, что в жизни человека не меняется и остается одним навсегда? Нет, подождите... Было сотни религий, сотни этик, эстетик, наук, философских систем — и все менялось и меняется, и не меняется только одно, что все, все живущие,— и человек, и рожь, и мышь, рождаются, родят и умирают... Я собиралась в Ниццу, там ждал меня любовник, нашла мышат, и вдруг мне безумно захотелось ребенка, маленького, милого, моего,— и я вспомнила о вас!.. И я уехала сюда, в Россию, чтобы родить свято... Я могу родить!
Полунин встал около Ксении Ипполитовны, внимательное лицо его было серьезно и взволнованно.
— Не бейте меня, Полунин.
— Вы чистая, Ксения.
— Ах, вы опять с чистотой и грехом... Я глупая, с приметами и поверьями, баба, и больше ничего,— как все бабы. Я хочу здесь зачать, понести и родить ребенка. У меня под сердцем пусто. Хотите быть отцом моего ребенка? — встала, выпрямилась, пристально посмотрела в глаза Полунина.
— Что вы говорите, Ксения? — Полунин спросил тихо, серьезно, горько.
— Что я хочу, я сказала. Я хочу ребенка. Дайте мне ребенка, а потом уходите, куда... к своей Алене... я помню тот июнь, июль...
Полунин выпрямился, сказал твердо:
— Я не могу этого, Ксения. Я люблю Алену.
— Я не хочу любви, мне не надо ее. О, я ее знаю!.. ведь я люблю вас...— Ксения Ипполитовна сказала тихо, едва внятно, провела рукой по лицу.
— Мне уйти, Ксения?
— Куда?
— Как — куда? Совсем.
Подняла глаза, взглянула ненавидяще и презирающе, крикнула:
— А-ах, опять эти трагедии, долги, грехи! Ведь просто же все! Ведь сходились же раньше вы со мною!
— Я никогда не сходился, не любя. Я люблю только Алену. Я думаю, я должен уйти.
— О, какой жестокий, аскетический эгоизм! — крикнула зло, но затомилась, стихла, села в кресло, закрыла лицо руками, замолчала.
Полунин стоял около сгорбившись, опустив руки. Был он широкоплеч, широкобород, в блузе, лицо его было взволнованно, глаза смотрели скорбно.
— Не надо, не уходите... Это так, это пустяки... Ну, хорошо... Я ведь говорила чисто... Не надо... Я устала, я измоталась. Верно, я не очистилась, я знаю,— нельзя... Мы — «гейши фонарных свечений» — помните Анненского?.. Дайте руку.
Полунин протянул большую свою руку, сжал тонкие пальцы Ксении Ипполитовны, рука ее была безвольна.
— Вы простили?
— Я не могу ни прощать, ни не прощать. Но — я не могу.
— Не надо... Забудем. Будем веселиться и радоваться. Помните: — «А если грязь и низость — только мука по где-то там сияющей красе...» Не надо, все кончено... О — о! все кончено!
Ксения Ипполитовна крикнула последние слова, поднялась, выпрямилась, расхохоталась громко и нарочито весело.
— Будем гадать, будем шутить, веселиться, пить... помните — как наши деды!.. Но ведь наши бабки имели приближенных — кучеров.
Она позвонила. Вошел лакей.
— Принесите нового чаю. Подложите дров. Зажгите лампы.
Камин горел палеными огнями, освещал кожаные вольтеровы кресла, на стенах во мраке поблескивали золотом рамы портретов. Полунин ходил по комнате, заложив руки назад; звуки шагов утопали в коврах.
За домом зазвенели колокольцы тройки.
Гости съезжались к десяти,— из города, соседние помещики — все, кто «почитал за долг», по старинному обычаю,— их принимали в гостиной. Тапер — сын священника — заиграл на рояли польку-мазурку, барышни пошли в зал танцовать, старик и два парнишки принесли воску, свечей, тазы с водой — гадали. Ввалилась компания ряженых, медведь показывал фокусы, гусляр-малоросс пел песни. Ряженые принесли с собою в комнаты запахи мороза, меха и нафталина. Кто-то кукарековал, плясали русскую. Было весело, по-помещичьи — бесшабашно, шумно. Пахло топленым воском, горелой бумагой, свечным чадом. Ксения Ипполитовна была очень весела, шутила, смеялась, протанцевала тур вальса с лицеистом, сыном предводителя. Рыжие свои волосы переплела она из кос в большую прическу, на шею повесила старинное колье из жемчугов. В диванной старики засели за зеленые столы, шел толк об уездных новостях.
В половине двенадцатого лакей отворил двери в столовую, объявил торжественно, что ужин готов. Ужинали, говорили тосты, пили, ели, гремели сервизами. Около себя Ксения Ипполитовна посадила Архипова, Полунина, предводителя и председателя. В полночь, когда ожидали боя часов, говорила тост Ксения Ипполитовна, встала с бокалом в руке, левую руку закинула за прическу, голову подняла высоко. Все тоже поднялись.
— Я женщина. Я пью за наше, за женское, за тихое, за интимное, за счастье, за чистоту, за материнство! — говорила громко, стояла неподвижно.— Пью за святое...— не кончила, села, склонила голову.
Кто-то крикнул «ура», кому-то показалось, что Ксения Ипполитовна плачет. Начали бить часы. Кричали «ура», чокались, пили.
Затем снова пили. Почетных гостей и запьяневших обносили «чарочкой», вставали, кланялись, пели «чарочку», басы гудели:
— Пей до дна, пей до дна!
Первую чарочку Ксения Ипполитовна поднесла Полунину, стояла перед ним с подносом, кланялась, не глядела на него, пела. Полунин встал, покраснел, смущенно развел руками, сказал:
— Я не пью вина, никогда.
Басы заглушили:
— Пей до дна! Пей до дна!
Полунин потемнел, поднял руку, останавливая, сказал твердо:
— Господа. Я не пью никогда, и не буду пить.
Ксения Ипполитовна посмотрела в глаза ему, сказала тихо:
— Я хочу, я прошу... Слышите?
— Я не буду,— ответил тоже тихо.
Ксения Ипполитовна крикнула:
— Он не хочет. Не надо насиловать волю... Отвернулась, поднесла «чарочку» председателю, потом передала ее лицеисту, извинилась, ушла, вернулась тихо скорбная, сразу постаревшая.
Ужинали долго, потом перешли в зал, танцевали, пели, играли в фанты, в наборы, в пословицы, в омонимы, мужчины ходили в буфетную выпивать, старики сидели в гостиной за преферансом и винтом, толковали.
Разъехались гости к пяти, остались Архиповы и Полунин. Ксения Ипполитовна приказала приготовить у себя кофе; сидели вчетвером, уставшие, за маленьким столиком. Едва начинался рассвет, окна стали водянисто синими, свет свечей блекнул. В доме, после шума и беготни, замерла тишина. Ксения Ипполитовна была усталой очень, но хотела держаться бодро и весело. Разлила кофе, принесла кувшинчик с ликером. Сидели молча, говорили безразлично.
— Еще год канул в вечность,— сказал Архипов.
— Да, на год ближе к смерти, на год дальше от рождения,— ответил тихо Полунин.
Ксения Ипполитовна сидела против него,— глаз ее он не видел,— поднялась быстро, перегнулась через столик к нему и сказала медленно, ровно, зло:
— Н-ну-с, господин святой! Здесь все свои. Я сегодня просила вас дать мне ребенка, потому что и я женщина, и я могу хотеть материнства... я просила вас выпить вина... вы отказались? Ближе к смерти, дальше от рождения? Уби-рай-тесь вон! — крикнула и зарыдала, громко, сиротливо, закрыла лицо руками, дошла к стене, уперлась в нее и рыдала.
Архиповы бросились к ней. Полунин стоял растерянно у стола, вышел из комнаты.
— Я просила не страсти, не ласки,— у меня же нет мужа! — рыдала, вскрикивала, была похожа на маленькую обиженную девочку, успокаивалась медленно, говорила урывками, бессвязно, замолкала на минуту, снова начинала плакать.
Рассвет уже светлел, в комнату входили рассветные, не чистые, мучительные, водянистые тени, лица казались серыми, испитыми, безмерно утомленными; голова Архипова, плотно обтянутая кожей, голая, напоминала череп, лишь очень удлиненный.
— Слушайте, вы, Архиповы. Если бы к вам пришла женщина, которая устала, которая хочет быть чистой, пришла и попросила бы ребенка,— ответили бы вы так, как Полунин? — А он сказал: нельзя, это грех, он любит другую. Вы так бы ответили, вы, Архипов,— если бы знали, что у этой женщины это — последнее, одно? Одна любовь,— Ксения Ипполитовна сказала громко, всматривалась по очереди в лица Архиповых.
— Нет, разумеется, ответил бы по-другому,— Архипов ответил тихо.
— А вы, жена, Вера Львовна,— слышите? Я говорю при вас.
Вера Львовна наклонилась к Ксении Ипполитовне, положила руку на ее лоб, сказала:
— Не печальтесь, милая,— сказала тихо, тепло, нежно.
Ксения Ипполитовна вновь зарыдала.
Рассвет творился медленно, синими красками, за окнами и в комнатах посинело, свечи блекли и их свет становился сиротливым и ненужным; из мрака выползали вещи, книжные шкафы, диваны. Через синюю муть в окнах, точно через толстейшее стекло, видны были службы, синий снег, суходол, лес, поля... Справа у горизонта покраснело холодно и багрово.
V
Полунин ехал полями. Поддубный шел машисто, ходко, верно промерз ночью. Поля были синими, холодными. Ветер дул с севера, колко, черство. Гудели у дороги холодно провода. В полях была тишина, раза два лишь, пиикая однотонно, обгоняли Поддубного желтые овсяночки, что всегда зимами живут у дорог, обгоняя,— садились на придорожные вешки. В лесу потемнело, там еще не ушла окончательно ночь. В лесу Полунин заметил беркута, он пролетел над деревьями, поднялся в высь, полетел к востоку,— на востоке кумачовой холодной лентой вставала заря,— снега от нее лиловели, тени же становились индиговыми. Полунин сидел сгорбившись, понуро думал о том, что — все-таки, все-таки от закона он не отступил, как не отступит теперь уже никогда.
Дома Алена уже встала, хозяйничала,— обнял ее, крепко прижал к груди, поцеловал в лоб, пошел к ребенку, взял его на руки и долго, с огромной нежностью, смотрел в спящее его, покойное личико.
День был ярким, в окна ломились солнечные лучи, говорившие о том, что зима свернула к весне. Но плотно лежали еще снега.
Произведения
Критика