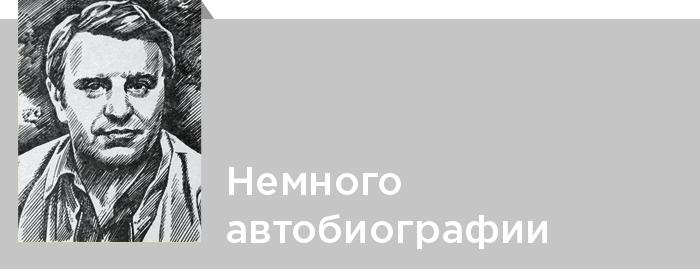О смысловой доминанте в рассказе Б. Пильняка «Метель»

С.Ю. Горинова
Борис Пильняк — один из тех писателей, чье творчество стало популярным в первые годы становления советской литературы и отразило стремительное движение истории. «Творение слова» превращалось в «человеческое сотворение мира».
«Россия», «Революция», «Метель» — сквозные лейтмотивы, определяющие идейнохудожественную проблематику как всех произведений Пильняка, так и смысловую структуру рассказа «Метель», созданного в
Писатель, активно использующий опыт предшественников, подчеркнуто обращается к метафоре, традиционной уже в то время для русской литературы: «революция-метель» — постоянный образ в поэзии и прозе 20-х годов, восходящий к ассоциативному ряду «революция — метель — бесы». На это обращается внимание и в самом повествовании: «Как — неповторимого — не повторить Пушкина?» Пильняк включает в текст строки из знаменитого пушкинского стихотворения «Бесы» для того, чтобы передать динамичность движения стихии, и привносит иной оттенок смысла: «Впрочем, не было луны; впрочем, были не только муть, но и мгла, и мга, и зги». Тем самым акцентируется внимание на передаче ощущения ужаса от неуправляемого вихревого снежного потока и от темноты беззвездной ночи, поглотившей, казалось бы, весь мир. Образ метели неожиданно приобретает блоковскую аранжировку: метель «на всем божьем свете».
Далее автор намечает еще один важный смысловой переход — от все нарастающего движения к состоянию абсолютного покоя: «И как не рассказать, — нерассказываемое, о том, как в метелях, в снегу, в вое ветра, в мчании, скачке и пляске... вдруг возникает абсолютный покой». Покой в контексте рассказа приобретает значение «тишины, неподвижности, недвижности», его переживает автор, вовлеченный в беспорядочное кружение самой метелью и радостно отдавшийся на волю стихии. Мгновение в вихревом потоке вырастает до размеров вечности, меняется ракурс изображения: сторонний наблюдатель превращается в участника бешеной пляски стихии, в повествовании явно проступает интонация «Кубка метелей» Андрея Белого: «Тема метелей — это смутно зовущий порыв... Куда? К жизни или смерти? К безумию или мудрости?». В описании города Пильняк намеренно усиливает статику, недвижность, вечность его существования, подчеркивая прямое лексическое значение глагола: «Город был», и тот проступает из мрака ночи, из снежного бурана, как будто противостоит разбушевавшейся стихии. Это пространство провинциального города, являющегося в творчестве писателя, по словам исследователя, «важной сферой столкновения разных идей, представлений о мире, пространством, полным противоречий и напряжений». Прочность городского бытия видимая. Революция перепутала и странно переплела ранее привычные отношения между людьми. В явном нарушении равновесия жизни «предметы приобретают новые значения, их функция как бы несоразмерно расширяется под влиянием устремленного на микромир писательского внимания».
«Со-творение мира» (Н.Ю. Грякалова) начинается с установления значений прежде привычных понятий и явлений действительности. Это закономерно, если учесть, что, по мнению писателя, революция заставляет вновь обретать смысл первооснов бытия: она «сняла „кумпол” с той «Академии — де Сиане, которая была поставлена причетниками». Следовательно, обращение одного из героев, дьякона, ушедшего от мира, «Господи! Слова дай, слова дай, господи!» — принадлежит человеку, переживающему в те дни «второе рождение». Эта просьба-требование обращена прежде всего самой переломной эпохе, и ответ зависит от степени «включенности» в ее события каждого из героев.
Сложность поисков подтверждается и эпиграфом рассказа: «Никто не знает, как правильно: мятель или метель» (мятель — мять, давить; метель — мести, сметать; в этой двойственности проявляется разная степень воздействия на «жертву» происходящих революционных преобразований: либо полное уничтожение, либо сознательное переосмысление случившегося). В своеобразной народной «этимологии» обнажается трагичность исторического столкновения и выстраивается соотношение трех «метельных» вариаций произведения, обнажается главная смысловая доминанта, «скрепа» трех разных пространственно-временных континуумов, заключенных в границах города и иерархически подчиненных друг другу.
За основу пространственной структуры повествования взята модель мироздания, воспринимаемая автором как храм. Свод в этом храме представляет собой небо, а стены совпадают с границами города, который вмещает в себя некий цельный, развивающийся по собственным законам миропорядок, у которого есть прошлое, настоящее и будущее. Они сосуществуют одновременно, сложно переплетаясь и сталкиваясь между собой. Своеобразной временной границей в жизни города и становится «революция-метель».
Прошлое — это мир бытовых реалий и предметов, отграниченных друг от друга и превратившихся в простой перечень атрибутов городского пейзажа: «За Спасом — базар, ряды торговые. Кремль, базарная площадь, улицы, переулки, тупики, каменные дома, деревянные дома, лачуги, церкви... В домах: лежанки, голландки, русские печи, железки; в домах коридоры, прихожие, спальни». Замкнутость раздробленного пространства усиливается образом дома-колокола, который подвешен к небесной тверди и в котором заключены обреченные на одиночество люди.
Город получает эпитет «осенний» не как обозначение времени года, а как знак исторического прошлого: «Город осенний. Осенние сумерки опустошают города, точно вынут из города воздух». Определение «осенний» теряет свой изначальный смысл и приобретает иной. Он разъясняется еще в первой главе, в которой март уподобляется весне, обновлению, революции, а октябрь — осени, умиранию, «старым годам» (название журнала, который читает ветеринар Драбэ).
Понятие «пустота» становится обозначением предельной степени духовной несвободы, символом прошлого. Конкретизируя образ «старых лет», автор обращается к наследию русской классики, чтобы «по Гоголю» столкнуть мир утраченных и вновь обретенных ценностей. Он прибегает к излюбленному гоголевскому приему построения театрального пространства. Жизнь в городе сравнивается с представлением в балагане, и третейский суд между Драбэ и Кофиным, выросший из анекдотической ситуации, лишний раз это доказывает. Театрализованное бытовое пространство организует текст как драматическое действие, членясь на монологи, диалоги и полилоги (сама форма повествования превращается в традиционную пьесу с перечнем действующих лиц, ремарками автора, расположением реплик героев). Оно статично, лишено динамики, а его границы напоминают «картоны плохого художника», будучи на первый взгляд, с точки зрения автора, непроницаемыми. Должна произойти «смена декораций». Бытовое обыденное пространство — это результат неосуществленного волшебного, сказочного. Не случайно имя земского начальника Кофина Лазарь Иванович постоянно обыгрывается: его все называют Ерусланом Лазаревичем как сказочного персонажа. Двойственность образа героя связана с изображением жизни провинциального города как бесовства, и разговоры «по душам о задачах интеллигенции» скрывают никчемность и бессмысленность ее существования. Эта жизнь полнится слухами о бесчисленных любовных похождениях Драбэ, и любовь, потерявшая свою изначальную чистоту, силу и искренность, — это, по мнению Пильняка, последняя степень умерщвления человеческой души.
Оппозиция прошлое/настоящее в пространстве города воспринимается писателем как соотношение разных моделей мира. Прошлое связывается с нравственно-этическими установками православия. Пильняк использует традиционное в русской литературе противопоставление земли и неба, «тленного», быстротечного, и «нетленного», вечного. Поэтому пространственное перемещение приобрело нравственный оттенок, а движение выстроилось «по вертикальной шкале религиозно-нравственных ценностей». В рассказе автор, используя эту схему, переосмысливает ее содержание. Пространство прошлого как обветшалые декорации сворачивается, уступая место пространству будущего: церковь как знак первого поглощается разбушевавшейся стихией, являющейся знаком второго. Между ними колеблющаяся граница — настоящее.
Настоящее города — это путь осмысления прошлого и поиск новой веры в процессе преодоления духовной несвободы. Пространство настоящего писатель не случайно связывает с образом бани, в сложную структуру которого входит и негативный смысл. Симптоматично ее расположение в городе: на задворках Спасской церкви, недалеко от кремлевской стены. Промежуточное положение бани соответствует преходящему моменту настоящего: герой стремится проникнуть в тайну исторического прогресса и найти слово, чтобы «мир поставить иначе». Баня в языческой модели мира представляла собой своеобразное явление. В ней не вешали икон, а если шли мыться, снимали нательный крест. Она, по словам С.А. Токарева, «излюбленное место для нечистой силы, о проделках которой ходили страшные рассказы». Писатель, серьезно интересовавшийся языческой культурой русского народа, внес в традиционный мотив свои «уточнения»; в контексте произведения баня превратилась в место «выпадения» героя из событий настоящего. Для того чтобы разобраться в происходящем, дьякон перебирает прошлое: и свою собственную жизнь, и историю города, и развитие всего человечества. Он становится летописцем новой эпохи (вся предыдущая история города (государства) помещается в тетрадь за 40 копеек: она спрессовывается под давлением настоящего, чтобы в очередной раз начаться с чистого листа).
Революция для Пильняка явилась «восстановлением истинно национальных основ русского духа» и возвращением России в допетровский XVII век, когда жизнь опиралась на национальные устои русского народа. И в облике дьякона автор подчеркивает еще один важный оттенок смысла: он называет героя «ведьмедем», а, как известно, медведь считался у славян магическим животным, и почтение, которое ему оказывалось вплоть до XX столетия, восходило «к ранним языческим представлениям о медведе-прародителе, тотеме, к вере в его прямую связь с плодородием, здоровьем, благополучием». Образ дьякона становился обобщенным символом русского народа, а баня — символом настоящего. «Революция-метель» пробуждала в человеке природное жизнелюбие. И слово, наконец-то найденное героем, «озорство», знаменовало собой важный этап в осознании происходящего и смещало акценты во временном соотношении: настоящее, как и прошлое, оказывалось преодоленным, и наступало будущее — сказка, становящаяся реальностью; еще один постоянный лейтмотив творчества Пильняка 20-х годов: «Не расскажешь всего о том, как ожили сказки, приметы, поверья».
Выход персонажа из бани с возгласом «Желаю записаться в Российскую Коммунистическую партию большевиков» — кульминационный момент повествования, пространство становится единым и единственным и уничтожает существующие границы. Храм природы символизирует обретенную свободу. Метель творит новое пространство будущего, которое возвращает явлениям их изначальный смысл.
Для писателя, по словам И. Шайтанова, «природное и историческое — две родственные стихии, равно реальные, но одна — история — воплощает изменчивость, другая — природа — жизненную повторяемость». Природное в рассказе получает приоритетное значение, знаменуя языческую душу русского народа. Будущее, соединяя «метельные» вариации, меняет и соотношение внутреннего и внешнего пространства, стихия успокоилась, приведя с собой новых героев-болыпевиков: «Снег лежит покорно, там за окнами была метель, — по городу идет буденный советский день». Дом обретает свое исконное предназначение: он становится теплым и уютным, в нем легко и счастливо живется.
Название рассказа, став главным структурообразующим элементом, претерпевает важную смысловую переакцентировку: от метели — символа революции до метели — воплощения радостного жизнеутверждающего языческого начала.
Название, таким образом, делается словом-понятием, смысловой доминантой, определяющей эволюцию пространственно-временного континуума.
Л-ра: Вестник СПбГУ. – Серия 2. – 1994. – № 3. – С. 94-96.
Произведения
Критика