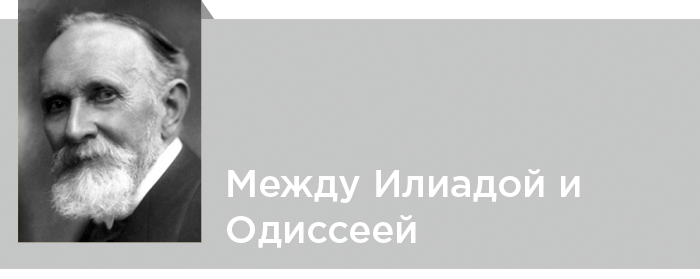Анатолий Луначарский о Карле Шпиттелере

Впервые напечатано в газете «День», 1916, № 261, 22 сентября. Печатается по тексту сборника «Этюды критические».
С большим удовольствием прочел я газетный фельетон доктора Койгена о великом швейцарском поэте Карле Шпиттелере.1 Эта, если не ошибаюсь, первая русская статья о нем застала меня в разгаре моих работ по Шпиттелеру. Я готовлю сейчас книгу о нем в связи с двумя другими, покойными уже, плохо в России известными, но общепризнанными в Германии, первоклассными швейцарскими писателями Г. Келлером и К.–Ф. Мейером.2 Я перевел во фрагментах почти четвертую часть его огромного и величественно–прекрасного эпоса «Олимпийская весна», целый ряд его лирических произведений и работаю сейчас над переводом совершенно исключительного по глубине и ни с чем не сравнимого по оригинальности романа «Имаго».3 Все это войдет в «Избранные сочинения Карла Шпиттелера», к изданию которых я надеюсь приступить в самом недалеком будущем.*
* К сожалению, план остался невыполненным. [Примечание 1924 г.]
Во время моего почти десятилетнего пребывания за границей 4 мне посчастливилось сделать для себя и, может быть, отчасти для других несколько радостных литературных открытий. Такими были для меня Сем Бенелли, Шарль–Луи Филипп, Ромен Роллан, ко времени моего знакомства с его произведениями относительно весьма мало известный. Но я должен сказать, что ни одно из них не вызвало у меня такого чувства глубочайшего восторга, как открытие Карла Шпиттелера.
Как произошло оно для меня? Конечно, имя этого поэта я встречал в историях новейшей литературы немецкого языка, но оно упоминалось всегда хотя и с похвалой, но так, что особого стимула к немедленному знакомству с его произведениями отсюда не получалось.
В первое свидание мое с Роменом Ролланом 5 я указал ему на благородную, истинно европейскую, в самом лучшем смысле, позицию, которую занял Шпиттелер по отношению к войне. Роллан восхищался ею и спросил меня, достаточно ли я знаком с произведениями Шпиттелера. На мой ответ, что я с ним знаком лишь понаслышке, он сказал: «Это стыдно для человека, владеющего немецким языком. Это поэт величественный и прекрасный, как Альпы».
Такое мнение высокоуважаемого мною писателя заставило меня немедленно приступить к изучению произведений швейцарского поэта.
И это было очарование. С трудом могу я отыскать в моих воспоминаниях какой–нибудь параллельный факт, такое же ощущение восторга и счастья при чтении других каких–либо поэтических произведений.
Для меня стало ясным сразу, что здесь нельзя ограничиться каким–нибудь этюдом о поэте, что надо постараться завоевать его творения для русской литературы. И вот уже восемь месяцев, отложив все остальные работы, я отдаюсь этому делу.
Литературная биография Шпиттелера в ее важнейших моментах в высшей степени поучительна и знаменательна для нашего времени.
Уже с ранней молодости Шпиттелер ярко выделялся в среде окружающих. На школьной скамье другом его стал на три года старший его Виктор Видман. Этот блестяще одаренный человек еще в юности завоевал громкое имя, но в то время, как пьесы его ставились серьезными театрами, а книги выходили повторными изданиями, — он писал ровно ничего еще не опубликовавшему Шпиттелеру письма, полные поистине благоговейной любви. Но не на одного, навеки оставшегося верным Шпиттелеру, Видмана юный будущий поэт производил столь сильное впечатление. Их общим учителем был знаменитый Яков Буркхардт, имевший столь широкое влияние на европейскую литературу вообще. Вот какой отзыв дает этот замечательный учитель Ницше о восемнадцатилетнем Шпиттелере после первого близкого знакомства с ним: «Я думаю, что таков должен был быть Магомет Гёте, если бы соответственная драма была написана». А как известно, в этом едва начатом произведении, планы которого, однако, известны, Гёте хотел дать образ гениального пророка. Нечто пророческое действительно отмечали в молодом Шпиттелере. Когда позднее Видман сошелся с Брамсом, он писал своему другу: «Вы похожи друг на друга. Я долго думал, что, собственно, в вас общего. Теперь понимаю: вы оба олимпийцы. Но в тебе больше силы».
Между тем «олимпиец и пророк» ничего не пишет. Он отправляется в Россию на урок в какую–то аристократическую семью и проводит там восемь долгих лет.6 Полный веры, ждет Видман первого откровения своего кумира. Между тем Шпиттелер, не записывая ни одной строки, носит в своей голове целый мир эпосов, центральное, ближайшее место среди которых занимает план притчи «Прометей и Эпиметей». Десятки вариаций на эту тему создаются им. Видман опасно заболевает и пишет полное раздирающей грусти письмо о том, что ему, очевидно, суждено умереть, не увидав первенца своего гениального друга.7
Тогда ужаснувшийся такой перспективы Шпиттелер останавливается на одном из вариантов и записывает его, работая днем и ночью.8
С восторгом и, можно сказать, коленопреклоненно встретил Видман эту поэму в ритмической прозе, полную несказанной глубины и оригинальности. Исключительные достоинства произведения были поняты всеми великими людьми, до которых дошла случайно эта книга. Упивался ею Брамс, с уважением отзывался о ней престарелый Конрад Мейер. Ницше, несомненно, испытал на себе сильное влияние этой книги; наконец, Келлер в частном письме к Видману, которое гордый Шпиттелер позволил опубликовать только лишь спустя много лет, говорит о поэте и его произведении:
«Когда читаешь это темное, но с начала до конца переполненное красотой произведение, то кажется, будто из глубины времен вновь выступил один из тех великих певцов зари человечества, который творил для него мифы и создавал для него богов, и при этом этот доисторически свежий поэт является в то же время самым подлинным нашим современником».9
«Однако, — писал позднее с горечью Шпиттелер, — какая польза была мне в этих похвалах, если ни одна из них не проникла в печать».
Бурный отзыв Видмана, так сказать, замер на границе Швейцарии,10 а в остальном критика, словно сговорившись, абсолютно и смертельно замолчала новое произведение.
Лишь через двадцать пять лет, после рождения младшей сестры «Прометея» — «Олимпийской весны»,11 люди опомнились, «Прометей» был вновь найден и издан, вокруг него создалась целая литература и целая община верных.
Но в то время — гробовое молчание критики убило все надежды молодого эпика. Он–то думал, что человечество с радостью примет его откровение и даст ему возможность посвятить жизнь полному служению Каллиопе.* Он–то думал, что теперь отворятся все родники в его творческой груди, и он выполнит наконец свой гордый замысел в большой поэме, посвященной Гераклу, — дать образ человека–победителя на фоне ужаса механической природы, бесчеловечного автоматизма вселенной.
* Каллиопа — муза эпической поэзии (греч. миф.). — Ред.
Неуспех лишил Шпиттелера всех возможных издателей. Пришлось зарабатывать насущный хлеб учительством, а в у рывках свободного времени «упражняться на немом рояле».
Не надо думать, однако, что в течение двадцати лет, пролегающих между опубликованием «Прометея» и возвращением поэта к широким эпическим задачам, он играл только на немом рояле. Наоборот, те короткие космические поэмы, те лирические стихотворения, те яркие прозаические произведения, которые Шпиттелеру удалось опубликовать за это время, сами по себе были достаточны, чтобы оправдать славу иного какого–нибудь писателя. Но для Шпиттелера все это были мелочи, все это было не настоящее.
В 1901 году, благодаря обстоятельствам, к стыду нашей цивилизации, ничего общего не имеющим с литературой и публикой, Шпиттелер становится наконец сравнительно обеспеченным человеком,12 освобождается от педагогической лямки и получает возможность целиком отдаться любимой поэзии, но ему уже пятьдесят пять лет, и в первое время ему кажется, что молодые годы ушли безвозвратно.
«Если я взялся, — пишет он, — за выполнение широкого плана «Олимпийской весны», то потому, что хотел поставить памятник поэту Феликсу Тандэму (псевдоним, под которым был опубликован «Прометей») и доказать отвергнувшему его миру, что он все же был способен на многое».13
Но, соприкоснувшись с миром своей необъятной эпической фантазии, Шпиттелер обрел вновь всю мощную окрыленность своего духа.
Впрочем, несмотря на признаваемые теперь всеми исключительные красоты этого блестящего красками, таящего в себе целую великую этику произведения, граничащего с другими царями поэзии, с одной стороны, Гомером и Ариосто, с другой стороны, Данте, — оно рисковало бы также остаться относительно незамеченным, если бы не довольно неожиданный в мире искусств случай.
Прославленный музыкант, величайший капельмейстер нашего времени — Феликс Вейнгартнер случайно прочитывает поэму. Он ошеломлен и влюблен. Он знакомится со всеми произведениями Шпиттелера и разражается блестящей книжкой, настоящим дифирамбом великому поэту, настоящей грозой над непониманием критиков.14
«С какой стати музыкант пишет о поэзии? — спросите вы. — Если происходит такой ужас, что в области литературы существует великий, которому уже шестьдесят лет, который подарил миру ряд несравненных произведений и остается неизвестным, — не удивляйтесь, если бунт происходит в соседнем царстве музыки, если оттуда указывают вам на отвергаемые вами великие ценности».
После этого голоса нельзя было молчать. Слава Шпиттелера, еще увеличенная выходом в свет теперь знаменитого романа «Имаго»,15 стала быстро расти. Появляется ряд сочинений, посвященных поэту, о нем восторженно пишут Мейснер, Френкель, Гофман, Штегеман, Фези и другие.16
Но тут новый факт наносит удар молодой славе уже старого поэта, по крайней мере, в Германии. Его изданный на трех швейцарских языках, а ранее прочитанный в торжественной форме реферат: «Наша швейцарская точка зрения»17 — вызывает там взрыв вражды.
Этот высокий акт гражданского мужества и прекрасный документ поэтической публицистики погладил очень против шерсти империализм вообще, германский в особенности. В Германии Шпиттелер был объявлен отщепенцем, изменником. Правда, зато обратили на него внимание во Франции, и среди французов нашлись люди, для которых поэзия Шпиттелера была такой же осчастливливающей находкой, как для пишущего эти строки.
В этой статье я намеревался только, в дополнение к данным статьи доктора Койгена, дать некоторый очерк судьбы Шпиттелера. Прибавлю к этому лишь несколько общих замечаний о смысле его поэзии.
Я не совсем согласен с доктором Койгеном, когда он говорит о «безысходном пессимизме» Шпиттелера, хотя в этом утверждении он не является одиноким. Более прав Герберт Штегеман, а вместе с ним Мейснер и некоторые другие, указывающие, что сурово–пессимистическая оценка вселенной как раздавливающего, бездушного механизма, в который парадоксально брошены чувствующие организмы, побеждена у Шпиттелера красотой и любовью. Созерцание этого мира, внутренне ужасного, но внешне прекрасного, творчество новых миров, прекрасных насквозь, и в особенности подвиг героической души, преисполненной дарящей добродетелью, не могущей не любить в силу самой величественности своей, в силу широты и интенсивности своей жизни, — вот те просветы, на которые указывает Шпиттелер и при наличности которых миросозерцание не может быть названо безысходно пессимистическим, ни даже вообще пессимистическим, ибо в этом термине уже таится превосходная степень, а скорее — трагическим.
Штегеман идет дальше и утверждает, что в Шпиттелере мы имеем поэта и этика, который синтезирует индивидуализм и социализм. Этот синтез получается именно в добровольном, естественном служении общечеловеческой задаче со стороны личности, по всем инстинктам своим не могущей иначе, подобно солнцу светящей, с полной непосредственностью ненавидящей зло, являющейся альтруистической в силу одного лишь стремления быть верной себе самой, своей душе, своему внутреннему единоличному долгу. Эта идея лишь брошена Штегеманом и может быть весьма интересно разработана на примерах шпиттелеровских Созданий. Штегеман полагает, что то, о чем теоретически провозвещал Ницше, то, к чему он подходил — образ сверхчеловека в его светлом ореоле свободного служения культурному росту человечества, — со всей конкретностью художественного воплощения дано нам Шпиттелером в его Прометее и Геракле, в его Аполлоне, Гермесе и Зевсе.18
«Для меня несомненно, — говорит тот же критик, — что Шпиттелеру суждено все более становиться средоточием интересов прикосновенных к литературе и этике кругов современного человечества».
Для меня это тоже несомненно. Много хочется, можно и должно сказать о швейцарском великане, и в свое время это будет сказано.
1 Имеется в виду статья Д. Койгена «Поэт исключительного призвания», напечатанная в газете «День», 1916, № 215, 7 августа.
2 Эта работа Луначарского, очевидно, не была завершена, следы ее в архивах не сохранились. Сам Луначарский пишет о ней в предисловии к сборнику «Этюды критические»:
«Хотя обстоятельства не дали мне возможности закончить мою работу о нем (Шпиттелере. — Ред.), которой я отдал восемь месяцев труда, но я отнюдь не отказался от этой мысли, и возможно, что я издам те многочисленные его стихотворения и фрагменты больших поэм, которые я перевел в 1916 году в Сен–Лежье, на Женевском озере. Созвучие Шпиттелера, настроенного несколько аристократически, а сейчас даже почти реакционно, с нашими днями не всякому дается, хотя оно, несомненно, существует, ибо Шпиттелер — самый героический и, я бы сказал, героическо–трагический из нынешних поэтов»
(«Этюды критические», стр. 10).
3 Перевод «Олимпийской весны» не был издан и хранится в машинописном виде в ЦПА Института марксизма–ленинизма при ЦК КПСС (ф. 142, оп. I, ед. хр. 280 и 281). Перевод романа «Имаго» не сохранился. При жизни Луначарского был опубликован лишь его перевод стихотворения Шпиттелера «Колокольные девы» («Пламя», 27 октября 1918 г.).
4 После поражения первой русской революции Луначарский вынужден был эмигрировать за границу; он жил в Италии, Франции, Швейцарии и вернулся в Россию только в мае 1917 года.
5 Состоялось в марте 1915 года; о нем рассказано в статье Луначарского «У Ромена Роллана», напечатанной в газете «Киевская мысль», 1915, № 72, 13 марта; № 73, 14 марта (см. примеч. к статье «Ромен Роллан (к шестидесятилетию)»).
6 Шпиттелер жил в России с 1871 по 1879 год.
7 См. Carl Spitteier, Autobiographische Schriften, Artemis — Verlag, Zürich, 1947, S. 336.
8 «Prometheus und Epimetheus» (1881).
9 Письмо из Цюриха 27 января 1881 года (см. G. Keller und J. V. Widmаnn, Briefwechsel, Rhein — Verlag, Basel, 1922).
10 См. Carl Spitteler, Autobiographische Schriften, S. 481.
11 «Olympischer Frühling» (1901—1904).
12 Имеется в виду получение Шпиттелером наследства (в 1892 г.),
13 См. Carl Spitteier, Autobiographische Schriften, S. 488.
14 Имеется в виду книга: «Carl Spitteier, Ein künstlerisches Erlebnis von Felix Weingartner», bei Georg Müller. München und Leipzig, 1904. Ниже Луначарский свободно пересказывает Вейнгартнера (стр. 3).
15 «Imago» (1906).
16 См.:
- Carl Meißner, Carl Spitteier. Zur Einfühlung in sein Schaffen, Verlegt bei Eugen Diederichs in Jena, 1912;
- Herrnann Hofmann, Carl Spitteier, Magdeburg, 1912;
- Hermann Stegemann, Carl Spitteier zu seinem Geburtstag am 24. April — «Deutsche Zeitung», 24/IV 1912 г.;
- Jonas Frankel, Rede über Spitteier, A. Frankes Verlag, Bern, 1915;
- Robert Faesi, Carl Spitteier. Eine Darstellung seiner dichterischen Persönlichkeit, Zürich, 1915.
17 14 декабря 1914 года в Цюрихе.
18 Персонажи произведений Шпиттелера «Прометей и Эпиметей» и «Олимпийская весна».