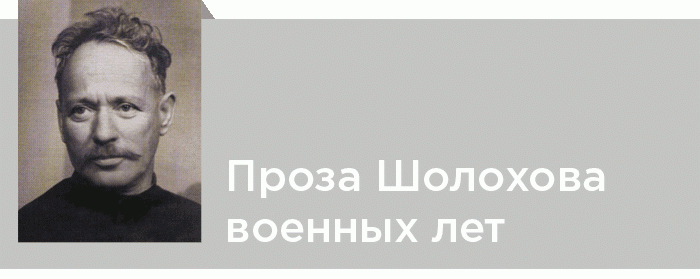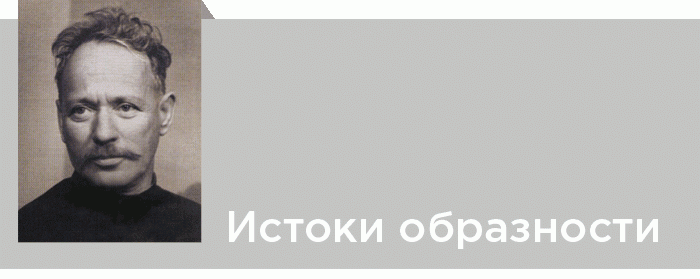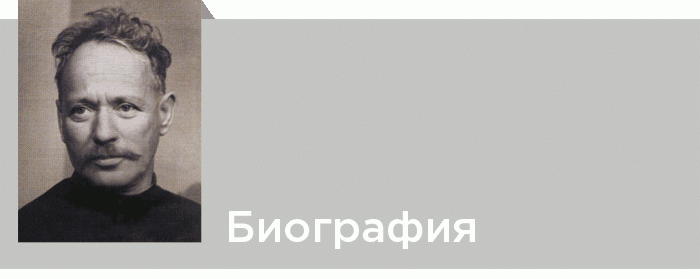Человечен, как сам народ (Михаилу Шолохову — 75 лет)
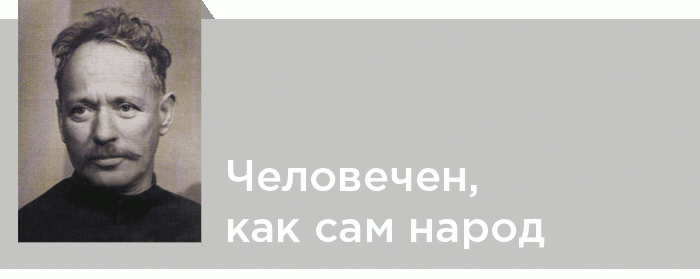
Василий Литвинов
Когда в «Тихом Доне» мы читаем, что курень Мелеховых стоял на окраине хутора, это звучит по-своему символически: далекой окраиной представлялся в свое время российскому читателю Донской край, а где-то в том краю — глухой хутор Татарский, и вот в крайнем курене, на последней улочке...
И Гремячий Лог в «Поднятой целине» таков. Двадцатипятитысячника Давыдова в райкоме предупреждают: туда и телефонной связи нет, и народ темный, даже самые передовые — все равно «политически малограмотны».
Героем «Судьбы человека», рассказа со столь многозначительным названием, взят простой «шоферюга», предстающий перед нами в прожженном ватнике и донельзя заношенных кирзовых сапогах, сгорбленный, с большими темными руками и глазами, словно присыпанными пеплом. Потерпев неудачу на машине, уволенный с работы и лишенный шоферский прав, Андрей Соколов собирается устроиться в плотницкую бригаду... Таков он в момент знакомства. А дальше пойдет действительно Судьба Человека — оба слова с большой буквы.
В воображаемой пирамиде общества этот человек может быть в самом низу, самая его первичная социальная структура. А у Шолохова он — самый главный. Он стал героем эпического полотна, высокой трагедии, которая, казалось, от века предназначена для Гамлета, для байроновского Каина, на худой конец для студента Раскольникова... Это все равно, если бы, скажем, короля Лира поменять местами с одним из его лучников, безымянно толпящихся на заднем плане.
Но у Шолохова Григорий Мелехов, Аксинья и старая Ильинична, Наталья и Бунчук, Подтелков — каждый из них и впрямь наделен трагедийной судьбой. И сила их страстей не уступает шекспировским героям!
Революция в субъективном восприятии Григория Мелехова. Коллективизация, как она увиделась Майданникову, Разметнову, деду Щукарю. Великая война с гитлеровцами — глазами комбайнера Звягинцева...
В этом, и прежде всего в этом — реальность шолоховского гуманизма, являющегося перед нами как главная черта его замечательного творчества.
Приходилось встречаться с мнением, что понятие гуманизма — «из другого ряда, не эстетического, но эмоционально-идейного» («Вопросы литературы», 1976, № 12, с. 135-136).
Михаил Шолохов — один из тех художников, чьи книги явственно свидетельствуют: нет, и гуманистическое — тоже «из эстетического ряда»! Не просто широко разлитая в повествовании эманация, но такая художественная определенность, когда и пейзаж, и портрет, и деталь, и метафора, и диалог, не говоря уже о психологическом анализе, об изображении характера героя, — все так или иначе отражает гуманистический идеал художника. В этом случае любая художественная подробность никогда не бывает нейтральной в отношении того, что автор любит и что ненавидит.
Сам дар этого художника таков. Что бы он ни изображал, какие бы дали ни охватывал — даже если это великая революция или перестройка деревни в масштабах державы, — все равно в центре изображаемого у него в любом случае будет стоять человек, земной и грешный и всем своим существом «отсчитывающий» этапы общего движения.
И потому, что для Шолохова во всех случаях особенно важен и интересен мир человека, его правда о нем, вчерашнем или сегодняшнем, всегда современна, прямо связана с тревогами и раздумьями наших дней.
Трагедийная основа многих выведенных в книгах Шолохова коллизий предполагает душевное сострадание к герою и веру в него. С книгами Шолохова читатель становится мудрее, убежденней в правоте жизни и назначении человека. Ему открываются решающие закономерности времени.
Именно эту особенность, несомненно, имел в виду непременный секретарь Шведской академии по литературе доктор К.Р. Гиров, который говорил на торжествах, посвященных вручению М.А. Шолохову Нобелевской премии: «Ваше грандиозное повествование о старом режиме, отчаянно отстаивавшем свои пошатнувшиеся позиции, и о новом режиме, так же отчаянно сражающемся за каждую пропитанную кровью пядь земли, все время ставит вопрос: что правит миром? Оно дает и ответ: сердце. Сердце человека, с его любовью и жестокостью, горем, надеждами, отчаянием, унижением и гордостью. Сердце человека, являющееся истинным полем битвы всех побед и поражений, которые выпадают на долю нашего мира. Таким образом, ваше искусство перешагивает все рубежи, и мы принимаем его к нашему сердцу с глубокой благодарностью...»
Всем своим существом шолоховское творчество противостоит такому в искусстве, когда великое чудо художественности используется для унижения человеческого в человеке, для утверждения кризиса личности, катастрофической разобщенности людей, когда, во всем видя лишь дисгармонию чувства и сознания, сводят психологическое до мистики иррационального.
Не без горечи Шолохов заметил однажды: «Гуманизм, любовь к человеку, к человечеству... Как по-разному склонны разные люди толковать это понятие, применительно к тому, какие силы человеческого общества они представляют!»
Шолоховская статья 1966 года, из которой цитируются эти строки, называлась «Гуманист тот, кто борется». Симптоматичное заглавие, особенно если помнить, что оно выведено рукой, написавшей «Тихий Дон», «Судьбу человека».
И подлинно, в большой мировой литературе каких только «модификаций» этого понятия нам не встречалось — от домашне-умильного (пусть себе прыгает всякая божья тварь!) до абстрактно-холодного, заоблачного, когда человек есть всего лишь удобный повод для воздвижения философских эмпирей...
А в шолоховских книгах гуманизм реальный, словно отряхнувший с себя путы бесчисленных рrо и contra, поставивший вопрос ребром: что все это для человека? Гуманизм, который не есть просто добродушное сочувствие, но классовая страстность, целеустремленность: надо сделать все возможное, чтобы помочь человеку на земле стать уверенней в своих правах, с большим достоинством нести голову, дышать вольней, жить лучше! Помочь сегодня, сейчас, не откладывая ни на час в этой предельно напряженной мировой атмосфере. Помочь практически, на деле. Именно этому. Именно в этом...
Гуманизм на деле, чурающийся всяких праздных разговоров о «венце создания», но зато всегда бдительно неуступчивый ко всему, что принижает человеческую личность, сковывает волю, грабит душу. Гуманизм, испытывающий искреннее горе при виде человеческих утрат, несвершенностей, самоотступничества... Уже самое сострадание к людям, по-шолоховски, должно нести в себе залог ясного представления о том, как же быть человеку, что делать дальше.
Видимо, в искусстве нужно быть и впрямь гением, чтобы писать картину огромного леса и при этом видеть в нем каждую живую, трепещущую ветвь. Видеть, что если новое рождается в муках, то это не «вообще» муки, а терзания именно этих людей, — непременно надо услышать их! Такой это гуманизм.
Подтверждение мысли о том, что у Шолохова гуманистическая идея, человеколюбие «материализуется» непосредственно в эстетически-изобразительном, в пластике, в самой художественной ткани произведения, находишь в таких глобальных понятиях, как общий замысел, план произведения, его идейно-содержательный пафос — будь то общая коллизия рассказа «Судьба человека» или же «Тихого Дона», этой гениальной истории о человеке-правдоискателе, заблуждениях личности, гордой и честной, о человеческой трагедии неправого казачьего мятежа в заревом мире революции, в мире народной жизни.
Человечность художника — и в искреннем понимании всей сложности душевной жизни, в безбоязненной откровенности сюжетов, тех ситуаций, что привлекают особое внимание автора. Они словно говорят нам: внутренняя жизнь человека, личности неповторимой и заключающей в себе целый мир, эта жизнь не может быть объяснена только одной социально-исторической детерминированностью, — душа человеческая живет еще и по своим законам, порой ошеломляюще «нелогичным». Вспомним, как гордая Аксинья отдается слизняку Листницкому; какое безумие овладевает Подтелковым, когда он бросается на пленного белого офицера; как вдруг в кулаке Островнове, изувере и человеконенавистнике, в какой-то момент вспыхивает энтузиазм, хлеборобский интерес к колхозному делу; каким чарующе светлым может показаться окружающий мир, даже если глядеть на него глазами изуродованной жизнью Дарьи Мелеховой за час до ее самоубийства...
Не говорю уже об образах Григория или Аксиньи, так по-своему, вопреки всем жизненным «слагаемым», распорядившихся своими судьбами. Но сколько удивительного несет в себе даже «частная» история отчаянного казачины Аржанова, поступки которого не распутать, кажется, и бригаде социальных психологов! Или неожиданно раскрывшаяся душа Нагульнова, когда изумленный Разметнов вдруг слышит от него: «Молчи! Я ее все-таки люблю, подлюку...» Или мучительная одиссея Андрея Соколова, которому по всем обстоятельствам сто раз было «положено» сломиться, погибнуть, а он сто раз выжил, одолевая саму смерть...
Жалкие потуги одного из «интерпретаторов» Шолохова, американского литературоведа, преподающего русскую литературу в Гавайском (США) университете и сочинившего книжицу «Мир молодого Шолохова», с беспощадным сарказмом высмеял недавно на страницах журнала «Коммунист» А. Беляев. Глухой ко всему человеческому, заокеанский толкователь книг Шолохова взялся объяснить, «зачем» автору потребовалось касаться тех или иных человеческих чувств и страстей: видите ли, история любви Григория к Аксинье, как ему представляется, «выполняет в романе ту же функцию, что и лирические отступления автора, а именно: сбалансировать военный и исторические факторы»: сердечное же влечение Дуняшки Мелеховой к большевику Михаилу Кошевому, все драматическое и бередящее душу, что происходило между этими людьми, так искренне любящими друг друга, литературовед-«советолог» объясняет и того проще: «Шолохов понимал, что только человек, подобный Мишке, мог восстановить и продолжить традиции разрушенной семьи Мелеховых. Следовательно, необходимо было ввести Мишку в дом Мелеховых...». Со всей откровенностью говорит А. Беляев в адрес иных любителей вымерять человеческое, сложное и трепетное линейкой социологического штукарства в искусстве: «Вероятно, таким методом автор и решает арифметические задачки, но применять подобную методологию к анализу художественного произведения не только непозволительно, но и кощунственно».
Продолжая свою мысль, хочу сказать, что наряду с такими понятиями, как идея произведения, судьбы героев и их характеры, изображение связей человека с обществом, с движением истории, «материализацию» гуманистического чувства в произведениях Шолохова можно наблюдать и в самом первичном, на «молекулярном уровне»: в частной детали, эпизоде, слове и поступке героя.
Приведу один только пример —из «Судьбы человека».
Мелькает в рассказе фигура медика, военного врача, — мы и имени-то его не знаем, не до имен тогда было Андрею Соколову... Когда он вместе с другими красноармейцами оказывается в гитлеровском плену, их всех на ночь загоняют в церковь, приспособленную под тюрьму. Людей набито битком, ад кромешный. И среди этого человеческого месива, во тьме, то тут, то там возникает силуэт медика, тоже военнопленного, старающегося хоть чем-нибудь облегчить людские страдания.
Недаром и через много лет в своей «исповеди» у речного переезда Андрей Соколов именно его вспомнит из всех тысяч, встреченных на войне. Безымянный медик вправил Соколову вывихнутую руку, и уже одно это дорого стоило в той обстановке, где гитлеровцы без малейшего милосердия добивали всех хворых и ослабших.
Но короткий, такой человечнейший контакт с этим медиком для Соколова значил и того больше: глядя на него, Андрей впервые после пленения, кроме своей чудовищной беды, подумал о людях, о человеческом, не погибшем, хоть весь свет, казалось, летел в тартарары: «Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потемках свое великое дело делал...»
Не с того ли момента и начинается для Андрея Соколова отсчет его собственных человечных поступков в фашистском плену? Доктор ему руку вправил, а он этой самой рукой несколько часов спустя, на рассвете, в церкви совершил свой первый в новых обстоятельствах подвиг гуманизма: задушил предателя, который намеревался выдать немцам своего взводного...
Можно ли представить «Судьбу человека» без того же безымянного доктора!
Это по-шолоховски смелое, новаторское отношение к старой литературной проблеме, касающейся персонажей «второго плана», «сопутствующих», «оттеняющих», в равной мере отразило в себе как самобытность замечательного таланта, так и особенность всей атмосферы революции, нашего времени, гуманного советского образа жизни.
Особенность атмосферы, в которой человеколюбие требует предельной искренности, полноты, правдивости!
Человек со всем своим человеческим...
И больше того, Шолохов говорит, что для него самое дорогое — показать «очарование человека»...
Григорий Мелехов, битый-перебитый, загнанный жизнью в угол, все равно сохраняет в себе человеческое до конца. Как сохраняют в своих немилосердных ситуациях Андрей Соколов, или Бунчук, или Разметнов, смолоду преследуемый бедами. У таких беды только отчетливей высвечивают неистребимость жизненных основ. Да и не только у них — Шолохов способен разглядеть трепетно-человеческое даже сквозь коросту уродующих напластований, даже в Дарье Мелеховой или том вознице, что исповедуется Давыдову в давнем убийстве.
В художественной сфере гуманизм такого рода, естественно, не мог. не искать своего воплощения прежде всего в душевном мире реальной, резко очерченной индивидуальности. Здесь он только и мог обрести себе «форму» всего полнее и отчетливей.
Ничего нет на земле конкретнее человека — и гуманистическая идея, преломляясь во многих и разных характерах, таким образом действительно становится на землю, превращаясь в критерий всеобщий, на всех распространяющийся. «Что дает нам Шолохов? — словно от имени всего читающего мира спрашивает Жан Катала и отвечает: — Он пробуждает скрытый в наших душах огонь, приобщая к великой доброте, борьбе, великому милосердию и великой человечности русского народа. Он принадлежит к числу тех людей, чье искусство помогает каждому стать более человечным».
Истинный гуманизм не может оставаться равнодушным к вопросу, с кем данный герой в данной ситуации. Тогда-то и становится ясно, что трудовое казачество, люди, подобные Григорию Мелехову, даже когда они бедственно запутываются в сложных жизненных обстоятельствах, все равно по своей человечески «исходной» первооснове не могут быть врагами революции, противниками идеи о счастливых людях на счастливой земле.
Шолоховский гуманизм органично соединил в себе широкую демократичность со страстной революционной устремленностью. Целеустремленность Шолохов трезво поверяет реальным человеческим бытием, сообразует высокий порыв с конкретно-историческими возможностями и неумолимой социальной необходимостью. А это особенно важно, когда речь идет о гуманистических воззрениях, которые касаются тысяч и тысяч, каждый из которых — человек. Поистине, когда дума о тысячах, когда человеколюбие в отношении целого народа, необходим гуманизм особого рода...
На страницах шолоховских романов он реализуется в мире чувств и мыслей героев, становясь чьей-то жизнью, смыслом чьего-то реального существования, в человеке «проверяя» себя и находя свою высокую правоту. Гуманизм дал художественному началу большую и благородную цель, дал чувство истинной свободы и самостоятельности, настоящей творческой воли, идущей от тех священных заповедей гуманизма, которые утверждают, что человек рождается свободным, что истинную свободу мир может обрести лишь тогда, когда распрямит плечи самый малый, самый последний на земле.
Л-ра: Октябрь. – 1980. – № 5. – С. 211-214.
Произведения
Критика