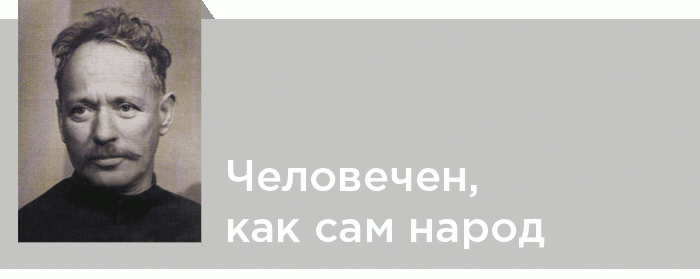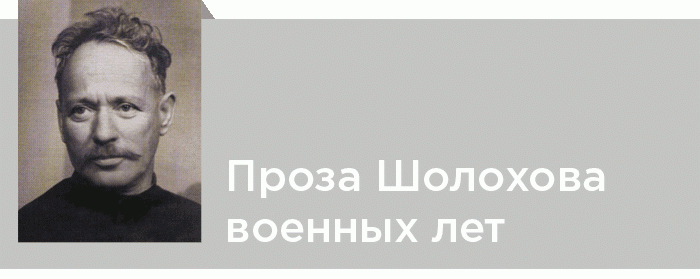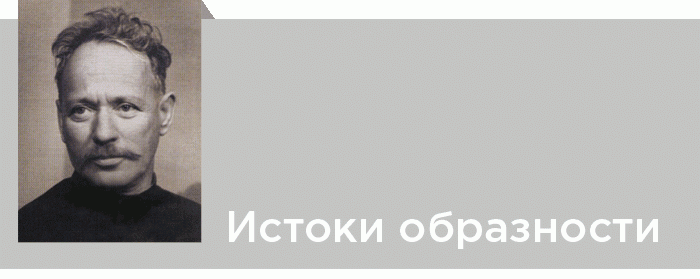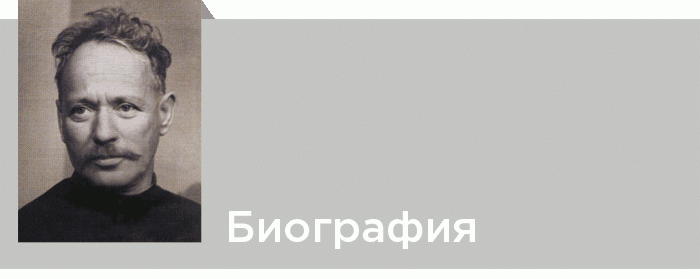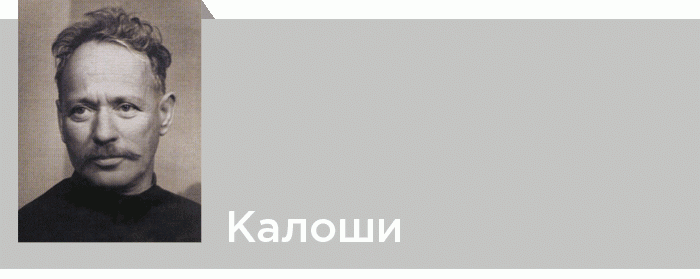Михаил Шолохов. Нахалёнок

(Отрывок)
Снится Мишке, будто дед срезал в саду здоровенную вишневую хворостину, идет к нему, хворостиной машет, а сам строго так говорит:
— А ну, иди сюда, Михайло Фомич, я те полохану по тем местам, откель ноги растут!..
— За что, дедуня? — спрашивает Мишка.
— А за то, что ты в курятнике из гнезда чубатой курицы все яйца покрал и на каруселю отнес, прокатал!..
— Дедуня, я нонешний год не катался на каруселях! — в страхе кричит Мишка.
Но дед степенно разгладил бороду да как топнет ногой:
— Ложись, постреленыш, и спущай портки!..
Вскрикнул Мишка и проснулся. Сердце бьется, словно в самом деле хворостины отпробовал. Чуточку открыл левый глаз — в хате светло. Утренняя зорька теплится за окошком. Приподнял Мишка голову, слышит в сенцах голоса: мамка визжит, лопочет что-то, смехом захлебывается, дед кашляет, а чей-то чужой голос: «Бу-бу-бу».
Протер Мишка глаза и видит: дверь открылась, хлопнула, дед в горницу бежит, подпрыгивает, очки на носу у него болтаются. Мишка сначала подумал, что поп с певчими пришел (на пасху когда приходил он, дед так же суетился), да следом за дедом прет в горницу чужой большущий солдат в черной шинели и в шапке с лентами, но без козырька, а мамка на шее у него висит, воет.
Посреди хаты стряхнул чужой человек мамку с шеи да как гаркнет:
— А где мое потомство?
Мишка струхнул, под одеяло забрался.
— Минюшка, сыночек, что ж ты спишь? Батянька твой со службы пришел! — кричит мамка.
Не успел Мишка глазом моргнуть, как солдат сграбастал его, подкинул под потолок, а потом прижал к груди и ну рыжими усами не на шутку колоть губы, щеки, глаза. Усы в чем-то мокром, соленом. Мишка вырываться, да не тут-то было.
— Вон у меня какой большевик вырос!.. Скоро батьку перерастет!.. Го-го-го!.. — кричит батянька и знай себе пестует Мишку — то на ладонь посадит, вертит, то опять до самой потолочной перекладины подкидывает.
Терпел, терпел Мишка, а потом брови сдвинул по-дедовски, строгость на себя напустил и за отцовы усы ухватился:
— Пусти, батянька!
— Ан вот не пущу!
— Пусти! Я уже большой, а ты меня как детенка нянчишь!..
Посадил отец Мишку к себе на колено, спрашивает, улыбаясь:
— Сколько же тебе лет, пистолет?
— Восьмой идет, — поглядывая исподлобья, буркнул Мишка.
— А помнишь, сынушка, как в позапрошлом годе я тебе пароходы делал? Помнишь, как мы в пруду их пущали?
— Помню!.. — крикнул Мишка и несмело обхватил руками батянькину шею.
Тут и вовсе пошло развеселье: посадил отец Мишку верхом к себе на шею, за ноги держит и по горнице кругом, кругом, а потом как взбрыкнет, как заржет по-лошадиному, у Мишки от восторга аж дух занялся. Мать за рукав его тянет, орет:
— Иди на двор, играйся!.. Иди, говорят тебе! — И отца просит: — Пусти его, Фома Акимыч! Пусти, пожалуйста!.. Не даст он и поглядеть на тебя, сокола ясного. Два года не видались, а ты с ним займаешься!
Ссадил Мишку отец на пол и говорит:
— Беги, с ребятами играйся, опосля придешь, я тебе гостинцев дам.
Притворил Мишка за собой дверь, сначала думал послушать в сенцах, о чем будет разговор в хате, но потом вспомнил: никто еще из ребят не знает, что пришел батянька, — и через двор, по огороду, топча картофельные лунки, пыхнул к пруду.
Выкупался Мишка в вонючей, застоявшейся воде, обвалялся в песке, нырнул в последний раз и, чикиляя на одной ноге, натянул штанишки. Совсем было собрался идти домой, но тут подошел к нему Витька — попов сынок.
— Не уходи, Мишка! Давай искупаемся и пойдем к нам играть. Тебе мамочка разрешила приходить к нам.
Мишка левой рукой поддернул сползающие штанишки, поправил на плече помочь и нехотя сказал:
— Я с тобой не хочу играть. У тебя из ушей воняет дюже!..
Витька ехидно прищурил левый глаз, сказал, стаскивая с костлявых плеч вязаную рубашечку:
— Это от золотухи, а ты — мужик, и тебя мать под забором родила!..
— А ты видал?
— Я слыхал, как наша кухарка рассказывала мамочке.
Мишка разгреб ногой песок и глянул на Витьку сверху вниз:
— Брешет твоя мамочка! Зато мой батянька на войне воевал, а твой — кровожад и чужие пироги трескает!..
— Нахаленок!.. — кривя губы, крикнул попович.
Мишка схватил обточенный водой камешек-голыш, но попович сдержал слезы и очень ласково улыбнулся:
— Ты не дерись, Миша, не сердись! Хочешь, я тебе отдам свой кинжал, какой из железа сделал?
Мишкины глаза блеснули радостью, отшвырнул в сторону голыш, но, вспомнив про отца, сказал гордо:
— Мне батянька получшей твоего с войны принес!
— Вре-ошь? — недоверчиво протянул Витька.
— Сам врешь!.. Раз говорю — принес, значится — принес!.. И заправское ружье…
— Подумаешь, какой ты стал богатый! — завистливо усмехнулся Витька.
— И ишо у него есть шапка, а на шапке висят махры и золотые слова прописаны, как у тебя в книжках.
Витька долго думал, чем бы удивить Мишку, морщил лоб и почесывал бледный живот.
— А мой папочка скоро будет архиреем, а твой был пастухом. Ага, что?..
Мишке надоело стоять, повернулся и пошел к огороду. Попович его окликнул:
— Миша, Миша, я что-то скажу тебе!
— Говори.
— Подойди ко мне!..
Мишка подошел и подозрительно скосился:
— Ну, говори!
Попович заплясал по песку на тоненьких кривых ножках, улыбаясь, злорадно крикнул:
— Твой отец — коммуняка! Вот как только помрешь ты и душа твоя прилетит на небо, а бог и скажет: «За то, что твой отец был коммунистом, — отправляйся в ад!..» И начнут тебя там черти на сковородках поджаривать!..
— А тебя, думаешь, не зачнут поджаривать?
— Мой папочка священник!.. Ты ведь дурак необразованный и ничего не понимаешь…
Мишке стало страшно. Повернулся и молча побежал домой.
У огородного плетня остановился, крикнул, грозя поповичу кулаком:
— Вот спрошу у дедушки. Коли брешешь — не ходи мимо нашего двора!
Перелез через плетень, к дому бежит, а перед глазами сковородка, а на ней его, Мишку, жарят… Горячо сидеть, а кругом сметана кипит и пенится пузырями. По спине мурашки, скорее бы до деда добежать, расспросить…
Как на грех, в калитке свинья застряла. Голова с той стороны, а сама с этой, ногами в землю упирается, хвостом крутит и пронзительно визжит. Мишка — выручать: попробовал калитку открыть — свинья хрипеть начинает. Сел на нее верхом, свинья поднатужилась, вывернула калитку, ухнула и — по двору к гумну вскачь. Мишка пятками в бока ее толкает, мчится 1 так, что ветром волосы назад закидывает. У гумна соскочил — глядь, а дед на крыльце стоит и пальцем манит:
— Подойди ко мне, голубь мой!
Не догадался Мишка, зачем дед кличет, а тут опять про адскую сковородку вспомнил и — рысью к деду:
— Дедуня, дедуня, а на небе черти бывают?
— Я тебе зараз всыплю чертей!.. Поплюю в кой-какие места да хворостиной высушу!.. Ах ты лихоманец вредный, ты на что ж это свинью объезжаешь?..
Сцапал дед Мишку за вихор, зовет из горницы мать:
— Поди на своего умника полюбуйся!
Выскочила мать:
— За что ты его?
— Как же за что? Гляжу, а он по двору на свинье скачет, аж ветер пыльцу схватывает!..
— Это он на супоросой свинье катался? — ахнула мать.
Не успел Мишка рта раскрыть в свое оправдание, как дед снял ремешок, левой рукой портки держит, чтобы не упали, а правой Мишкину голову промеж колен просовывает. Выпорол и при этом очень строго говорил:
— Не езди на свинье!.. Не езди!..
Мишка вздумал было крик поднять, а дед и говорит:
— Значит, ты не жалеешь батяньку? Он с дороги уморился, прилег уснуть, а ты крик подымаешь?
Пришлось замолчать. Попробовал брыкнуть деда ногой — не достал. Подхватила мать Мишку — в хату толкнула:
— Сиди тут… Я до тебя доберусь — не по-дедовски шкуру спущу!..
Дед в кухне на лавке сидит, изредка на Мишкину спину поглядывает.
Повернулся Мишка к деду, размазал кулаком последнюю слезу, сказал, упираясь в дверь задом:
— Ну, дедунюшка… попомни!
— Ты что ж это, поганец, деду грозишь?
Мишка видит, как дед снова расстегивает ремень, и заблаговременно чуточку приоткрывает дверь.
— Значит, ты мне грозишь? — переспрашивает дед.
Мишка вовсе исчезает за дверью. Выглядывая в щелку, пытливо караулит каждое движение деда, потом заявляет:
— Погоди, погоди, дедунюшка!.. Вот выпадут у тебя зубы, а я жевать тебе не буду!.. Хоть не проси тогда!
Дед выходит на крыльцо и видит, как по огороду, по зеленым лохматым коноплям ныряет Мишкина голова, мелькают синие штанишки. Долго грозит ему дед костылем, а у самого в бороде хоронится улыбка.
* * *
Для отца он — Минька. Для матери — Минюшка. Для деда — в ласковую минуту — постреленыш, в остальное время, когда дедовские брови седыми лохмотьями свисают на глаза, — «эй, Михаило Фомич, иди, я тебе уши оболтаю!»
А для всех остальных: для соседок-пересудок, для ребятишек, для всей станицы — Мишка и Нахаленок.
Мишка собой щуплый, волосы у него с весны были как лепестки цветущего подсолнечника, в июне солнце обожгло их жаром, взлохматило пегими вихрами; щеки, точно воробьиное яйцо, исконопатило веснушками, а нос от солнышка и постоянного купания в пруду облупился, потрескался шелухой. Одним хорош колченогенький Мишка — глазами. Из узеньких прорезей высматривают они, голубые и плутовские, похожие на нерастаявшие крупинки речного льда.
Вот за глаза-то да за буйную непоседливость и любит Мишку отец. Со службы принес он сыну в подарок старый-престарый, зачерствевший от времени вяземский пряник и немножко приношенные сапожки. Сапоги мать завернула в полотенце и прибрала в сундук, а пряник Мишка в тот же вечер раскрошил на пороге молотком и съел до последней крошки.
На другой день проснулся Мишка с восходом солнца. Набрал из чугуна пригоршню степлившейся воды, размазал по щекам вчерашнюю грязь, просыхать выбежал на двор.
Мамка возится возле коровы, дед на завалинке посиживает. Подозвал Мишку:
— Скачи, постреленыш, под амбар! Курица там кудахтала, должно, яйцо обронила.
Мишка деду всегда готов услужить: на четвереньках юркнул под амбар, с другой стороны вылез и был таков! По огороду взбрыкивает, бежит к пруду, оглядывается — не смотрит ли дед? Пока добежал до плетня, ноги крапивой обстрекал. А дед ждет, покряхтывает. Не дождался и пополз под амбар. Вымазался куриным пометом, жмурясь от парной темноты и больно стукаясь головой о перекладины, дополз до конца.
— Экий ты дуралей, Мишка, право слово!.. Ищешь, ищешь и не найдешь!.. Разве курица, она будет тут несться? Вот тут, под камешком, и должно быть яйцо. Где ты тут полозишь, постреленыш?
Деду в ответ тишина. Отряхнул с портов прилипшие комочки навоза, вылез из-под амбара. Щурясь, долго глядел на пруд, увидал Мишку и рукой махнул…
Ребята возле пруда окружили Мишку, спрашивают:
— Твой батянька на войне был?
— Был.
— А что он там делал?
— Известно что — воевал!..
— Брешешь!.. Он вшей там убивал и при кухне мослы грыз!..
Захохотали ребята, пальцами в Мишку тычут, прыгают вокруг. От горькой обиды слезы навернулись у Мишки на глаза, а тут еще Витька-попович больно задел его.
— А твой отец коммунист?.. — спрашивает.
— Не знаю…
— Я знаю, что коммунист. Папочка сегодня утром говорил, что он продал душу чертям. И еще говорил, что всех коммунистов будут скоро вешать!..
Ребята примолкли, а у Мишки сжалось сердце. Батяньку его будут вешать — за что? Крепко сжал зубы и сказал:
— У батяньки большущее ружье, и он всех буржуев поубивает!
Витька, выставив вперед ногу, сказал торжествующе:
— Руки у него коротки! Папочка не даст ему святого благословения, а без святости он ничего не сделает!..
Прошка, сын лавочника, раздувая ноздри, толкнул Мишку в грудь и крикнул:
— А ты не дюже со своим батянькой!.. Он у моего отца товары забирал, как поднялась революция, а отец сказал: «Ну, нешто не перевернется власть, а то Фомку-пастуха первого убью!..»
Наташка, Прошкина сестра, топнула ногой:
— Бейте его, ребята, что смотреть?!
— Бей коммунячьего сына!..
— Нахаленок!..
— Звездани его, Прошка!
Прошка взмахнул прутом и ударил Мишку по плечу, Витька-попович подставил ногу, и Мишка навзничь, грузно шлепнулся на песок.
Ребята заорали, кинулись на него. Наташка тоненько визжала и ногтями царапала Мишкину шею. Кто-то ногою больно ударил его в живот.
Мишка, стряхнув с себя Прошку, вскочил и, виляя по песку, как заяц от гончих, пустился домой. Вслед ему засвистали, бросили камень, но догонять не побежали.
Только тогда перевел Мишка дух, когда с головой окунулся в зеленую колючую заросль конопли. Присел на влажную пахучую землю, вытер с расцарапанной шеи кровь и заплакал; сверху, пробираясь сквозь листья, солнце старалось заглянуть Мишке в глаза, сушило на щеках слезы и ласково, как маманька, целовало его в рыжую вихрастую маковку.
Сидел долго, пока не высохли глаза; потом встал и тихонько побрел во двор.
Под навесом отец смазывает дегтем колеса повозки. Шапка у него съехала на затылок, ленты висят, а синяя рубаха на груди в белых полосах. Подошел Мишка боком и стал возле повозки. Долго молчал. Осмелившись, тронул батянькину руку, спросил шепотом:
— Батя, ты на войне что делал?
Отец улыбнулся в рыжие усы, сказал:
— Воевал, сыночек!
— А ребята… ребята гутарят, что ты там только вшей убивал…
Слезы вновь перехватили Мишкино горло. Отец засмеялся и подхватил Мишку на руки:
— Брешут они, мой родный! Я на пароходе плавал. Большой пароход по морю ходит, вот на нем-то я и плавал, а потом пошел воевать.
— С кем ты воевал?
— С господами воевал, мой любонький. Ты еще мал, вот и пришлось мне на войну идти за тебя. Про это и песня поется.
Отец улыбнулся и, глядя на Мишку, притопывая ногой, запел потихоньку:
Ой, Михаил, Михаля, Михалятко ты мое!
Не ходи ты на войну, нехай батька иде.
Батько — старенький, на свити нажився.
А ты — молоденький, тай ще не женився…
Мишка забыл про обиду, нанесенную ему ребятами, и засмеялся — оттого, что у отца рыжие усы затопорщились над губой, как сибирьки, из каких маманька веники вяжет, а под усами смешно шлепают губы и рот раскрыт круглой черной дыркой.
— Ты мне сейчас не мешай, Минька, — сказал отец, — я повозку буду чинить, а вечером спать ляжешь, и я тебе про войну все расскажу.
* * *
День растянулся, как длинная глухая дорога в степи. Солнце село, по станице прошел табун, улеглась пыль, и с почерневшего неба застенчиво глянула первая звездочка.
Мишку одолевает нетерпение, а мать, как нарочно, долго провозилась у коровы, долго цедила молоко, в погреб полезла и там прокопалась битый час. Мишка вьюном около нее крутился.
— Скоро вечерять будем?
— Успеешь, непоседа, оголодал!..
Но Мишка ни на шаг не отстает от нее: мать в погреб — и он за ней, мать на кухню — и он следом. Пиявкой присосался, за подол уцепился, волочится.
— Ма-а-амка!.. Скореича вечерять!..
— Да отвяжись ты, короста липучая!.. Жрать захотел — взял кусок и лопай!
А Мишка не унимается. Даже подзатыльник, схваченный от матери, и тот не помог.
За ужином кое-как наспех поглотал хлебова и — опрометью в горницу. Далеко за сундук швырнул штанишки, с разбегу нырнул в постель под материно одеяло, сшитое из разноцветных лоскутьев. Притаился и ждет, когда придет батянька про войну рассказывать.
Дед на коленях стоит перед образами, шепчет молитвы, поклоны отстукивает. Приподнял Мишка голову: дед, трудно сгибая спину, пальцами левой руки в половицу упирается и лбом в пол — стук!.. А Мишка локтем в стену — бух!..
Дед опять пошепчет, пошепчет и поклон стукает. Мишка себе в стену бухает. Рассердился дед, повернулся к Мишке.
— Я тебе, окаянный, прости господи!.. Постучи у меня, я те стукну!
Быть бы драке, но в горницу вошел отец.
— Ты зачем же, Минька, тут лег? — спрашивает.
— Я с маманькой сплю.
Отец сел на кровать и молча начал крутить усы. Потом, подумав, сказал:
— А я тебе в горнице с дедом постелил…
— Я с дедом не ляжу!..
— Это почему же?..
— У него от усов табаком дюже воняет!
Отец опять покрутил усы:
— Нет, сынок, ты уж ложись с дедом…
Мишка натянул на голову одеяло и, выглядывая одним глазом, обиженно сказал:
— Вчерась ты, батянька, лег на моем месте и нынче… ложись ты с дедом!
— Ну ладно, ляжу с дедом, а про войну рассказывать не буду.
Отец поднялся и пошел в кухню.
— Батянька!
— Ну?
— Ложись уж тут… — вздыхая, сказал Мишка и встал. — А про войну расскажешь?
— Расскажу.
Дед лег к стенке, а Мишку положил с краю. Немного погодя пришел отец. Придвинул к кровати скамейку, сел и закурил вонючую цигарку.
— Видишь, оно какое дело было… Помнишь, за нашим гумном когда-то был посев лавочника?..
Мишке припомнилось, как раньше бегал он по душистой высокой пшенице. Перелезет через каменную огорожу гумна и — в хлеба. Пшеница с головой его хоронит, тяжелые черноусые колосья щекочут лицо. Пахнет пылью, ромашкой и степным ветром. Маманька говорила, бывало, Мишке:
«Не ходи, Минюшка, далеко в хлеба, а то заблудишься!..»
Батянька помолчал и сказал, гладя Мишку по голове:
— А помнишь, как ты со мной ездил за Песчаный курган? Хлеб наш там был…
И опять припомнилось Мишке: за Песчаным курганом вдоль дороги узенькая, кривая полоска хлеба. Приехал Мишка с отцом туда, а полоса вся скотом потравлена. Лежат грязными ворохами втолоченные в землю колосья, под ветром качаются пустые стебли. Помнит Мишка, как батянька, такой большой и сильный, страшно кривил лицо и по запыленным щекам его скупо текли слезы. Мишка тоже плакал тогда, глядя на него…
Обратной дорогой спросил отец у бахчевника:
«Скажи, Федот, кто потравил мой хлеб?»
Бахчевник сплюнул под ноги и ответил:
«Лавочник гнал скотину на рынок и нарочно запустил на твою полосу…»
…Отец придвинул скамью ближе, заговорил:
— Лавочник и остальные богатеи позаняли всю землю, а бедным сеять было не на чем. Вот так везде было, не в одной нашей станице. Шибко обижали они нас тогда… Жить стало туго, нанялся я в пастухи, а потом забрали меня на службу. На службе мне было плохо, офицеры за всякую малость в морду били… А потом объявились большевики, и старшой у них — по прозвищу Ленин. Сам-то собой он вроде немудрящий, но ума дюже ученого, даром что наших, мужицких, кровей. Задали большевики нам такую заковырину, что мы и рты пораззявили. «Что вы, говорят, мужики и рабочие, раззяву-то ловите?.. Гоните господ и начальство в три шеи да поганой метлой! Все — ваше!..»
Вот этими словами и растревожили они нас. Пораскинули мы умишками — верно. Отобрали у господ землю и имения, но их затошнило от поганого житья, нащетинились и прут на нас, на мужиков и рабочих, войной… Понял, сынок?
А тот самый Ленин — старшой у большевиков — народ поднял, ровно пахарь полосу плугом. Собрал солдат и рабочих и ну наколупывать господ! Аж пух и перья с них летят! Стали солдаты и рабочие прозываться Красной гвардией. Вот и я был в Красной гвардии. Жили мы в большущем доме, звался он Смольным. Сенцы там, сынок, длиннющие и горниц так много, что заплутаться можно.
Стою я раз ночью, караулю вход. Холодно на дворе, а у меня одна шинель. Ветер так и нижет… Только вышли из этого дома два человека и идут мимо меня. Подходят они ближе, и угадываю я в одном из них Ленина. Подошел ко мне, спрашивает ласково:
«Не холодно вам, товарищ?»
А я ему и говорю:
«Нет, товарищ Ленин, не то что холод, но и никакие враги не сломят нас! Не для того мы забрали власть в свои руки, чтобы отдать ее буржуазам!..»
Он засмеялся и руку мне жмет крепко. А потом пошел потихоньку к воротам.
Отец помолчал, достал из кармана кисет, зашелестел бумагой, закуривая, чиркнул спичкой, и на рыжем щетинистом усе увидал Мишка светлую и блестящую слезинку, похожую на каплю росы, какие по утрам висят на кончиках крапивных листьев.
— Вот какой он был. Обо всех заботу нес. Об каждом солдате сердцем хворал… После этого часто я его видал. Идет мимо меня, увидит еще вон откель, улыбнется и спрашивает:
«Так не сломят нас буржуи?»
«В носе у них не кругло, товарищ Ленин!» — бывало, скажу ему. По его слову и вышло, сынок! Землю и фабрики мы забрали, а богатеев — кровососов наших — побоку!.. Вырастешь — не забывай, что твой батянька матросом был и за коммунию четыре года кровь проливал. К тем годам и я помру и Ленин помрет, а дело наше довеку живо будет!.. Когда вырастешь — будешь воевать за Советскую власть, как твой батька воевал?
— Буду! — крикнул Мишка, вскочил на кровати, хотел с размаху повиснуть на батянькиной шее, да забыл, что рядом дед лежит, ногой на живот ему наступил.
Дед как крякнет, руку протянул, хотел сцапать Мишку за вихор, но батянька схватил Мишку на руки и понес в горницу.
На руках у него Мишка и уснул. Сначала долг думал о диковинном человеке — Ленине, о большевиках, о войне, о пароходах. Сначала сквозь дрему слышал сдержанные голоса, ощущал сладкий запах пота и махорки, потом глаза слиплись, веки словно кто ладонями придавил.
Не успел уснуть, увидал во сне город: улицы широкие, куры в просыпанной золе купаются; на что в станице их многое множество, а в городе куда больше Дома́ точь-в-точь как отец рассказывал: большущая хата, крытая свежим камышом, на трубе у нее стоит еще одна хата, у той на трубе еще одна, а труба самой верхней хаты в небо воткнулась.
Идет Мишка по улице, голову кверху задирает, рассматривает, и вдруг, откуда ни возьмись, — шасть ему навстречу высоченный человек в красной рубахе.
— Ты, Мишка, почему без делов шляешься? — спрашивает он очень ласково.
— Меня дедуня пустил поиграть, — отвечает Мишка.
— А ты знаешь, кто я такой?
— Нет, не знаю…
— Я — товарищ Ленин!..
У Мишки со страху колени подогнулись. Хотел тягу задать, но человек в красной рубахе взял его, Мишку, за рукав и говорит:
— Совести у тебя, Мишка, и на ломаный грош нету! Хорошо ты знаешь, что я за бедный народ воюю, а почему-то в мое войско не поступаешь?..
— Меня дедуня не пущает!.. — оправдывается Мишка.
— Ну, как хочешь, — говорит товарищ Ленин, — а без тебя у меня — неуправка! Должон ты ко мне в войско вступить, и шабаш!..
Мишка взял его за руку и сказал очень твердо:
— Ну, ладно, я без спросу поступлю в твою войску и буду воевать за бедный народ. Но ежели дедуня меня за это зачнет хворостиной драть, тогда ты за меня заступись!..
— Обязательно заступлюсь! — сказал товарищ Ленин и с тем пошел по улице, а Мишка почувствовал, как от радости у него захватило дух, нечем дыхнуть; хочет он что-то крикнуть — язык присох…
Дрогнул Мишка на постели, брыкнул деда ногами и проснулся.
Дед во сне мычит, жует губами, а в оконце видно, как за прудом нежно бледнеет небо и розовой кровянистой пеной клубятся плывущие с востока облака.
* * *
С тех пор каждый вечер рассказывал отец Мишке про войну, про Ленина, про то, в каких краях бывал.
В субботу вечером сторож из исполкома привел во двор низенького человека в шинели и с кожаным портфелем под мышкой. Подозвал деда, сказал:
— Вот привел к вам на хватеру товарища советского сотрудника. Он прибывши из городу и будет у вас ночевать. Дадите ему повечерять, дедушка.
— Оно, конечно, мы не прочь, — сказал дед. — А мандаты у вас имеются, господин товарищ?
Мишка удивился дедовой учености и, засунув палец в рот, остановился послушать.
— Есть, дедушка, все есть! — улыбнулся человек с кожаным портфелем и пошел в горницу. Дед за ним, а Мишка за дедом.
— Вы по каким же делам к нам прибыли? — дорогой спросил дед.
— Я приехал перевыборы проводить. Будем выбирать председателя и членов Совета.
Немного погодя пришел с гумна отец. Поздоровался с чужим человеком и велел маманьке собирать ужинать. После ужина отец и чужак сели на лавке рядом.
Чужак расстегнул кожаный портфель, достал оттуда пачку бумаг и начал отцу показывать. Мишке не терпится, вьется около, хочет взглянуть. Взял отец одну бумажку, Мишке показывает:
— Гляди, Минька, вот это самый и есть Ленин! Мишка вырвал у отца из рук карточку, впился в нее глазами и рот от удивления раскрыл: на бумаге стоит во весь рост небольшой человек, вовсе даже не в красной рубахе, а в пиджаке. Одна рука в карман штанов засунута, а другой вперед себя показывает. Уперся Мишка в него глазами, в один миг всего ощупал; крепко, навовсе, навсегда вобрал в память изогнутые брови, улыбку, притаившуюся во взгляде и в углах губ, каждую черточку лица запомнил.
Чужак взял из рук у Мишки карточку, — защелкнул на замок портфель и пошел спать. Уже разделся, лег и закрылся шинелью, начал засыпать, когда услышал скрип двери. Приподнял голову:
— Кто это?
По полу шлепают чьи-то босые ноги.
— Кто там? — спросил он снова и около кровати неожиданно увидел Мишку.
— Тебе чего, малыш?
Мишка минуту постоял молча, потом, набравшись смелости, шепотом сказал:
— Ты, дяденька, вот чего… ты… отдай мне Ленина!
Чужак молчит, голову свесил с кровати и смотри на него.
Страх охватил Мишку: ну как заскупится и не даст? Стараясь одолеть дрожь в голосе, торопясь и захлебываясь, зашептал:
— Ты мне отдай его навовсе, а я тебе… я тебе по Дарю жестяную коробку хорошую и ишо отдам все как есть бабки, и…Мишка с отчаянием махнул рукой и сказал: — И сапоги, какие мне батянька принес, отдам!
— А зачем тебе Ленин? — улыбаясь, спросил чужак.
«Не даст!..» — мелькнула у Мишки мысль. Нагнул голову, чтобы не видно было слез, сказал глухо:
— Значит, надо!
Чужак засмеялся, достал из-под подушки портфель и подал Мишке карточку. Мишка ее под рубаху, к груди прижал, к сердцу крепко-накрепко, и — рысью из горницы. Дед проснулся, спрашивает:
— Ты чего бродишь, полуношник? Говорил тебе, не пей на ночь молока, а теперь вот приспичило!.. Помочись в помойное ведро, мне тебя на двор водить вовсе без надобности!
Мишка молчком лег, карточку обеими руками тискает, повернуться страшно: как бы не измять. Так и уснул.
Проснулся ни свет ни заря. Маманька только корову выдоила и прогнала в табун. Увидала Мишку, руками всплеснула:
— Что тебя лихоманец мучает! Это зачем такую рань поднялся?
Мишка карточку под рубахой жмет, мимо матери на гумно, под амбар юркнул.
Вокруг амбара растут лопухи и зеленой непролазной стеной щетинится крапива. Заполз Мишка под амбар, песок разгреб ладонью, сорвал пожелтевший от старости лист лопуха, завернул в него карточку и камешком привалил, чтобы ветер не унес.
С утра до вечера шел дождь. Небо закрылось сизым пологом, во дворе пенились лужи, по улице бежали наперегонки ручьи.
Пришлось Мишке сидеть дома. Уже смеркалось, когда дед и отец собрались и пошли в исполком на собрание. Мишка натянул дедов картуз и пошел следом. Исполком помещается в церковной сторожке. По кривым, грязным ступенькам влез, кряхтя, Мишка на крыльцо и прошел в комнату. Под потолком ползает табачный дым, народу полным-полно. У окна за столом сидит чужак, что-то рассказывает собравшимся казакам.
Мишка потихоньку пробрался на самый зад и сел на скамью.
— Кто за то, товарищи, чтобы Фома Коршунов был председателем? Прошу поднять руки!
Сидевший впереди Мишки Прохор Лысенков, зять лавочника, крикнул:
— Гражданы!.. Прошу снять его кандидатуру. Он нечестного поведения. Ишо когда пастухом табун наш стерег, замечен был!
Мишка увидал, как Федот-сапожник встал с подоконника, закричал, махая руками:
— Товарищи, богатеям нежелательно в председатели пастуха Фому, но как он есть пролетарьят и за Советскую власть…
Зажиточные казаки, стоявшие кучей около двери, затопотали ногами, засвистали. Шум поднялся в исполкоме.
— Не нужен пастух!
— Пришел со службы — нехай к миру в пастухи нанимается!..
— Не хотим Фому Коршунова!
Мишка глянул на бледное лицо отца, стоявшего возле скамьи, и сам побелел от страха за него.
— Тише, товарищи!.. С собранья буду удалять!.. — орал чужак, грохая по столу кулаком.
— Своего человека из казаков выберем!..
— Не нужен!..
— Не хо-отим… — шумели казаки, и пуще всех Прохор, зять лавочника.
Здоровый рыжебородый казак с серьгой в ухе и в рваном, заплатанном пиджаке вскочил на скамью:
— Братцы!.. Вон оно куда дело заворачивает!.. Нахрапом желают богатеи посадить в председатели своего человека! А там опять…
Сквозь стонущий рев Мишка слышал только отдельные слова, которые выкрикивал казак с серьгой:
— Землю… переделы… бедноте суглинок… чернозем заберут себе…
— Прохора в председатели!.. — гудели около дверей.
— Про-охор-ра!.. Го-го-го… Га-га-га!..
Насилу угомонились. Чужак, хмуря брови, долго что-то выкрикивал.
«Должно, ругается», — подумал Мишка. Чужак громко спросил:
— Кто за Фому Коршунова?
Над скамьями поднялось много рук. Мишка тоже поднял руку. Кто-то, перепрыгивая со скамьи на скамью, громко считал:
— Шестьдесят три… шестьдесят четыре, — не глядя на Мишку, указал пальцем на его поднятую руку, выкрикнул: — шестьдесят пять!
Чужак что-то записал на бумажке, крикнул:
— Кто за Прохора Лысенкова, прошу поднять! Двадцать семь казаков-богатеев и Егор-мельник дружно подняли руки. Мишка поглядел вокруг и тоже поднял руку. Человек, считавший голоса, поравнялся с ним, глянул вниз и больно ухватил его за ухо.
— Ах ты шпаненок!.. Метись отсель, а то я тебе всыплю! Тоже голосует!..
Кругом засмеялись, а человек подвел Мишку к выходу, толкнул в спину. Мишка вспомнил, как говорил отец, ругаясь с дедом, и, сползая по скользким, грязным ступенькам, крикнул:
— Таких правов не имеешь!
— Я тебе покажу права!..
Обида была, как и все обиды, очень горькая. Придя домой, Мишка всплакнул малость, пожаловался матери, но та сердито сказала:
— А ты не ходи, куда не след! Во всякую дыру нос суешь! Наказание мне с тобой, да и только!
На другой день утром сели за стол завтракать, не успели кончить, услышали далекую, глухую от расстояния музыку. Отец положил ложку, сказал, вытирая усы:
— А ведь это военный оркестр!
Мишку как ветром сдуло с лавки. Хлопнула дверь в сенцах, за окошком слышно частое «туп-туп-туп-туп…».
Вышли во двор и отец с дедом, маманька до половины высунулась из окна.
В конец улицы зеленой колыхающейся волной вливались ряды красноармейцев. Впереди музыканты дуют в большущие трубы, грохает барабан, звон стоит над станицей.
У Мишки глаза разбежались. Растерянно закружился на одном месте, потом рванулся и подбежал к музыкантам. В груди что-то сладко защемило, подкатилось к горлу… Глянул Мишка на запыленные веселые лица красноармейцев, на музыкантов, важно надувших щеки, и сразу, как отрубил, решил: «Пойду воевать с ними!..»
Произведения
Критика