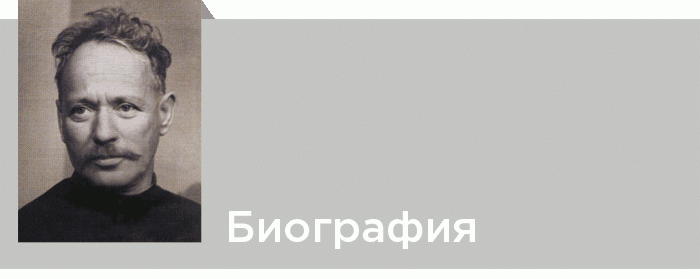Истоки образности в творчестве М. Шолохова
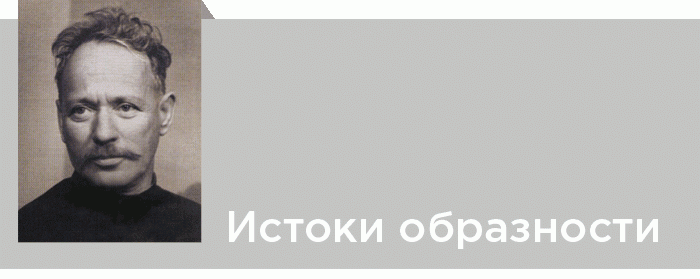
Л. Якименко
Уже в первых рассказах Шолохова проявилась одна особенность его художественного мышления, во многом определившая своеобразие стиля.
Но принцип эпического параллелизма принимает в творчестве Шолохова качественно новый характер. Обогащенная опытом мирового романа детализация психологического чувства и развернутые картины природы сопоставляются по их внутренней эстетической и этической связи. На этой основе возникает грандиозный поэтический мир Шолохова, в котором природа, человек, общество — равноправные элементы изображения.
Поначалу сопоставления носили чисто внешний характер, развертывались по принципу похожести. В первом опубликованном рассказе «Родинка» (1924) перемены, которые произошли в душе простого казака, ставшего атаманом банды, писатель пытался выразить в таком образном сопоставлении: «Зачерствела душа у него, как летом в жарынь черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле музги степной».
Шолохов избрал сравнение, которое было случайным и необязательным. Слишком далекой, лишь внешней оказалась связь между душой атамана и черствеющими в жару следами раздвоенных бычьих копыт. И почему именно бычьих? Потому, что они раздвоенные, и этим писатель стремился указать на раздвоение в душе атамана?
Первоначальное «зачерствела душа» не было усилено, а лишь проиллюстрировано случайным сопоставлением, к тому же лишенным всякого эмоционального содержания.
Проходит несколько лет. Шолохов работает над второй книгой «Тихого Дона». Он пытается во впечатляющей картине выразить те опустошения, которые произвела в душе Григория война: «Огрубело сердце, зачерствело, будто солончак в засуху, и как солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не впитывало жалости».
Что же происходит? Почему в одном случае сопоставление при всей, казалось бы, образности оставляет читателя равнодушным, а в другом — напрягает чувство, волнует суровой горечью?
Очевидно, что между тем, что сравнивается, и тем, с чем сравнивается, должна существовать определенная эмоциональная связь. Принцип похожести не рождает образа. В лучшем случае он может возбудить лишь зрительное представление. Параллельные ряды в такого рода сопоставлениях (чувство человека — явления природы) должны быть гибко соединены подвижной эмоционально-чувственной связью. Если картина природы своим внутренним образным движением возбуждает чувство, которое усиливает то, что переживается героем, тогда цель достигнута.
Когда Шолохов пишет: «Огрубело сердце, зачерствело, будто солончак в засуху», то он дает не только сильный зрительный образ, как бы наглядное воплощение душевного состояния Григория. Само слово «солончак» обладает огромной образной, эмоционально воздействующей силой. На солончаке ничего не растет, гибнет все живое. Страшен человек, сердце которого понесло такие утраты, что может быть сравнено с бесплодным, сумрачно-угрюмым солончаком.
Но этот сам по себе очень сильный образ доведен до подлинного трагизма во второй части сравнения. То, что было общим, получает вдохновенно найденный завершающий образ, который, казалось бы, лишь уточняет, конкретизирует, а на самом деле необычайно усиливает и углубляет первоначальное сравнение. Важно было показать, в чем выразилось зачерствение сердца Григория (ушла боль по человеку, утрачена жалость): «и как солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не впитывало жалости».
Внешне-предметное и внутренне-духовное сближаются по самому характеру проявления, по сходному воздействию на воображение и чувство. Соединенные вместе, они воздействуют как бы с удвоенной силой. Добиться такого результата и есть подлинное искусство.
В «Тихом Доне», повествуя об обострении классовых противоречий, Шолохов прибегал к такому сравнению: «В марте, как почки на тополях, набухали в станицах противоречия между казаками и иногородними».
Очевидна эстетическая несообразность такого сопоставления. Писатель, вероятно, хотел сказать, что противоречия нарастали так же бурно, как набухали почки на деревьях. Но это лишь одна сторона в описываемом явлении. Писатель, по-видимому, не замечал, что драматизм классовых противоречий получал свое образное воплощение в явлении природы, которое возбуждает чувство радости (весна, набухание почек на деревьях). Создавался эстетический, эмоционально-содержательный разрыв между тем, что сравнивалось, и тем, с чем сравнивалось.
В раннем рассказе Шолохова «Обида» есть потрясающей силы образ. После того как напавшие ночью в степи забрали и увезли в голодный год последнюю надежду — семенное зерно, «Степан поднялся с земли взлохмаченный и страшный. Медленно закружился в голубом леденистом свете месяца. Афанасий, сгорбившись, глядел на него, и встало перед глазами: прошлой зимой застрелили на засаде волка, и тот, с картечью, застрявшей в размозженной глазнице, так же страшно кружился у гуменного плетня; стоял в рыхлом снегу, приседал на задние лапы, умирал в немой, безголосой смерти».
Вряд ли можно было сильнее передать, выразить всю безнадежность, отчаяние, переживаемое дедом Степаном. Образ немой, безголосой смерти, родившись в сопоставлении с волчьей смертью, звучал с трагической мощью.
Самые, казалось, отвлеченные понятия, характеризующие различные состояния, настроения человека, «материализуются» Шолоховым с поразительной предметно-образной наглядностью.
В рассказе «Семейный человек» после смерти жены герой говорит о, своем одиночестве: «Остался я один, будто кулик на болоте...» О чеботаре Зиновии, который один выступил против избрания Коршунова: «остался стоять на месте, как горелый пень на займище». Лиза Мохова, рано оставшаяся без матери, «предоставленная самой себе, росла, кап в лесу куст дикой волчьей ягоды».
Природа небезразлична к человеческим радостям и горестям, в поэтике Шолохова она чутко отзывается на события человеческой жизни. Но и жизнь природы, ее явления часто постигаются через образные сопоставления, выражающие трепетно-человеческое.
Тюльпаны блещут «яркой девичьей красотой»; в заводях «желанной девичьей улыбкой сияла ряска»; вода «светлая, как детская слеза»; «за розовеющим веселым, как девичья улыбка, облачком... встает месяц»; ночь «в распатлаченных космах облаков» встает над городом; донская волна «пестует и нянчит белогузых чирков»; из прошлогодней поблекшей травы смотрят на мир «голубые детски-чистые глаза» доцветающих степных фиалок.
Самое отвлеченное — мысль, процесс мышления — материализовалось Шолоховым со смелостью и уверенностью глубокого знания, проникновения в скрытое, тайное, невидимое.
С первого прочтения на всю жизнь остается в потревоженной памяти: постаревшая Аксинья и увядающий ландыш, горе Натальи и всесокрушающая гроза в степи, выжженная палами степь и опустошение Григория...
«Ранней весною, когда сойдет снег и подсохнет полегшая за зиму трава, в степи начинаются весенние палы. Потоками струится подгоняемый ветром огонь, жадно он пожирает сухой аршанец, взлетает по высоким будыльям татарника, скользит по бурым верхушкам чернобыла, стелется по низинам... И после долго пахнет в степи горькой гарью от выжженной и потрескавшейся земли. Кругом весело зеленеет молодая трава, трепещут над нею в голубом небе бесчисленные жаворонки, пасутся на кормовитой зеленке пролетные гуси и вьют гнезда осевшие на лето стрепета. А там, где прошлись палы, зловеще чернеет мертвая, обуглившаяся земля, не гнездует на ней птица, стороною обходит ее зверь, только ветер, крылатый и быстрый, пролетает над нею, далеко разносит сизую золу и едкую темную пыль.
Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория. Он лишился всего, что было дорого его сердцу. Все отняла у него, все порушила безжалостная смерть. Остались только дети. Но сам он все еще судорожно цеплялся за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и для других...»
Эпическое обобщение жизни Григория возникает как бы само собой. Описание природы подготавливает то, что будет сказано о скорбной загубленной жизни. Эта равноценность и относительная самостоятельность эстетических объектов в самой сущности эпического параллелизма. Прямое сравнение: «Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория», подготовлено эмоционально, обладает огромной впечатляющей силой. В зримом, предметном, конкретном воплощено тайное, скрытое.
Такая материализация мысли, чувства в самой природе поэтического мышления Шолохова. Ассоциативные связи строятся не по принципу внешнего сходства, как нередко было в ранних произведениях, они вскрывают, делают видимым тайное, значительное, сокровенное.
Эпические параллели заметно выделяются в произведении. Они образуют особые эмоционально-стилевые гнезда в романе.
* * *
Шолохов пришел в литературу с тем могучим поэтическим ощущением первозданной красоты и цельности жизни, которое одухотворяет творчество великих художников.
Для него человек и окружающий мир были проявлениями неостановимого, вечного движения, бурного кипения жизни. Писатель видел не просто гальку или туман; его взору открывалась «серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки»; «над Доном на дыбах ходил туман и, пластаясь по откосу меловой горы, сползал в яры серой безголовой гадюкой».
В нашей повседневной речи мы давно уже не ощущаем метафорического, переносного смысла многих слов и выражений. Но ведь, наверное, тот, кто увидел, что весенние ручьи бегут, или тот, кто впервые сказал: пошел снег, был подлинный поэт. В современной речи эти и многие подобные им выражения примелькались, утратили образное содержание, они для нас просто фиксируют, называют определенные явления.
Шолохов же все окружающее видит с той первозданной свежестью осприятия, без которой немыслимо искусство. У него начавшийся снегопад вызывает живописную динамическую картину того, как ветер «хищно налетал на белоперую тучу (так сокол, настигнув, бьет лебедя круто выгнутой грудью), и на присмиревшую землю, волнисто качаясь, слетали белые перышки — хлопья, покрывали хутор, скрестившиеся шляхи, степь, людской и звериный след...».
Шолохов в своих образных сравнениях идет от поэтического мышления народа. Ведь о ветре действительно, словно о птице, говорится «крылатый». Писатель довольно часто применяет к ветру именно это определение: «он был горек и духовит, этот крылатый степной ветер», и т. п.
О ветре же говорится: «летел издалека», «ветер снижался, падал на довядающий куст шиповника». «Поднявшийся на крылья, отдохнувший за ночь ветер...» Шолохов, сравнивая ветер с соколом, а белоперую тучу с лебедем, идет не от чисто внешнего сходства или от действительно наблюдаемой картины; истоки его образности — в необычайно точном, одухотворенно-поэтическом чувстве самых глубинных поэтических возможностей языка.
О ветре же Шолохов скажет «мокрогубый»; суховей «ищущими горячими губами целовал оголенные, полные икры и шею» Аксиньи.
Истинная поэзия, может, и состоит в умении видеть везде неисчислимые проявления жизни, в способности одухотворить и согреть все человеческим чувством.
Конечно же, в приведенных примерах Шолохов шел от того, что живет в поэтическом сознании народа, что словом «антропоморфизм» (очеловечивание явлений природы) было определено как одна из особенностей поэтики фольклора. В этом смысле искусство как бы возвращает нас к «детству человечества», оно позволяет как бы заново видеть, казалось, привычное и познанное.
Но Шолохов — писатель XX века. Глубокий психологизм, детализация человеческого чувства, завоеванная современным романом, соединились у него с наивно-первозданно-свежим, я бы сказал, поэтическим восприятием окружающего и дали нам то, что мы называем «шолоховской образностью».
Впечатляющая сила, секрет ее (образности) и в глубокой непосредственной связи писателя с трудовой практикой народа. Шолохов смотрит на мир глазами человека, который не только наблюдает, но и творит, изменяет окружающее, ощущает природу как нечто интимно-близкое, дорогое. И видит в ней источник вечно творящей жизни. Взгляд писателя — это пристальный, заинтересованный, мудро-пытливый взгляд пахаря, охотника, воина, рыбака...
Вот одно из описаний дождя: «Из ярко-белого подола тучи сыпался и сек землю косой дождь с градом, перепоясанный цветастым кушаком радуги». Так мог увидеть человек, для которого привычным было, как женщины из подола сыплют зерно курам, для которого кушак не был чем-то необычным и экзотическим, — им подпоясывались, чтобы ловчее было работать.
В поэтике Шолохова «интимно» сближаются самые разнородные явления: домашне-повседневное и внешне-природное. «Вороное небо полосовали падучие звезды. Падала одна, и потом долго светлел ворсистый след, как на конском крупе после удара кнута». Ассоциация по сходству поддержана начальным эпитетом «вороное» (небо), глаголом «полосовали». Вороной может быть и лошадь; ее полосуют кнутом. Так создается смысловая основа для развертывания образа.
Шолохов же увидит, как на небе «ущербленный пятнистый месяц вдруг выплеснулся из-за гребня тучи, несколько секунд, блестя желтой чешуей, нырял, как карась, в текучих тучевых волнах...». Не знаю, надо ли быть рыбаком для того, чтобы так видеть, но человек, который в своей жизни не испытал ни разу рыбацкой удачи, не может создать столь зримую, впечатляющую картину.
Поэзия трудовой жизни мощно захватывает и увлекает в произведениях Шолохова не только в прямых описаниях работающих людей, она проникает и в картины природы, придавая им поразительную красочность и эмоциональную напряженность.
На небе не просто вспыхнула молния, она, как пахарь-работник, «наискось распахала взбугренную черноземно-черную тучу... Ядреный дождевой сев начал приминать травы». После захода солнца: «На западе еще багровела сожженная закатом делянка неба» (слово «делянка» обычно употребляется, когда речь идет о какой-то части пахотной земли).
Смелое, необычное употребление глагола «распахать» в применении к молнии оправдано образным содержанием всего описания. Да, молния может распахать тучу, которая была не просто черной, а, словно земля, «черноземно-черной». Такое двойное определение придает неожиданному уподоблению молнии пахарю поэтическую достоверность и смысловую цельность.
В романах Шолохова ветер нередко тоже работает, «хозяйничает». Из начального обиходного выражения «нахозяйничал» — так говорят о сильном ветре, натворившем бед, — возникает картина самовластного, «работающего» ветра.
«На Христонином гумне взлохматился плохо свершенный скирд пшеничной соломы, ветер, вгрызаясь, подбил ему вершину, свалил тонкую жердь и вдруг, подхватив золотое беремя соломы, как на навильнике, понес его над базом, завертел над улицей и, щедро посыпав пустую дорогу, кинул ощетиненный ворох на крышу куреня Степана Астахова».
Первоначальный образный толчок повседневного речевого словоупотребления реализовался у Шолохова в развернутом метафорическом описании, в котором все одушевлено, связано с будничной работой крестьянина.
Потому что если ветер «хозяйничает», то его можно сравнить с хозяином-работником. «По гумну, перевалившись через плетень, заходил, хозяйствуя, ветер». Возникает метафорическое гнездо, в котором все глаголы действия связаны друг с другом единством образного сопоставления. Происходит то, что условно можно назвать сюжетным развертыванием метафоры. «Он (ветер. — Л. Я.) принес к скирду рассыпанную возле калитки солому, забил ее в лазы, устроенные собаками, очесал взлохмаченные углы скирда, где солома не так плотно слеглась, смел с вершины прикладка сухой снежок».
И лишь затем, вырывая читателя из этого метафорического мира, разрушая им же самим созданную связь — ветер-работник, — писатель скажет: «Ветер был большой, сильный, холодный». Мы оказываемся в реальности повседневного: Яков Лукич Островнов стоит возле скирды соломы, и для него, конечно, ветер только большой, сильный, холодный.
Но мы-то увидели куда больше! Нам было интересно в том красочном мире, открывавшем с такой образной силой самые, казалось, неожиданные связи, существующие между человеком и природой.
Ветер же может быть уподоблен «небесному» пастуху. И в таком сравнении у Шолохова есть не только смысловая, но и обусловленная временем, местом действия эмоциональная оправданность. Михаил Кошевой, пасущий в глухой целинной степи табуны лошадей, «валяясь на траве, бездумно следил, как, пасомые ветром, странствуют по небу косяки опушенных изморозной белью туч».
На первый взгляд метафора развертывается здесь по принципу переноса (косяки лошадей — косяки туч; на земле — пасомые человеком, на небе — пасомые ветром, как единый в своих проявлениях образ).
Но и тут есть «отталкивание» от начального, «корневого», поэтическое проявление нераскрытых связей. Обычно употребительное: ветер «гонит» тучи — содержит «зерно» образа. Легко строится ряд: пастух гонит стадо, ветер гонит тучи, но тогда ветер, как пастух, может гнать тучи, которые, подкрепляя такой перенос значения по образу действия, превращаются в косяки туч.
Как правило, метафора у Шолохова, основываясь на глубинных возможностях языка, открывает огромное богатство реальных, жизненных связей.
Все окружающее крестьянина-земледельца, весь обиход и поэзия казачьей трудовой жизни были для Шолохова с детства близкими, привычными, родными. И если, например, Вс. Иванов в одном из своих рассказов 20-х годов пишет: «Словно красный лещ, выплывала над степью луна, называемая казачьим «солнышком», — если для него луна кем-то называлась казачьим солнышком, то Шолохов просто скажет: «Месяц — казачье солнышко, темнея ущербленной боковиной, светил скупо, бело». Для него «луна» и «казачье солнышко» — поэтические синонимы, впитанные с раннего детства.
Эту синонимичность, выявляя все образные возможности, которые содержались в обиходном выражении «месяц — казачье солнышко», Шолохов с изяществом и достоверностью доводит до предельной метафоризации, до прямого уподобления месяца молодому казаку: «Меж туч казаковал молодой желтоусый месяц».
Один образ влечет за собою другой. В романах Шолохова создаются как бы сквозные метафорические ряды, связанные гибким, подвижным образным единством.
При этом довольно легко обнаруживается первичная синонимическая «ячейка». Она нередко основана на обиходном метафорическом выражении, связана с «ходовым», примелькавшимся фольклорным или разговорным тропом.
Художник «взрывает» это застывшее смысловое «ядро», оно начинает жить, как бы делиться на наших глазах. От него отпочковываются все новые и новые смысловые ряды, и тогда обнаруживается удивительное богатство скрытых доселе связей, образных ассоциаций.
Ассоциативные связи в такого рода рядах возникают не по внешнему признаку похожести, они ведут в глубины сознания, к истокам человеческого мышления, обнаруживая силу и красоту его.
О месяце же Шолохов скажет: «Над займищем по черному недоступному небу, избочившись, шел молодой месяц».
Конечно же, это только о молодом месяце можно сказать «избочившись». Но само определение, так же как и глагол «шел» в применении к месяцу, могло возникнуть только на основе сложных ассоциативных связей: месяц — казачье солнышко — молодой желтоусый казак и т. д. Только тогда можно увидеть не лунный след, а «огнистую извилистую стежку, наискось протоптанную месяцем».
Сила шолоховских образов в их эмоционально-смысловой насыщенности. В них нет ничего экзотического или нарочитого. При помощи привычного, того, что было перед глазами его героев, Шолохов часто переключал повествование из частного в обобщенно-поэтический, философский, этический план.
В последних книгах «Тихого Дона» выделяется, набирает силу грустный, согретый теплотой человеческого участия мотив быстротекущей жизни. Он звучит то в авторских отступлениях, то в размышлениях героев. И в устах шолоховских героев — обыкновенных людей, казаков-тружеников — одна из самых высоких, беспокойных и вечных тем философской лирики приобретает волнующее своеобразие. Предметная конкретность сочетается с подлинной глубиной и поэтичностью обобщения.
Престарелый дед Гришака скажет с той возвышенной печалью переживания, которая достойна настоящего поэта: «Мельканула жизня, как летний всполох, и нету ее». Поседевший прежде времени, рано постаревший Григорий проговорит со вздохом: «Летит жизня, как резвый конь». Не лишаясь того, что принадлежало определенной социальной среде, ее быту, складу мышления и т. д., образ в произведениях Шолохова приобретал обобщающую поэтическую выразительность. Сравнение Пантелея Прокофьевича с всадником, потерявшим управление лошадью, обладало не только живописной силой, но и той предметностью и конкретностью представления, которая так захватывает нас в реалистическом искусстве. Писатель, казалось, незаметно шел от частного, единичного к обобщениям глобального смысла. Хребет лошади превращался в «колышущуюся хребтину жизни», на которой безвольно мотался Пантелей Прокофьевич, утерявший за годы революции и былую власть в семье, и былую уверенность в своих силах и правах хозяина. Чисто зрительный образ переходил в философско-эпическое обобщение.
«Выход» в общечеловеческое совершается в поэтике Шолохова и через образы-символы, насыщенные философско-эстетическим содержанием.
Один из них — это образ зеленого стебля, цветущего колоса, хлебного поля.
В описаниях хлебного поля или зеленого стебля, жадно, тянущегося к солнцу, теплу, звучит у Шолохова одна из самых возвышенных, органически присущих всей его поэтике тем — тема жизнеутверждения.
В начальной главе романа «Они сражались за Родину», рассказывающей о семейной драме, переживаемой агрономом Николаем Стрельцовым, словно короткий победный всплеск вечно торжествующего океана жизни, прозвучало описание первого зеленого стебелька весенней травы: «...В этот же день, поутру, когда взошло солнце, на суглинистом пригорке, неподалеку от дома, где жил Стрельцов, выбилось из земли первое перышко первой травинки. Острое бледно-зеленое шильце ее пронизало сопревшую ткань невесть откуда занесенного осенью кленового листа и тотчас поникло под непомерной тяжестью свалившейся на него дождевой капли. Но вскоре южный ветер прошелся низом, влажным прахом рассыпался отживший свое кленовый лист, дрогнув, скатилась на землю капля, и тотчас, вся затрепетав, поднялась, выпрямилась травинка — одинокая, жалкая, неприметная на огромной земле, но упорно и жадно тянущаяся к вечному источнику жизни, к солнцу».
Хлебный колос для Шолохова — символ жизни. В нем труд поколений. В нем залог будущего. Пока колосится поле, будет жив человек. Вытоптанное поле — самая страшная беда, которая может обрушиться на человека. В поэтике Шолохова оно становится символом несчастья.
Горе Аксиньи, брошенной Григорием, вызывает картину колосящегося поля, вытолоченного, выбитого скотом.
Беда, обрушившаяся в годы гражданской войны на семью Мелеховых, выражается в драматическом образном сравнении с бурей, прошедшей над делянкой пшеницы.
Создавая картины империалистической войны, Шолохов не раз задержит скорбное, горестное внимание на вытоптанных, брошенных полях: «Шагах в десяти от них волнилось неубранное, растерявшее зерно жито. Выхолощенные ветром колосья горбились и скорбно шуршали»; «Вызревшие хлеба топтала конница, на полях легли следы острошипых подков, будто град пробарабанил по всей Галиции».
Сильное сравнение следов от острошипых подков с последствиями града возникало не только из-за внешнего сходства. Для писателя существовала внутренняя динамическая связь между безумной стихией войны, истребляющей все живое, и слепыми природными бедствиями.
Война — преступление. Она губит человеческие жизни, не милует и созревших хлебов — дар земли и солнца. Она насильственно рвет одну из самых решающих связей между человеком и природой, рушит хлебное поле — труд человека, условие его жизни.
Вот глазам комбайнера Звягинцева («Они сражались за Родину») предстал мертвый, обгоревший пшеничный колос: «Это был колос пшеницы «мелянопус», граненый и плотный, распираемый изнутри тяжелым зерном. Черные усики его обгорели, рубашка на зерне полопалась под горячим дыханием пламени, и весь он — обезображенный огнем и жалкий — насквозь пропитался острым запахом дыма».
И долго идет Звягинцев по дороге, «глотая невольные вздохи, сухими глазами внимательно глядя в сумеречном свете ночи по сторонам, на угольно-черные, сожженные врагом поля, иногда срывал чудом уцелевший где-либо возле обочины дороги колос пшеницы или ячменя, думая о том, как много и понапрасну погибает сейчас народного добра и какую ко всему живому безжалостную войну ведет немец».
В поэтический мир Шолохова земля входит как мать-кормилица, в удивительно интимном чувстве внимания, постижения сокровенного... Красоты вечно жизнетворящих сил.
Глянет он и увидит, как «дивно закрасовалась под солнцем цветущая, омытая дождями степь! Была она теперь, как молодая, кормящая грудью мать, — необычно красивая, притихшая, немного усталая и вся светящаяся прекрасной, счастливой и чистой улыбкой материнства».
Истоки шолоховской образности не только в многокрасочном мире природы — в трудовой практике, в предметном обиходе, быте; вся эмоциональная сфера человеческой жизни вовлекается писателем в образный строй произведений.
Метафорическое богатство его языка неисчерпаемо. Словно прорвался ливень, в котором каждая капля расцвечена солнцем. Словно сам народ с его вековым эстетическим опытом, с его чувством красоты, соразмерности, всеобщих связей заговорил в романах Шолохова.
Л-ра: Литературная учеба. – 1979. – № 6. – С. 192-199.
Произведения
Критика