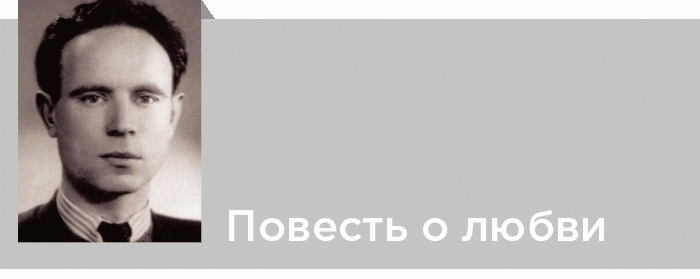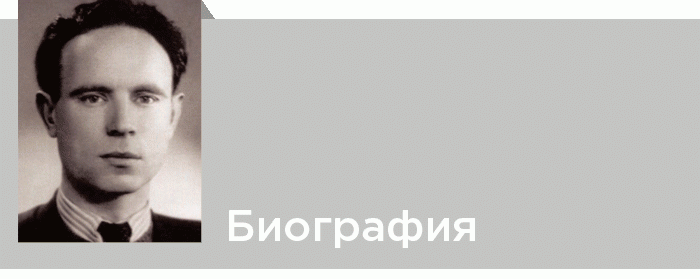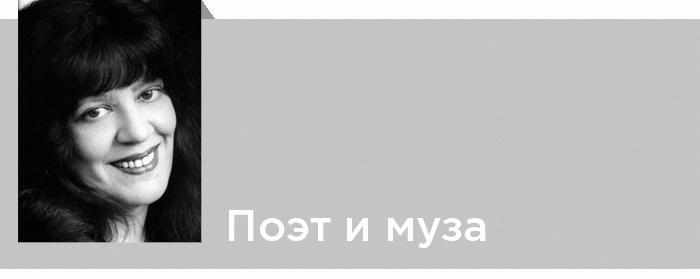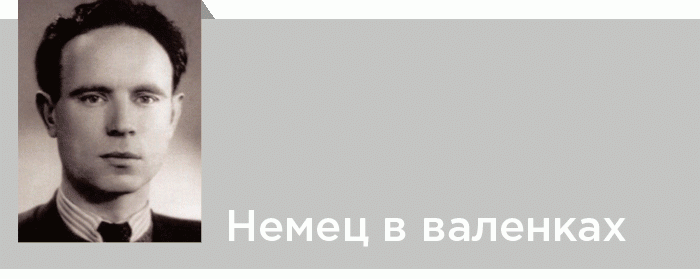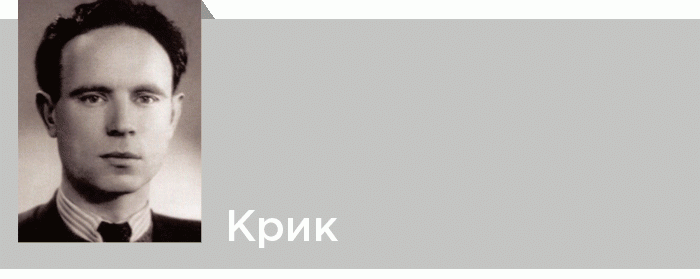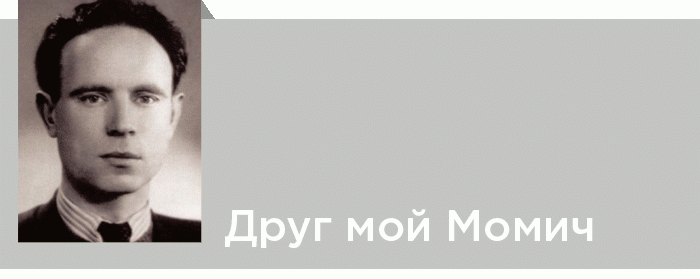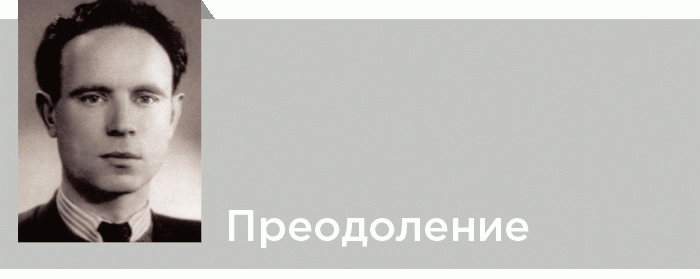«Все видеть...» Уроки одной писательской судьбы
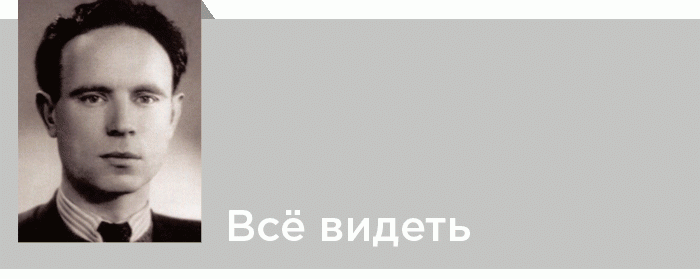
Александр Панков
Помнится, один критик, писавший о К. Воробьеве, начал с того, что было психологически трудно подступиться к его книгам: всюду — крик, и голос срывается. Подступиться к повести «Это мы, господи!..» — особенно трудно. Вся она — словно кусок кричащей реальности, вырванной из истории — с кровью, с мясом. Повествование о военнопленном Сергее Кострове имеет, как мы знаем, автобиографическую подоплеку. (Видимо, по этой причине оно с неожиданной естественностью вписалось в документально-художественную «военную» прозу конца 70-х — начала 80-х годов. Любопытно, что эта проза, рожденная памятью очевидцев войны («Блокадная книга» Д. Гранина, А. Адамовича, «Хатынская повесть» А. Адамовича, «У войны не женское лицо» и «Последние свидетели» С. Алексиевич, «Капитан дальнего плавания» А. Крона, «Записки...» Е. Ржевской), дала четвертую жизнь документам военного времени.
Первая жизнь документальных образов сложилась в дни войны по законам публицистической хроники. Вторая жизнь осуществилась в послевоенный период, когда свежие мемуары и очерки о выдающихся героях недавней битвы стали пересоздаваться в художественные тексты благодаря типизации и вымыслу («Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого). Третья жизнь документалистики выявилась по мере того, как нарастающий поток социально-исторических сведений влился в «военный роман» и придал ему эпическую панорамность, расширил его аналитические возможности. Наконец, четвертая жизнь совпала с распространением документа-свидетельства (чаще всего — коллективного), призванного собрать последние крупицы личной памяти участников войны ради противодействия сегодняшней милитаристской опасности и забвению уроков истории.
И вот повесть К. Воробьева, несущая на себе, казалось бы, печать документализма военной поры, вырвалась вдруг из прошлого и прозвучала в унисон с последними страницами военной прозы 80-х, будто соединив пост фактум все четыре жизни литературной документально-исторической памяти.
Фашистский плен, каким его показал К. Воробьев, можно сравнить с неумолимыми жерновами, работавшими с механической последовательностью на уничтожение человека. Впрочем, пленного никто из гитлеровцев человеком не считал. Пленный превращался в материал, орудие, источник дешевой физической силы — и только. Сегодня мы знаем — это страшно. Представляем, как это было придумано и организовано. Однако мало найдется книг, где с такой, как у К. Воробьева, безбоязненной наготой и скрупулезной достоверностью прослежен мученический путь пленника нацистских лагерей.
Снова и снова удивляешься, что повесть рождена непосредственно в дни войны, буквально в огне и в дыму. Тут гвоздь даже не в теме, а в форме. Известно, например, что в те же годы М. Шолохов написал рассказ «Наука ненависти», где одним из первых в советской литературе изобразил гнусность гитлеровского плена и пробуждение под его воздействием осознанного антифашизма. Подобную «науку», только гораздо более длительную, изнуряющую, проходит и Сергей Костров. Но если в рассказе М. Шолохова преобладает заостренная публицистическая идея, то у К. Воробьева идея произведения растет изнутри фактического материала.
Сегодня хорошо видно: духовно и стилистически повесть предвосхитила «военную» прозу 50-70-х годов, ибо это было, как я теперь понимаю, одно из первых произведений о войне, созданное не фронтовым корреспондентом или журналистом, а самим солдатом, чьи неизгладимые переживания были человечески уникальны.
Когда ныне читаешь прозу военных лет, то даже в самых безыскусственных, хроникальных произведениях ощущаешь своеобычный колорит эпохи. То ли это плакатная жесткость и однозначность, то ли агитационный нажим, то ли повышенный репортерский интерес к несомненной героике по преимуществу — не берусь однозначно определить. Но характерный привкус есть. Почти невозможно представить, как он сумел про такое написать. Словно протащил себя вторично через все этапы лагерей и побегов. Очевидно, иначе не мог. И, видно, не о себе думал, а о тех, с кем свела судьба, кто терпел, и — не выжил, боролся и — не выжил. Отсюда и тот вариант заглавия, который остался именно для первой повести, — «Это мы, господи!..».
Он написал не «я», а «мы». Этим также многое сказано. Он хотел, наверное, выговориться за подобных себе, ибо чувствовал, что выговориться надо, что у него получится. Должно получиться, потому что ему удалось вырваться, спастись, остаться, редким свидетелем народных потерь и народного сопротивления. «Мы» в повести К. Воробьева заставляет думать не иначе как о народе, и думать не отвлеченно, а предельно конкретно. Ведь память писателя сохранила живые лица людей, от имени которых произнесено: «Это мы, господи!..»
Не однажды главные герои в произведениях К. Воробьева испытывают благодарность к соратникам, «братве» за помощь и соучастие. Эти эпизоды проливают свет на смысл воробьевского «мы»: «Тридцать обветренных, знакомых и дорогих мне лиц, тридцать пар всевидящих и понимающих глаз смотрели в нашу сторону. Что-то горячее, благодарное и преданное к этим людям пронизало тогда мое сердце, и я быстро отвернулся, потому что мог заплакать...» («Крик»).
К. Воробьев сумел донести до современного читателя суть не столько героического поступка, сколько героического поведения. Причем поведения в такой обстановке, когда самим людям, попавшим в жернова, слово «героизм» показалось бы, пожалуй, риторически неуместным, далеким, чересчур гладким.
Примечательно, что в собственном словаре К. Воробьева это слово практически отсутствует. Как-то он без него обходился. Но цену братских страданий и мужества знал твердо и точно. Потому-то его последний — из незавершенной повести «И всему роду твоему»... — герой упрямо идет на неуютный спор с неким соседом по комнате Яночкиным, который и после войны склонен исповедовать казенное недоверие к бывшим военнопленным: они, мол, в плен «сдавались».
«— Да нет, — протестующе сказал Сыромуков, — мне, с вашего позволения, пришлось воевать! И лично я наградил бы всех пленных, кто остался цел в фашистских лагерях!
Так из них же власовцы вербовались, — оторопело заметил Яночкин.
Я сказал, кто остался жив в лагерях, — уточнил Сыромуков».
В незаконченной повести «И всему роду твоему...» Яночкин остался недорисован. На заключительных страницах герои успевают поспорить о современных «пижонах» и «снобах». Столкнувшись с прямолинейным напором Яночкина, Сыромуков начинает сбивчиво рефлектировать, и мысли его уносятся куда-то вдаль, мимо пошловато моралистичного соседа. Тому и в голову не могло прийти задуматься о том, «что, возможно, настанет время, когда вместо индивидуального характера и темперамента человек будет обладать обязательным для него неким унифицированным морально-эстетическим эталоном поведения, и люди начнут новую эру жизни, творя уже не историю племени и нации, а как бы общенародную семейную легенду, исключающую личные судьбы. В этом случае им там будет грозить опасность утратить прежде всего способность смеяться а плакать».
Мы улавливаем, что тут К. Воробьев искал подходы к проблемам новой, современной ему действительности, для которой и его собственное, и Яночкина прошлое сделалось «былым временем». Как были бы поставлены и решены в повести эти проблемы окончательно, мы можем только догадываться. Однако все равно главные тревоги Сыромукова вытекают из «былого времени». Оно — ключ к его судьбе.
Не велика фигура — Яночкин. В стенах санатория, где сошлись герои, он безобиден. Но вот зашла речь о пленных, и страшно разволновался Сыромуков. И «внимательно посмотрел в глаза Яночкина».
Если читать незавершенную повесть отдельно, то мимо этой детали можно и пройти. Между тем читательская память срабатывает, и я возвращаюсь к повести 1964 года «Почем в Ракитном радости» и нахожу в ней скрытый монолог главного героя, ныне — «хорошего писателя», а в прошлом фронтовика, военнопленного и партизана Константина Останкова. Он обращается к мальчишке по имени Кубарь в знаменательный для себя день: после долгой разлуки встретились Мирон Останков и его племянник Константин, по чьей нелепой мальчишеской вине Мирон был в 37-м несправедливо и поспешно осужден на суровое наказание. Повесть эта занимает особое место в творчестве К. Воробьева, о чем речь впереди. А пока — о скрытом монологе Константина Останкова и о внимательном взгляде Сыромукова в глаза Яночкина. Останков говорит лихорадочно, с внутренним сердечным напряжением и словно предвосхищает состояние Сыромукова: «Я о человеческих глазах, Кубарь! Ты знаешь, с каким полуночным вниманием ящеров глядели на нас «смершовцы», когда задавали вопрос, почему мы остались живы? Что им можно было ответить? Но им отвечали, да еще как! Ведь мы-то верили в правду, в Ленина, в добро, в день. И, чтобы вынести побои, оскорбления и унижения, обязательно нужна была такая вера. Иначе нельзя было выжить и одного дня, я хорошо знаю это по немецкому лагерю».
Еще раз напомню: это было напечатано в 1964 году, когда боль оставалась резкой и свежей, когда требовалось ее немедленно «заговорить». Воробьев именно «заговаривал» и выговаривал эту боль, социальные причины которой были совершенно конкретны, а моральные последствия — трудновосполнимы. Но он делал это не ради запоздалой мести или голого злорадства, но ради той самой веры, что спасала многих, подобных ему.
Мы почти ничего не услышали от автора о тех двух годах, когда Останков «водил в тундре трактор». К. Воробьеву тут было достаточно самого факта пребывания после плена и партизанского отряда в тундре. Говоря о самом больном, он вообще часто приподнимал лишь краешек явления. Но делал это так, что за малым угадывалась вся большая правда жизни. Так и здесь. Несколько разительных деталей хватило, чтобы расставить акценты без изъятий, упрощений и прикрас.
Нет исторических упрощений и дидактических прикрас и в том, что герои К. Воробьева выдерживают неимоверное давление бесчеловечных обстоятельств. Пусть лично им иногда чуть «везло», то есть в самых критических ситуациях выпадала малая толика удачи: пуля миновала, не забили, выдюжил назло смерти. Всем стилем повествования, всей палитрой психологического рисунка писатель убеждает: так фактически было, происходило, случалось, и желаемое здесь нигде не теснит действительное. Решающим доказательством возвышения над обстоятельствами во всем их диапазоне — возвышения, духовную и физическую меру которого почти невозможно выразить назывательно — остается в конечном счете сам герой К. Воробьева, его характер, его единственный и вместе с тем общезначимый путь.
Я специально проследил за возрастом героев К. Воробьева, и выяснилось, что Алексей Ястребов («Сказание о моем ровеснике», «Убиты под Москвой») родился в 1919-м. А Останков позже — в 1923-м. Сергею Кострову, как мы помним, в 1942-м было двадцать три.
Что до имен, то Санька Письменов («Тетка Егориха») вроде бы возрождается как молодой офицер Письменов в рассказе «Дорога к мужеству». Юноша Сергей действует в рассказе «Синель», и это имя будет принадлежать Сергею Воронову из «Крика», Сергею Климову из «Седого тополя», «Дороги в отчий дом». Психологически похож на них Саша из рассказа «Немец в валенках», а рядом с ним изображен другой, повторяющийся в нескольких произведениях характер — «доходяга» Иван Воронов. И вот теперь мы узнали о существовании Сергея Кострова, бывшего долгое время скрытым прообразом этих героев-тезок.
Впрочем, суть художественного мира — не в именах. Она в нравственном облике, духовном настрое героев, в родственности их биографического опыта и мировидения.
Останкова, Ястребова, Письменова связывает, например, особое чувство малой родины. Все они вышли из среднерусской деревенской глубинки, все еще в детстве прошли через сиротство, голод и социальные коллизии, уходящие корнями в общую почву исторической действительности 20-30-х годов. Раз за разом писал К. Воробьев о детстве и юности своего ровесника и захватывал при этом в поле зрения пестрые характеры деревенских жителей, подлинные сцены народной жизни.
Вот едут в коммуну, мечтая о загадочном светлом будущем, Санька Письменов и его тетка Егориха, женщина доброй и чистой души. Но что-то не ладится, не подкреплен реальными подпорками быт и труд этих разнохарактерных искателей счастья, не звучат в усадьбе обещанные оркестры. Вскоре ветер бытия безвозвратно разнесет по пустошам обрывки наивной, детской, в сущности, утопии. Хмурится молчаливый и отчужденный председатель коммуны Лесняк, забивают мужики втихую заблудшего теленка, найденного случайно в яме Санькой, и счастием начинает казаться героям повести возвращение в родную Камышинку, под дружескую опеку трудолюбивого и прочного соседа Момича.
Слушая незатейливую исповедь Саньки, мы понимаем, что между Егорихой и Момичем существует давняя близость, которую они сохраняют с каким-то естественным целомудрием. И хотя скрытые от постороннего глаза отношения тетки и Момича осложняются присутствием баламутного и не вполне нормального мужа Егорихи по прозвищу Царь, Санька именно от тетки и Момича исподволь набирается первых уроков взаимовыручки, верности и здравого смысла.
Нежданным ударом по этим урокам, по здравому смыслу и всей мальчишеской судьбе оборачивается гибель тетки и арест Момича, отнявшего наган у бестолкового сельского милиционера Голуба. Тот выстрелил в Егориху во время попытки деревенских баб водрузить на церковь оброненный оттуда крест...
Жить юному герою К. Воробьева становится все труднее, обступают одиночество, бесприютность, голод. Да только уроки человеческого достоинства мальчишка уже перенял, кровно усвоил.
Подспудное становление юной души, передача от старших к младшим жизнестойких нравственных традиций, почвой которых стало все лучшее в народном общежитии, — такова ключевая тема и «сказания» об Алексее Ястребове, Алексее-матросенке, «ровеснике» писателя.
Человек и время. К. Воробьев был писателем, чей стиль исходил из чувства конкретной, «натуральной» правды. Поэтому человека и время он никогда не разделял, к условностям и фантазиям не прибегал. Что касается острой, порой откровенно болезненной проблематики, свойственной данному историческому времени, то ее К. Воробьев упрямо держал в поле зрения и осваивал разнообразными средствами.
Так, в «Сказании о моем ровеснике» жизненная драма имеет природу социально-психологическую по преимуществу. Случайно обретя деда, Алешка потерял его так же случайно: старик рыл копань и не смог выбраться из ямы, куда прорвалась из-под земли вода. Социальный фон времени здесь очерчивается как бы вскользь, попутно, путем неразвернутого авторского пояснения: «За три года после смерти Матвея Егоровича Пелагея (его сестра. — А. П.) ни разу не платила налог, запихивая обкладные листы за божницу — дескать, бог с ними. И уже после того, как она отказалась записаться в колхоз — тоже бог с ним! — за недоимку со двора свели мерина и корову». Социальный фон вводится и благодаря изображению одного из «мелькающих» во времени персонажей — лавочника Ходукина. Это он навел на село белых и стал тайным виновником Алешкиного сиротства. Это он, воспрянувший было в годы нэпа и окончательно потерявший все в годы коллективизации, бесцельно и опустошенно встретил старость и повесился после нечаянной встречи с Алешкой. Мальчик, не ведая того, явился живым укором ходукинской совести. Образ Ходукина, невзрачного сельского богатея, позволяет ощутить атмосферу исторического времени, но в целом, повторяю, конфликт повести соткан прежде всего из социально-психологических отношений между героями.
Не то в повести «Почем в Ракитном радости». Остросоциальная по настроению, она решена в характерной для многих произведений 60-70-х годов форме: использует в качестве завязки возвращение героя на малую родину, опирается на автобиографическую ретроспекцию героя-повествователя, чья память и обращена к нам без утайки.
Уже первая встреча с Останковым заставляет думать, что он находится в странном состоянии. Всякий, наверное, удивился бы, если бы через двадцать лет после войны к нему в дом постучался незнакомый человек и сказал: «В тридцать седьмом году в вашем дворе я... украл петуха. Красный такой... Случайно не знаете, чей он... Я думал... может, заплатить кому-нибудь... Или вообще как-то уладить все...»
Старушка, к которой зашел Останков, помнит, должно быть, что в тот давний год случались события и посерьезнее кражи петуха. Выслушав Останкова, она советует: «Не стыдись. Мы люди свои... Садись и поезжай, куда тебе надо!» Ее заботливые слова звучат, как отпущение грехов.
Однако отзывчивость и мудрость старой женщины не облегчают душевных метаний Останкова. Он пылит по проселку, поглядывает на две книга собственного сочинения, брошенные на заднее сиденье, и думает: «В Ракитное я еду как на суд».
Стыд и суд. Эти понятия предопределяют тональность повести, и психологической драмой авторское сказание тут только начинается.
Это случилось, когда Останкову было четырнадцать лет. С юношеским азартом он увлекся писанием в районную газету стихов и заметок, призванных разоблачать «двурушников, лодырей, рвачей, расхитителей, подпевал, летунов, оппортунистов». Как видим, список возможных объектов для нападения получился пестрым и длинным. Зато и поле для законнической инициативы новоявленного селькора — романтически ликовавшего от одного сознания, что из его творений газетчики делали нечто на свой лад для печати, — создалось обширное. Правомерность подобной деятельности во имя всеобщего распорядка не вызывала, казалось бы, сомнений, и пробудившийся журналист вскоре «стал бичом родного колхоза».
В деревне было голодно, и мнилось, что «бич» принципиальной критики пойдет на пользу коллективному быту. Потом Константин встретил в поле дядю свого Мирона с мешком жмыхов на плече. Дядя вдруг испугался и попросил не губить. Дома мать пожаловалась, что дома у Мирона «гречишные чабрини пополам с тертыми картохами пекут», а ее Мирониха проводила ни с чем. И пошла в газету очередная заметка, обещающая Мирону позор. Затем, в ледоход, дядя и племянник вновь случайно сошлись у реки. Мирон резал ножиком лозу и предложил родственнику побалакать насчет «брехни». Селькор со страху сам собой упал в воду, был выловлен ниже по течению бабами, чем-то поцарапал шею и в детском испуге пожаловался председателю колхоза на дядин ножик...
Взрослый Останков по пути в Ракитное называет этот пустой вроде бы случай «несчастьем». Оно выбило его из Ракитного, потому что дальше события покатились как снежный ком и по какой-то совсем неромантической дорожке: пострадавший селькор превратился в официально прославляемого героя, а Мирона арестовали, и скоро дошла весть о приговоре его... к расстрелу. Лишь через двадцать пять лет, вернувшись в Ракитное, как на суд, Останков обнаружит, что наказание свелось к десяти годам заключения...
Таким путем — через живую правду будничного случая — К. Воробьев вместе со своим героем прикоснулся к больным общественно-политическим проблемам времени, пережил их всем своим нравственным существом...
О фронтовых днях своего ровесника К. Воробьев написал две повести и несколько рассказов. «Крик» и «Убиты под Москвой» датированы соответственно 1961-м и 1963 годами. Уместно напомнить эти даты, чтобы ощутить, как и когда сделанное писателем вошло в литературу и чем для нее явилось. Повести увидели свет, когда читатель уже знал «Судьбу человека» М. Шолохова, «Спутников» В. Пановой, «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева, «Ивана» В. Богомолова и еще несколько произведений, обозначивших новый поворот в литературе о Великой Отечественной. Но не существовало в то время большинства произведений военной прозы 60-70-х годов, ставших теперь своего рода классикой. Достаточно назвать романы К. Симонова, Ю. Бондарева, повести зрелого В. Быкова, «Пастуха и пастушку» В. Астафьева, «Усвятских шлемоносцев» Е. Носова, «Момент истины» В. Богомолова, «Живи и помни» В. Распутина... К. Воробьев, бесспорно, шел в авангарде этой прозы, влиял на ее пафос и стиль.
Только две фигуры изображены в повести «Убиты под Москвой» крупным планом: командир роты кремлевских курсантов, «человек стремительного действия» капитан Рюмин и курсант Алексей Ястребов. Упоминание про деда Матвея — знак, что перед нами бывший Алешка-матросенок.
В течение нескольких дней роте суждено выйти на позиции и еще до серьезного боя попасть в окружение. Рюмин не решился отступить на основе первого устного приказа, а второго дождаться не успел. Бег времени начинает подчиняться новым — окопным — законам.
С каждым часом Рюмин все сильнее ощущает свою ответственность за роту и яростно мучается при всяком новом доказательстве ее беспомощности. Особенно волнует его состояние духа курсантов. Чтобы не растерять впустую этот дух, капитан ведет роту в ночное наступление и выигрывает первый бой.
Удача К. Воробьева состояла — помимо прочего — в безукоризненно верном, зримо убедительном раскрытии психологии конкретного человеческого решения. Не выбора, как, например, у В. Быкова, а именно решения, ответственного шага, цена которому — чужие жизни, результат — общее дело, а судья — собственная совесть.
Решение Рюмина предстает перед читательским взором как поступок мудрый и единственно необходимый. Во время отступления других частей рота победила и могла бы еще побеждать, драться. Но жизнь боевого подразделения безмерно коротка, потому что кремлевцам нечего противопоставить атаке вражеских самолетов и танков. Тема личного героического решения встречается с темой открытия социально-исторической истины и трагического освобождения от коллективных иллюзий.
«...В его душе не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны», — пишет К. Воробьев о состоянии Алексея. С каждой строкой явь войны становится в повести все более осязаемой и материально ощутимой, а герой сжимается в комок и погружается в эту явь, прозревая душой.
В повести К. Воробьева и в романе К. Симонова «Живые и мертвые» есть две близкие по фактуре и даже по настроению сцены. В небе идет воздушный бой, в нем гибнут советские летчики, а с земли в оцепенении смотрят на воздушную карусель красноармейцы. Примечательно также, что оба писателя стремятся передать смесь ненависти и отчаяния, овладевающих свидетелями поединков, и напоминают об уроках Испании.
Тяжелее всех отчаянием неудач поражен капитан Рюмин. Человек более дальновидный, нежели курсанты, он воспринимает действительность намного шире и проницательнее своих едва оперившихся бойцов. Рюмина преследует мысль, какой нет ни у кого другого в повести: он ищет виновных в том, что армия и народ оказались не готовы к противоборству с Гитлером и вдобавок встретили войну с иллюзорным самонадеянным ожиданием легких побед.
Капитан видит вокруг себя неоправданные жертвы и предчувствует жертвы последующие. Его личная оценка обступившей военной яви прорывается наружу в одной фразе. «— Мерзавец! Ведь все это давно было показано нам в Испании! — прошептал Рюмин. — Негодяй! — убежденно-страстно повторил он, и Алексей не знал, о ком он говорит».
Между тем еще более поразительно — и в этом сила художника, создавшего подвижный и объемный характер, — что Рюмин не отыскивает виноватых исключительно на стороне. Он винит к тому же и себя. Рюмин принадлежит к людям высокой внутренней чести, формулу которой позднее сжато высказал в одном из последних стихотворений А. Твардовский: «сурово спрашивать с себя». «Все, — старчески сказал он. — Все... За это нас нельзя простить. Никогда!»
В силу своего старшинства и опытности Рюмин испытывает потрясение, непонятное по-настоящему курсантам. Отсутствие у них даже мысли о чьей-то, в том числе его, Рюмина, вине за случившееся угнетает капитана, ввергает его в состояние подавленности. Смятенный и отчужденный, он посылает Алексея вернуть консервы, переданные кем-то из расположившихся рядом курсантов. Он «осипло» кричит, «скривив рот и пытаясь встать на колени»: «Отнеси сейчас же! Бегом! И никакого табака! Ничего! Они же не этим должны нас... Не этим!» Алексей идет выполнять приказание, и тут его догоняет звук «притушенного» выстрела...
Рюмина не стало. Этот человек стремительного действия не смог и не захотел пережить гибель роты, не снес открывшейся ему яви. Одновременно последний выстрел — свидетельство кровной сопричастности Рюмина жизни народа и государства. Их боль нестерпима для него.
Что касается Алексея, то ему последний выстрел Рюмина принес, как это ни удивительно, на первый взгляд, освобождение от наивности, страха и укрепил способность сурово спрашивать с себя.
Та же обнаженно неприкрашенная явь начальных месяцев войны предстает и со страниц повести «Крик», Она имеет, в сущности, две достаточно самостоятельные части. Первая — это рассказ о краткой и несбывшейся фронтовой любви лейтенанта Сергея Воронова и девушки Маринки, чей дом волею судьбы оказался в двухстах шагах от передового окопа. Вторая — это рассказ о том, как люди, подобные Кострову, Останкову, Климову, Ястребову, Сыромукову, могли попасть или попадали в плен и какую явь открывали они для себя в этом плену.
В лирической фронтовой истории — щемящей и бесхитростной, поведанной К. Воробьевым, нетрудно найти традиционные элементы, сближающие «Крик» с «Первой любовью» В. Богомолова, «Звездопадом» и «Пастухом и пастушкой» В. Астафьева и другими похожими сюжетами. К. Воробьев рисует своих героев, жаждущих любви наперекор войне и словно не желающих признать ее гнетущую близость, светло и сдержанно. Радуясь искренности Сергея и Маринки, романтической теплоте и доверчивости их отношений, автор настороженно прислушивается к звукам близкого боя, и мы вместе с ним предвидим: война вот-вот сметет все доброе, живое, запоздало и наспех прихваченное из довоенной жизни. Война словно бы мстит людям за надежду на личное счастье. Мстит с какой-то потрясающей несправедливостью и презрением к личной судьбе человека...
Смерть, смерть, смерть... По страницам прозы К. Воробьева, изображающей фашистские концлагеря, она бродит не с мифической косой, а с пулеметами, автоматами, дубинками... Ее появлению не удивляются — привыкли. Пленные хорошо знают, к чему ведет тиф, как отваливаются обмороженные пальцы, чем исчисляется время существования доходяги. Особое место отведено на этих страницах описанию пищи, ее получения и дележки. Процесс и характер еды превращаются в самые красноречивые моменты человеческой борьбы за жизнь.
Слово «немец» К. Воробьев употребляет, как и другие бытописатели войны, со специфическим для времени оттенком: солдат вражеской, гитлеровской армии. Герои К. Воробьева приобщаются к «науке ненависти» еще на фронте, а в концлагерях она преподается им в сверхдоходчивой форме ежедневно. В глазах пленных фашисты, «немцы» слились в одну безличную силу, попирающую простейшие нормы отношения человека к человеку.
В повести «Крик» Сергей Воронов, недавно захваченный противником, видит двух гитлеровских офицеров, и у него возникает незнакомое ранее ощущение, «что эти два немца похожи на нас, на людей...». Но этому мимолетному ощущению было суждено исчезнуть, испариться в концлагерном аду. Тем удивительнее и неожиданнее, что К. Воробьев счел нужным рассказать о том, как однажды к ним в барак штрафников пришел пожилой немец-охранник в русских валенках и принялся заговаривать с пленными. «Я крестьянин, понимаешь? Крестьянин», — твердил он («Немец в валенках»). А потом стал показывать отмороженные пальцы ног — такие же, как у настороженного штрафника, с которым он заговорил. Тогда его поняли. Он, Вили Броде, искал помощи и совета у истерзанных людей, лишенных всех человеческих прав. Видимо, факт, что они — голодные, избитые, раненые — все-таки живы, будил у него надежду на собственное избавление от ран и боли. Беда заставила «немца в валенках» вспомнить, что пленные — люди.
Вилли несколько раз принесет обмороженному русскому хлеба, они немного поговорят о ногах, вшах, терпении, а хлеб будет поделен между доходягами. Показывая дележку, К. Воробьев нарочито избавляет читателя от возможных романтических иллюзий по поводу мотивов действий штрафника. Но тем яснее мы видим его человеческое лицо: «...Остальное я понес в конец барака. Тут дело было не «в святом чувстве спайки» и не в моем «самоотречении», для штрафников в моровом лагере это всего-навсего жалкие слова. Тут все обстояло значительно короче — просто я знал, что после разового укуса хлеба доходяга оказывается в состоянии встать и пройти несколько шагов. Только и всего».
Вилли Броде этого не знал, просто ему было больно так же, как и умирающим в бараке. И он пришел к ним то ли за помощью, то ли за человеческим сочувствием. Вилли — всего лишь рядовой конвоир, попавший в армию по тотальной мобилизации. В своем несчастье он наивен, ибо получить помощь в обмен на хлеб было невозможно. Что касается сочувствия, то на него у штрафника Саши попросту не находилось сил. К тому же военинженер Тюрин начал что-то истерически кричать «про вражескую приманку». А Вилли Броде был вскоре арестован на месте «преступления» своим же фельдфебелем.
Несколько коротких разговоров русского пленного и немца в валенках должны казаться ничтожным эпизодом рядом е гнетущими картинами концлагерного быта. И все же К. Воробьев выделил этот неяркий промельк человеческого лица среди встреченных им «немцев».
«Иногда я думаю, жив ли Вилли Броде? И как там у него с ногами? Нехорошо, когда обмороженные пальцы ноют во весне. Особенно когда мизинцы ноют и боль конвоирует тебя слева и справа...» В этих заключительных строках рассказа, написанного с бесконечным знанием конвоя боли, видится, как нигде, и живое человеческое лицо самого писателя.
В русской прозе 70-х годов, рождавшейся одновременно с произведениями К. Воробьева и вслед за ними, есть книга, вызывающая поразительно близкие ассоциации. Это роман Виталия Семина «Нагрудный знак «ОЗТ» (1976). Материал его — несколько иной: речь идет о подростках, угнанных на работу в Германию. Быт арбайтлагеря, изображенного В. Семиным, несколько мягче быта военных лагерей. Вместе с тем общий тон и строй романа свидетельствуют о сходстве жизненного опыта и родственности его художественного осмысления.
При чтений В. Семина мне открылось, что образы его романа соотносятся также с главными жизненными переживаниями К. Воробьева, тянутся к ним через время: «Здесь были смелые я трусливые, упорные и слабодушные, штатские и военные, малолетки и взрослые, мужчины и женщины. И я. конечно, оценил и невероятную тяжесть обстоятельств, и то, что человек может против обстоятельств. И я понял собственную слабость. Но человеческая мерка моя от этого нисколько не понизилась. Ведь кто-то эти обстоятельства побеждает! Но даже если бы осуществился самый жуткий бред и только кто-то один на самом краю света ценой жизни победил бы фашистские обстоятельства, то это и было бы человеческой мерой. И о чем бы ни спорили, я чувствовал, что всегда спорят об этом — какая мера человеку по плечу».
Под впечатлением полной правды может, конечно, явиться и вопрос: кто в сколько смог? как сдюжили? где взяли меру, которая по высшему счету истинна, хотя и не всем, наверное, по плечу? К. Воробьев и В. Семин отвечают на подобные вопросы всей художественной логикой повествования, движением и развитием образов и характеров. Одновременно в художественном мире К. Воробьева, прежде всего в его сказаниях о юности «ровесников», мы находим одну из самых очевидных «подсказок» для возможного прямого ответа: героев поддерживает и спасает органическое чувство родины. Оно вынесено из глубин народной жизни, их породившей и воспитавшей. Трижды юные герои К. Воробьева уходят из отчих домов под ударами сиротства, голода и разора, болезненных социальных столкновений. Героям предстоит духовно повзрослеть и прозреть, познать горечь утрат и искренних заблуждений («Синель»), пережить социальное отчуждение, страх смерти, испытать долгие укоры совести. Но родина всегда остается с ними на торных дорогах жизни. Не случайно ведь словом о родине завершается и «Тетка Егориха» («...Камышинка — черное горе мое, светлая радость моя!..), и «Сказание о моем ровеснике» («Потом, годами позже, Алешка понял, что в жизни нельзя уйти куда-нибудь всему разом, потому что тогда не с чем будет жить памяти... Все-все это пополам с живой память» о деде осталось там, где ему и положено быть, и, причудливо-тесно вместившись в Алешкино сердце, навсегда стало для него тем, что люди извечно называют любовью к Родине...»).
В целостности художественный мир К. Воробьева — это проникновенное, исповедальное сказание о людях своего поколения, и в первую очередь — о деревенских мальчишках, ставших волею судьбы защитниками родины. На их долю выпали все самые мучительные удары и раны, какие только были возможны в те былые времена. Они прошли меж разных огней одновременно, и каждый огонь жег их в полную силу.
Оттого и правда прозы К. Воробьева — обжигает, лишает душевного довольства и покоя. Многого он не изобразил, не описал, но сказал — обо всем.
Л-ра: Дон. – 1989. – № 7. – С. 162-168.
Произведения
Критика