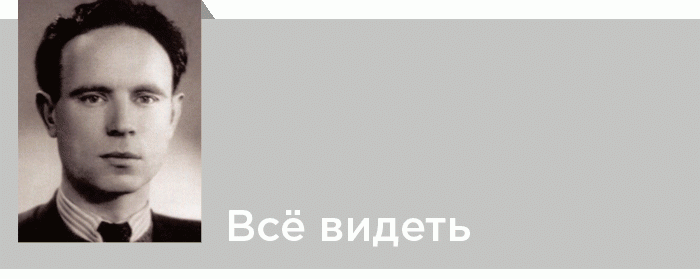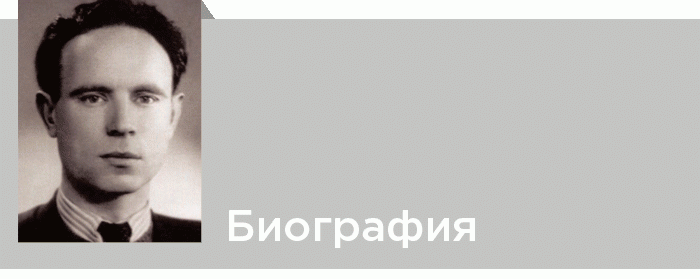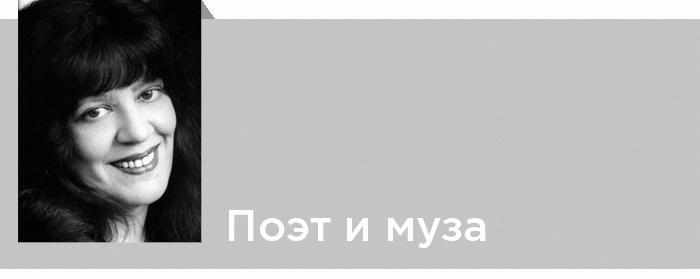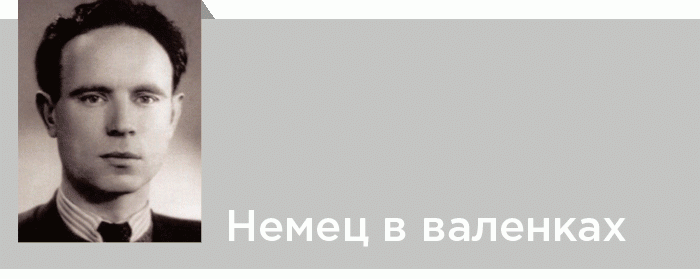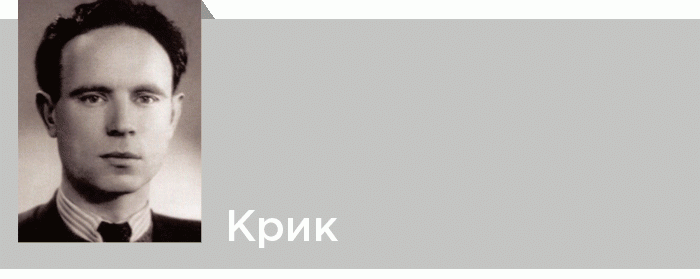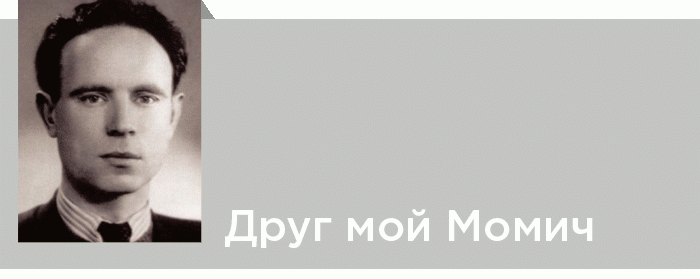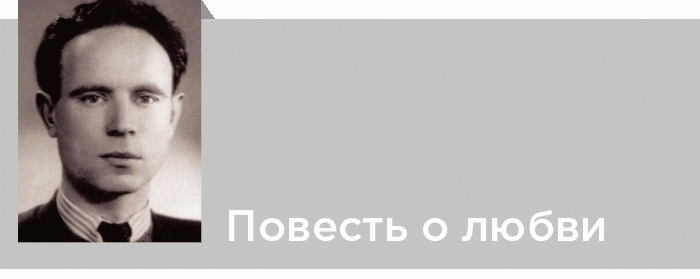Преодоление
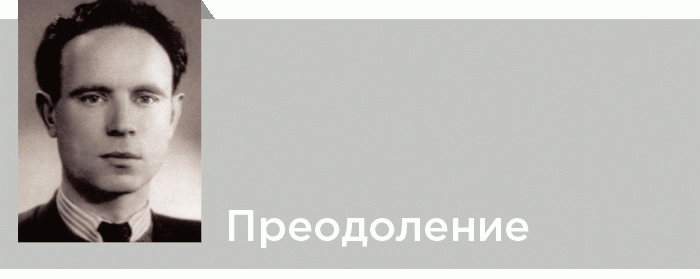
В. Камянов
Многолетний опыт нашей военной прозы удостоверяет: нет трудней задачи, чем достичь пережитую народом трагедию в красках и формах самой трагедии. И вот с архивной полки снята рукопись, ожидавшая встречи с читателем несколько десятилетий...
Под этой повестью, когда ее издадут отдельно, должны значиться три даты: 1943-1946-1986. В сорок третьем повесть Константина Воробьева «Это мы, господи!..» была написана в условиях партизанского подполья. В сорок шестом предложена московскому журналу. В восемьдесят шестом опубликована вдовой писателя Верой Викторовной Воробьевой на страницах «Нашего современника».
Появись повесть в свой срок, с ней пришлось бы считаться всей последующей литературе о войне. Правдивое яркое слово К. Воробьева могло прозвучать камертоном для писателей батальной темы, могло и несколько снизить активность тех авторов, кто смешивал прозу с наградной реляцией или беллетризованным отчетом о боевых операциях.
Однако не сработал подъемный механизм шлагбаума, который стоял на пути между рукописью и типографией. И вот что примечательно: опубликованная с опозданием на десятилетия, повесть тут же нашла свой ряд, вступив в теснейшее сотрудничество с недавними книгами о войне, которые не столько расширили, сколько углубили наше знание о ней. Но об этом — ниже.
Герои повести К. Воробьева ведут неравный бой с врагом. Бой после боя, когда в руках нет оружия — выбито или выпало, нет и силы для последнего, отчаянного замаха — истощенное, измученное тело малоотзывчиво на команды воли. Плен. Здесь, по словам автора, царит «система поддержания людей в полумертвом состоянии».
Нацисты, как известно, во всем придерживались порядка. Системы. А дело массового истребления людей — это система, взятая в ее апофеозе. Здесь, в лагерях для советских военнопленных, она вся нараспашку. Ей незачем что-то скрывать. Поэтому люди-тени, которых буквально ветром колеблет, сражаются не просто с конкретным охранником, а впрямую с дьявольской сутью системы.
В повести никому не приходит в голову выставлять против коричневой доктрины рациональный аргумент. Не до того. Да и суть доктрины обращена к узнику не казуистическим доводом, а пулеметными стволами с вышек, бельмами барачных окон, оскалом орущего охранника. И на внятную ему, обнаженную суть системы узник отзывается предельным напряжением нравственных сил.
Можно было бы сказать о всепоглощающей ненависти к мучителям, если бы ею дело исчерпывалось. Для страдальцев из повести К. Воробьева их собственная ненависть — добавочный груз, давящий на душу. В лагерном аду они бессознательно ловят моменты внутренней свободы, раскрепощенности от постоянных спазмов ненависти, ибо тут с пронзительной резкостью проступила первооснова вещей: никаких ложных авторитетов, этикетных норм поведения. Мир безусловен. Таким его и стараются разглядеть, пока свет не померк.
Центральное лицо повести лейтенант Сергей Костров и его товарищи, для которых любая минута может оказаться последней, зорко вглядываются в окрестный мир. Заново распознают повадки природных стихий и готовы, если удастся, привлечь их себе в союзники.
Ржевский лагерь. «Низко плывут над Ржевом снежные тучи-уроды. Обалдело пялятся в небо трубы сожженных домов.
Ветер выводит-вытягивает в эти трубы песню смерти. Куролесит поземка по щебню развалин города, вылизывает пятна крови... Глотают мутные сумерки зимнего дня залагерную даль. Не видно просвета ни днем ни ночью».
Ни одна из вовлеченных в эту картину земных или небесных стихий не готова поддержать узников: ветер выводит заупокойную мелодию: поземка, подобно псу, слизывает с земли кровь; сумерки не дают простора взгляду, нагоняя еще большую тоску на лагерника.
Вяземский лагерь. «За городом, в дымке утренних паров, вставало хохочущее до дрожи в лучах молодое весеннее солнце. Его появление каждый день встречали пленные, выстроившись по пяти». Добавим: встречали с надеждой, ибо хохочущее солнце сулило узникам «великую возможность смыться».
Побег из эшелона на путевом перегоне. «Упругим резиновым животом навалился ветер на Сергея, отталкивает его от двери, баюкает-качает по стене... Удивленно пялится видавший виды месяц на змеей извивающийся несущийся состав». Месяц тут хранит нейтралитет. Он соглядатай. А вот напружинившийся ветер — противник-союзник: он качает, относит, но и помогает телу сгруппироваться перед прыжком. А после падения, удара о землю человеку надо подняться. Это совсем не просто.
«Сергей долго лежал не шевелясь»...
«Может быть, это жизнь мертвого?..»
«В земле я... зарыт!..» Сознание пока не нащупало опор, «раскачивается» между там и здесь, творя для себя подсобную легенду. Отчасти утешительную. А утешение в том, что небытия словно бы и нет, поскольку всему начало — душа, у которой истощенная плоть на полном обеспечении; упорство же души тут таково, что верится: она и зарытого поднимет.
Читателю повести открывается стремление узников — перебороть давящую тяжесть, встать в рост. Недремлющая воля отдает команды телу: после удара — подняться: если непослушна онемевшая нога, передвигать ее руками: если засасывает болотная топь (есть такой эпизод в главе о Побеге) — доползти до вывороченного корня, а там уже по вершку вытягивать себя из хляби на твердое, где можно распрямиться!
За ближним планом реалистических картин здесь различимы очертания обобщенного, почти мистериального сюжета, где идет спор мирообразующих стихий и где четко обозначены верх и низ человеческого бытия.
Не странно ли для той суровой поры расслоение художественной мысли на ближний и дальний планы, ее отход от канонов очерковой оперативности в прозе? Но, с другой стороны, сколько же может ждать жгучий трагический материал, пока созреет художественная мысль, способная взаимодействовать с ним, подставить ему огнеупорную «форму», мимо которой он не прольется?..
Оказалось, не такой уж это непреложный закон, будто потрясение должно сперва улечься и лишь спустя время искусство не спеша разберется в случившемся. К. Воробьев ждать не мог: жгло! И одолевал, казалось бы, неодолимое сопротивление материала, его центростремительную силу, шоковое воздействие на «нормальную» творческую мысль.
Вот, к примеру, как встретили пленных в каунасском пересылочном лагере: «Еще не успели закрыться ворота лагеря... как эсэсовцы с нечеловеческим гиканьем врезались в гущу пленных и начали убивать их. Брызгала кровь, шматками летела срубленная неправильным косым ударом лопаты кожа. Лагерь огласился рыком осатаневших убийц, стонами убиваемых, тяжелым топотом ног...» Тут надо перевести дух и спросить, не превышает ли давление таких кошмаров подъемную силу искусства. Силу искусства Константина Воробьева нет, не превышает.
Бросив взгляд на соседнюю страницу, найдем описание природы:
«Бархатистыми кошачьими шагами неслышно подкрадывалась осень. Выдавала она себя лишь тихим шелестом засыхающих кленовых листьев да потрескиванием стручков акаций. Исстрадавшейся вдовой-солдаткой плачет кровавыми гроздьями слез опершаяся на плетень рябина, хрустит по утрам солнце, встающее закутанным в шелковый сизый шарф предосеннего тумана...»
Рябине, растущей неподалеку от лагеря, есть, конечно, о ком скорбеть. Но эта пейзажная зарисовка нам сейчас интересна не только ее отзывчивостью на разлитое вокруг горе. Нашему вниманию открывается и момент раскрепощенности человеческой души, столь интимно воспринявшей природу, ее неравнодушие к людским бедам и вместе привычную замкнутость нрава: кошачью повадку осени, утреннюю грусть солнца... А по весне, как мы помним, оно хохотало до дрожи лучей: чуть позднее месяц будет удивленно пялиться на змеящийся эшелон с военнопленными.
Все это — стихии-соглядатаи, отчасти союзники пленных. И собеседники, с которыми душа узника переговаривается на равных, положив между собою и лютым врагом целое пространство живой, всегдашней жизни. Враг, вооруженный автоматом ли, лопатой или вальтером, заталкивает узника в карцер, вонючую теплушку, пыточную камеру, но того не ведает, что для несломленной души узника он, охранник или гестаповец, — нежить, упырь, принесший в многокрасочный всегдашний мир небывалую лютость, уродство, смрад.
Ведь война и впрямь идет мировая, ею возмущен весь обозримый мир, и первостихиям, его образующим, небезразлично, на чью сторону склоняются чаши весов... Так вдобавок к обычным, рациональным обоснованиям нашей правоты и убежденности в победе прибавляются аргументы обобщенно-поэтические; рвущие душу подробности пыток, измывательств над людьми не выламываются из эстетического ряда, не образуют отдельной хроники ужасов, ибо велика власть художественной системы над любым из ее элементов, надежен запас прочности «формы». Часть или частность здесь живет по законам целого.
В ту же военную пору, когда во вражеском тылу работал над своей повестью Константин Воробьев, замечательный советский прозаик Андрей Платонов создавал одна за другим необычные рассказы-фрески, где даже оседлый человек кажется вечным путником и печальником за всех страдальцев и увиден он словно сквозь дымку легенды.
Как ни широко прокатывалась по нашей земле волна нашествия, люди Платонова помнили, что Жизнь шире, и, оглядывая ее просторы, по-своему объясняли главные цели иноземца. Враг, с их точки зрения, — негодный для жизненного дела человек, «а жить ему хочется больше годного... Вот негодный и нашел себе идею: опростать землю от людей, чтоб их малость осталось...» («Среди народа»).
Проходя прямым и коротким путем к тайному желанию врага, они смахивают прочь словесную мишуру, которая служит сокрытию правды. Но не странен ли в такую-то пору сам неспешный сказовый лад их мыслей и речений? Не слишком ли замедленны ритмы их внешних и внутренних движений?.. О человеке, принявшем решение погибнуть, но отомстить фашистам за своих близких, читаем: «Он шел одиноко в тихом сознании, понимая мир вокруг себя как грустную сказку или сновидение, которое может навсегда миновать его» («Седьмой человек»). Требовались и творческая смелость и вера в право искусства пересоздавать по своим законам реальность, чтобы вместо привычного «он преодолел открытое место где ползком, где перебежками» или «прячась за кустами и стараясь не потревожить даже ветку» написать: «Он шел одиноко в тихом сознании...»
Удивительно ли, что рассказы А. Платонова, откуда мы сделали выписки, смогли увидеть свет (как и повесть К. Воробьева) через годы после смерти автора? Понятно, что время суровых испытаний требовало и от умов четкой уставной выправки и, скажем, журналисту, редактору, издателю внушало недоверие к тем литературным текстам, где есть «неподражательная странность», вроде бы не запрошенная текущим моментом (совсем особый разговор, что уставная выправка и четкий дисциплинарный навык способны сделаться второй натурой редактора или издателя, определив на десятилетия вперед их вкусы и предпочтения).
Но, с другой стороны, кто-то должен и в суровую, лаконичную пору улавливать трудноуловимое — многие духовные аспекты народной трагедии, до которых в самый разгар событий у оперативной, по-военному подтянутой литературы руки, что называется, не доходили. Позднее эти аспекты будут оценены, увидены, но ведь сквозь толщу времени...
Одно из самых употребительных слов в прозе Платонова начала 40-х — «душа». И стоит оно обычно в полулегендарном или сказовом контексте. Вот — о центральном персонаже «Седьмого человека»: «Уже душа его — последнее желание жизни, отвергающее гибель до предсмертного дыхания, — уже душа его явилась наружу из иссохших тайников его тела, и поэтому лицо его и опустевшие глаза были столь мало одушевлены какой-либо жизненной нуждою, что не означали ничего, и нельзя было определить характер этого человека, его зло и добро, — а он все жил». Кстати, герой «Седьмого человека» рассчитался с врагом, метнув гранату в охрану лагеря для военнопленных, где у него на глазах забили до смерти двух красноармейцев, «столь исхудалых, ветхих и равнодушных, что они казались уже умершими».
Видимо, не случайно перед мысленным взором невоевавшего А. Платонова вставали картины лагерного ада и ему важно было сказать об уделе миллионов великомучеников войны — узников нацизма. Не случайна и заметная стилевая близость лагерных картин у Платонова и К. Воробьева, который чудом выбрался из той костоломни. Оба мыслили о человеке, поставленном на самый край беды, когда душа с телом расстается, мыслили о душе, явившейся «наружу из иссохших тайников его тела».
Только у К. Воробьева обнаженная душа человека полна открытой, жгучей ярости к мучителям, а страдающий человек А. Платонова вроде бы не спеша обдумывает свое страдание, и чувство гнева рождается у него из глубины печали.
При всем различии тона и манеры двух художников-современников, старшего и младшего, оба видят войну не просто в упор, когда невозможно отвести взгляд от ее оскала, а как бы сквозь толщу большого Времени и совокупного людского опыта. Вернее — ив упор и с некоего философского отдаления, умея заручиться поддержкой вечной Природы, опереться на нравственный опыт поколений. Выставив против грубой силы врага концентрированную силу духовности, они судят его «по мировой правде» (характерное определение Платонова).
Через тридцать с лишним лет после Победы Виталий Семин, некогда, еще подростком носивший лагерную робу с нагрудным знаком «ОЗТ», скажет в одном из автобиографических романов о том, что больше всего давило на душу там, в арбайтслагере. По Семину, самым невыносимым для души было глумление охранников, надзирателей, прочих слуг «нового порядка» над здравой нормой и смыслом: в перекошенном, съехавшем с привычных опор мире человек испытывал моральное удушье.
Не оттого ли и в военную пору самобытные художники, избегая стереотипов, создавали свои вещи крепко и надолго, что гармонический лад искусства — очень веское возражение абсурду и хаосу? Музы, которым, согласно давнему афоризму, надлежит умолкнуть, когда заговорили пушки, сохраняли верность себе, не исключая из своего обихода ни сложных поэтических иносказаний, ни тонкой пейзажной символики.
Строгой слаженности повествовательной формы отвечает у К. Воробьева и внутренний склад, моральная и волевая выправка персонажей...
Саласпилсский лагерь командного состава. Сергея не оставляет идея побега. В уме он производит расчеты: сколько заключенных может уцелеть и вырваться на волю, если все разом, по сигналу, бросятся на проволоку. Своими расчетами Сергей намерен поделиться со старшим по годам и званию — седоголовым иссохшим стариком со знаками различия полковника. Собственно, поделиться он готов не только расчетами, но и пайкой хлеба («Вы, наверное, умрете завтра, если не дать вам сейчас кусок хлеба... Я умру через месяц... потому что только пять дней тому назад пришел сюда»). Ответ седоголового на цифровые выкладки: «Нет. Я думал... Идите». «Но почему же нет?»
Ответ полковника лаконичен — будто в оперативной обстановке. Оказывается, старик полковник уже все продумал и высчитал: скорострельность пулеметов, время, потребное массе полуживых пленных, чтобы преодолеть несколько рядов проволоки. «Следовательно, — подводит итог полковник, — сто двадцать пуль... на каждого. Идите...»
Полковник, можно сказать, на последней, верхней ступени трагедии, Сергей Костров ступенью ниже. Младшему еще какой-то шанс дает молодость, в руке у него — пайка, в голове — план побега, пока лишь черновой, предварительный расчет. У старшего нет ни хлебной корки (на предложение хлеба — никакого отклика), ни запаса сил, ни запаса времени. Все расчеты он уже закончил.
В его распоряжении только жест, за которым почти нестерпимо следить — так он четок в своей трагической завершенности, — жест укрощенного отчаяния, холодного достоинства перед неизбежным.
Старик целиком — в себе. Двукратным «идите» он отсекает, перечеркивает чужой, еще неполный расчет, а значит, и новую зыбкую надежду.
Лаконизм, строгость образных решений К. Воробьева сродни сдержанному жесту седоголового узника.
Больше старому полковнику не уделено ни строчки. Но на другой день при лагерной перекличке прозвучат одна, другая, пятая фамилии. «Умер... умер», — отзовутся из строя. Скорее всего, и фамилия старика — в том же скорбном ряду.
Вообще этот тип молчальника с твердо очерченным ртом и всегдашним выражением внутренней собранности был писателю особенно близок. Достаточно вспомнить капитана Рюмина из повести «Убиты под Москвой» (1963). Он, можно сказать, того же состава крови, что и немногословный седой полковник. Командир роты кремлевских курсантов Рюмин или, вернее, строевой офицер рюминской выправки стал еще до плена образцом и героем для кремлевского курсанта Воробьева. И в тяжких лагерных испытаниях Сергей Костров, доверенное лицо писателя, старался держаться поближе к людям рюминской закалки. В ржевском лагере это доктор Лучин; в вяземском — капитан Николаев, упавший замертво после удара эсэсовской лопаты; в саласпилсском — седоголовый полковник; в паневежисской тюрьме — замполитрука Устинов.
До повести «Убиты под Москвой» еще далеко — два десятилетия. Но, читая первую вещь К. Воробьева, видно, как исподволь прорисовывается рюминский высокотрагедийный характер, который позднее соединит штрихи и черточки несгибаемых стоиков и молчальников из ранней повести.
Теперь открылась возможность проследить, как вызревал этот художественный тип, полнее всех остальных выразивший единство воробьевской этики и эстетики.
...Вы умрете завтра, я через месяц, поэтому... Люди готовы поделиться последней пайкой и, в сущности, измеренным остатком жизни. Тут — торжество почти легендарного стоицизма, тут сама смерть попирается человеческим достоинством. Честью. Законом товарищества. Но от каждого ли мы вправе ждать, а тем более требовать стоицизма и легендарных доблестей (если от самих себя — возражений не будет)? Как, например, приложить шкалу моральных оценок к тому эпизоду, где охранники, продержав пленных без пищи двенадцать суток, на тринадцатые загнали в лагерь раненую лошадь?..
Толпа обезумела, бросилась к «несчастному животному, на ходу открывая ножи, бритвы, торопливо шаря в карманах хоть что-нибудь острое, способное резать или рвать движущееся мясо. По образовавшейся гигантской куче людей две вышки открыли пулеметный огонь...» Таким вот образом развлекалась лагерная охрана, провоцируя массовое безумие и попутно самоутверждаясь, потакая своему расовому высокомерию.
Способна или нет волна голодного безумия захлестнуть друзей Сергея Кострова, с которыми он вынашивал планы побега? Соглашаться с таким допущением досадно, начисто его отвергнуть значит поддаваться прекрасномыслию: запасы человеческого самообладания не беспредельны, и никто не застрахован от помрачения, срыва, когда напрочь отказывают тормоза. Во всяком случае молодой К. Воробьев отлично сознавал, что действия голодной толпы вне моральных оценок — как любой взрыв стихии.
Человек в подобных условиях обычному этическому суду неподсуден. Подсудна система, которая их создала.
У К. Воробьева человек, униженный, а подчас надломленный пленом, бывает и персонально повинен: кто-то у таких же, как он, заключенных утянул из-под рук спасительную пайку, кто-то, страшась последствий, пробовал помешать побегу... О подобных случаях рассказано как бы вскользь, без нажима на состав моральной вины: раз вина, значит, отступление от нормы. Но по-людски ли это — взыскивать с полутрупа норму?..
Лев Аннинский, размышляя над «Карателями» А. Адамовича, приходит к очень существенному заключению: «Фашизм сделал капитальнейшее открытие: оказывается, есть грань физических мучений, за которой дух нормального, среднего человека разрушается необратимо».
Такую способность фашизма К. Воробьев осознал уже тогда, в 1943-м, но отказался отнестись к ней фаталистически. Его Сергей Костров умеет очень точно угадать грань, за которой «среднего человека» ждет распад личности, а угадывая критическую минуту, пробует помочь сокамернику, удержать его на грани.
В военной прозе К. Воробьева особенно рельефно обрисованы два человеческих типа. Во-первых, командиры рюминской закалки. О них у нас уже шла речь. Это не просто образцовые офицеры, но люди высочайшей нравственной пробы и, скажем так, собственной духовной выковки. Это бессменные правофланговые... Во-вторых, свежеиспеченные лейтенанты вроде Алексея Ястребова («Убиты под Москвой») и Сергея Воронова из повести «Крик» (1961), которому, кстати, отведена эпизодическая роль и в повести 1943 года. Это нормальные жизнелюбивые юноши с ясным светом в душе, еще не отвыкшие видеть мир сквозь дымку отроческих мечтаний.
Но они уже слышат глухое содрогание передовой, догадываются о приближении схватки со смертью и глазами ищут старшего по опыту. По степени зрелости. И если Рюмин у К. Воробьева, резко возвышаясь над общим уровнем, окружен трагическим ореолом, то об этих полуоперившихся ребятах рассказано с чувством братской нежности.
Вообще интонация любви к тем, кто в бою ли, в испытаниях плена оказался рядом с центральным героем, много значит в атмосфере произведений К. Воробьева, а среди них и ранней повести, где стилистически воплощена и господствует энергия, разрыва пут, проламывания сквозь заслоны, лагерные ограждения — к свету. Но не за себя одного рвется отплатить врагу герой повести, вступить с ним в новый бой — за друга своего!
Нота любви, сердечной приязни к товарищам, соузникам прослушивается от первой до последней страницы повести. Примечательно, что в ее заголовке вместо канонического «Это я, господи!» стоит: «Это мы, господи!..»
Заголовок не одних, многими корнями уходит в толщу повествования. Не сразу и скажешь, какой из корней глубже. Выражено тут духовное сверхусилие — перебороть смертную тяжесть, встать перед миром в рост. Но только ли это?.. Когда К. Воробьев писал в оккупированном Шяуляе свою первую повесть, еще очень было далеко до торжественных мемориалов, которые возведут на месте бывших лагерей уничтожения, возле массовых захоронений пленных или замученных мирных жителей. Причем в большинстве таких памятников будет угадано это воззвание жертв к небу, к верховной справедливости, жест безвинно загубленных, не услышанных в их смертной муке. Жест проклятия палачам.
То есть будет угадано движение душ, воплощенное в атмосфере и стилевом напряжении повести К Воробьева, где рассказано о людских страданиях, которые буквально к небу вопиют.
Что же до палачей, их место — на периферии повествования.
К. Воробьев с большой неохотой позволяет врагу занять, нет, не центр — второй план эпизода. Ничего удивительного: война еще в разгаре, и где найти силы глядеть не только на их лица — на мундиры? Но начинающий писатель К. Воробьев уже догадывался, что, лютуя, глумясь над безоружными, опьяняясь властью, враги зализывали какие-то свои зудящие болячки, себя вытягивали из праха и ничтожества.
Значительно позднее, поближе к нашим дням, такие художники, как В. Быков, В. Семин, А. Адамович, вплотную займутся и анатомией палачества и анатомией предательства. Особенно интересны наблюдения А. Адамовича, который решительно взломал перегородку между явным и скрытым — между разбойной практикой нацистов, их барабанной фразеологией и той адской кухней инстинктов, загнанных в глубь темных прорывов, откуда «наверх» поступают распорядительные сигналы.
На примере Главного нациста с его «космическими» галлюцинациями автор «Карателей» показал, на каких кислых дрожжах поднималась коричневая идея. И на какую почву она упала (еще Томас Манн писал об «ужасных жертвах, непрестанно приносимых фатальной психике этого человека»).
Полудеклассированное охвостье, социальные подонки, составившие ядро штурмовых отрядов, получали шанс выбраться в первые ряды, убежать с последнего места. Возвыситься под знаком свастики. Они и побежали, ринулись в кованых сапогах — захватывать чужие земли.
В послевоенном рассказе «Немец в валенках» К. Воробьев нарисует портрет одного из завоевателей, который больше не мог бежать вперед — сильно пострадал в подмосковных снегах. По весне у него огнем горели обмороженные ноги. И, как видно, в кругу своих он не сумел найти ни понимания, ни товарища по несчастью. Нашел подобного себе инвалида среди русских пленных. Стал даже понемногу подкармливать его, пока начальство не заметило.
Тут взгляду К. Воробьева открылось одиночество страдания, когда врагу не до расовой спеси и он уже, по сути, демобилизован собственным недугом. Готов брататься с другими скорбящими.
Но психологический интерес к врагу или, вернее, к немочи врага, вернувшей ему человеческий облик, пришел, повторяю, позднее, когда стало возможным оглянуться назад, не раня взгляда о мышиные мундиры. А тогда, в 1943-м, писателю было ясно, что орда, нахлынувшая на его землю, грозит ввергнуть мир в кровавый хаос, пытается отменить не только гражданские, политические установления, ненавистные нацизму, но и весь сложившийся миропорядок, весь нажитый поколениями нравственный опыт.
Все это сумел осознать начинающий художник, противопоставив разрушительной силе нашествия силу духа и воли тех, кого как будто уже подмяла под себя нацистская машина уничтожения.
Нашей военной прозе понадобилось немало времени, чтобы рассказать о трагических событиях 1941-1945 годов в красках и формах самой трагедии. Воссоздать художественно ее масштаб. Такие краски и формы нашли, например, Семин в автобиографической дилогии, Гранин и Адамович в «Блокадной книге», В. Быков в своих лучших повестях, Адамович в «Карателях», В. Кондратьев в «Сашке» и «Селижаровском тракте».
Повесть «Это мы, господи!..» займет достойное место в этом ряду.
Л-ра: Новый мир. – 1987. – № 5. – С. 253-258.
Произведения
Критика