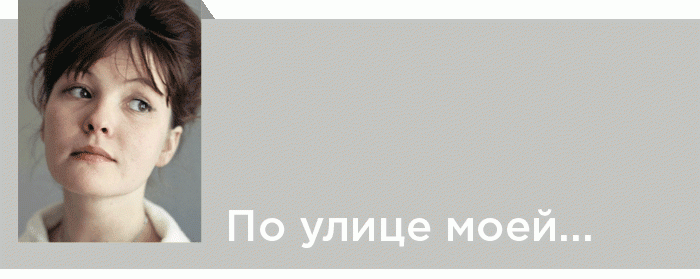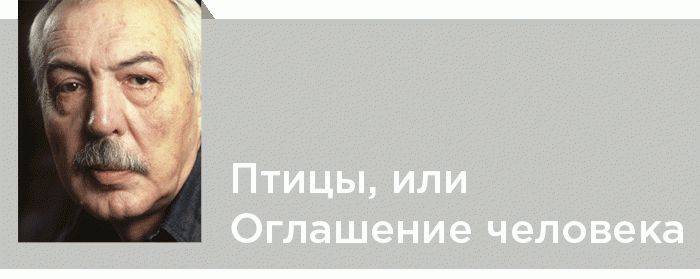Право на ответ

Маргарита Хемлин
Две новые книги Андрея Битова нужно читать как одну. То есть не разделяя. Которая из них будет первой — неважно. Неважно, с какой страницы начать рассматривать знакомый альбом с фотографиями, иногда повторяющимися и именно оттого особенно трогательными... Вот и выплыло старое слово, которого теперь почему-то стесняются. Конечно, не без сентиментального налета это слово — «трогательно». Но точнее не придумаешь: тронуть, задеть, сделать причастным.
О писателях говорят иногда — мастер закручивать сюжет. Битов не мастер сюжет закручивать. Он мастер сюжет не замечать. Сюжет есть, налицо, как говорится, — и в то же время его нет, нет внимания к нему... И оттого так свободен автор в выборе — слова, времени, места.
«Что за незадумчивая власть врожденного образа... Будто человек, родившись, раз и навсегда отпечатал первое впечатление на младенческой сетчатке, оттого именно такой потом выткет ковер, именно так построит дом, именно такую выкует решетку, именно такой получит кладбищенский крест. Эта цельность натянута в нашей душе и поет как струна: вы слышите родную песню, и слова ее — вы» («Город», «Грузинский альбом»).
Вот в чем дело, оказывается: «незадумчивая власть врожденного образа», — и значит, все уже однажды запущено в движение, и уже не «врожденного образа» власть, а власть движения захватила вас... Читатель в своем всегдашнем желании угадать, «выдумывает — не выдумывает», легко попадается на удочку именно писательского вымысла. Даже не вымысла — сноровки, или того, что принято называть профессионализмом: выдумать так, чтобы поверили, и сказать правду с таким незаинтересованным видом, чтобы сказанное правдой не показалось. И, как ни странно, чем настойчивее какая-то особая, авторская правда повторяется, тем менее узнаваемой она становится. Тем меньше ее хочется узнавать. Я говорю не о той категории сообщений, которые можно разнести по графам «можно — нельзя», я говорю о способности писателя «видеть изнутри себя», говорить «изнутри», на своем материале, откровенно.
В сущности, писатель — это человек, который всегда ставит опыты на себе. Хороший писатель.
Человеческое существование делится на два периода — запоминание и забывание. И если равновесие этих процессов нарушается, в человеке происходит слом. Поэтому он занят поддержанием абсолютного здоровья своей памяти. В ней — все. Из написанного Битовым в двух книгах, для меня по крайней мере, совершенно очевидно, что ни запоминать, ни забывать сам человек как раз-то и не волен. Он сам мешает себе в этом. Слишком старается хорошо это делать. А что-то тем временем уходит... Что-то главное ускользает и из памяти, и из жизни. Писатель занят не столько удержанием «главного — уходящего», сколько вообще его определением, поиском.
«Так я иду и что запомню, а что забуду из настоятельно подступивших ко мне дел. Я не забуду и забуду про масло, гвозди, молоко, стиральный порошок, керосин, про один звонок по телефону, два визита и три прощания... но я наверняка забуду о том, что вокруг меня происходит жизнь с погодой, прохожими и облаками, что сам мчусь в этом потоке, подсвеченном солнцем во имя моих глаз, что мне будет когда-нибудь «мучительно больно за бесцельно прожитую» именно эту секунду, — потому что, забуду или не забуду я ту или иную завитушку своего долга (кем предъявленного?), я все равно занят незабыванием, а не настоящим мгновением, которое тем временем неотвратимо прошло мимо, и это уже не восстановишь — навсегда» («Судьба», «Грузинский альбом»).
Мучительное стремление человека непременно все оформить словесно. Объяснить бесповоротно, без возможности к отступлению в непонимание или двусмысленность. И непреложность «жизни с погодой» перекрывает общую умеренность климата уже тем, что погода — сейчас, сегодня, а климат — вообще.
Битов ставит опыты на себе. Это понимаешь по тому, как ему больно «договариваться». Не в смысле «до точки», «выговариваться», а как больно участвовать ему в улаживании, в сговоре, приводить все к общему согласию, когда вместо множества голосов возникает один. И в «Грузинском альбоме», и в «Статьях из романа» мы встретим одну и ту же главу, названную по-разному: «Вопрос Иванова» и «Вопрос читателя», где некий Иванов из Козлова спрашивает: «Почему в прошлом веке были гении, а сейчас нет? и почему хорошие наши писатели так мало написали? не только хуже, чем гении, но и меньше? почему даже плохие писатели, которые пишут как попало, не могут написать столько же, сколько написал гений? Все это мне кажется одним вопросом... Когда я его задаю, все мне отвечают одним и тем же: «Но ведь это же всем известно» — «Но я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь, кроме меня, задавал подобный вопрос»,— говорю я. «Потому и не задают, что нечего и задавать, раз всем известно», — отвечают мне. Тогда я говорю: «Что — известно??»
Тут меня обычно посылают. И тогда возникает даже третий вопрос: почему, если это всем известно, никто никогда никому не объяснил это в первый раз?»
И все было бы гораздо спокойнее и скорее улаживалось, если бы речь шла только о писателях и книгах. Если бы вместо «это» и «этого» удалось бы подобрать какие-то более определенные слова, вопросы Иванова (будем пока считать, что он их задал) были бы решены. Андрей Битов занят поиском эквивалента слову «это». Но в том-то и трудность задачи, предложенной читателем из Козлова, что ни слова, ни понятия, способного заменить «это», нет, «это» и есть пресловутая договоренность — между своими, между нами, людьми, договоренность не посягать на недоговоренность. Здесь нужно сказать правду, о которой условились вообще не говорить. Сказать — произнести вслух, своим голосом. Читай: собой. Снова — опыты «на своем материале».
Нет, не случайно вопрос Иванова звучит в двух книгах, он лишь оттеняет сходство и различие контекста, в который помещен. В «Статьях из романа» еще есть маленькая надежда, что Иванов спрашивает только о литературе и вопрос его — вопрос «местного» значения. В «Грузинском альбоме» такой надежды автор нас лишает. «Я выходил из-за своей непишущей машинки и сразу, за порогом, оказывался там, где писать нечего и незачем, потому что достаточно видеть, видеть и благодарить судьбу за то, что даны глаза и дано глазам...» («Птицы, или новые сведения о человеке», «Грузинский альбом»). Когда писатель выходит из-за рабочего стола и уже на минуту ли, на час ли становится «не писателем» (как ему кажется), но продолжает мыслить как писатель (а иначе быть и не может), становится очевидным, что нет вопросов только о литературе. И если в «Грузинском альбоме» — размышления человека, идущего по дороге, то в «Статьях из романа» — раздумья человека за письменным столом. Но перед писателем то же окно, и вид из окна прежний — на дорогу. Так же, как в «Грузинском альбоме», за стеклом далекого окна виделись книжные полки. Две книги — попытка привести в соответствие (не согласие!) себя с собой — идущим и собой — вспоминающим о той же дороге.
Когда человек — не писатель — часто повторяет одну и ту же фразу, мы говорим, что произносимое — его кредо. Если писатель часто возвращается к одной и той же мысли, мы говорим — повторяется. Почему повторяется? А если назвать это любимой темой? Как же от нее уйти, если любимая? Имеет писатель на это право? Вспоминается один из ранних рассказов Битова — «Пенелопа». Герой в темном зале кинотеатра успевает прожить целую жизнь, новую свою жизнь, придуманную им там же, в темноте перед полотном экрана, повод — случайная (снова случайная!) встреча-столкновение с девушкой, сидящей сейчас рядом с ним в зале, еле рассмотренной перед началом сеанса в плохо освещенной подворотне. На свету — все не так. Но уже какие-то слова сказаны, и герой начинает врать своей неожиданной спутнице, повторяя: «Найди меня». И она обещает найти. И, уже говоря это, оба знают: ничего не будет. Конечно, рассказ из начала шестидесятых менее всего вписался бы в названные книги. Время не то. Но именно в нем и было начало «любимой темы» Битова: непрощение случайного обещания. Мучает и то, что обманул, но еще больше — что поверили. Уже тогда Битов писал о том, что могло было быть. Добавив к этой фразе «если», получим традиционную схему под названием «такая вот жизнь». Но именно «если» и нет, просто — могло, да не случилось.
Многое существует благодаря тому, что «можно допустить», «предположить». Битов любит «допускать». Он «предполагает», что могли бы существовать рассказы, которых он не написал. И тем яснее, что они не напишутся никогда, и сам он говорит о них: «вот какой рассказ я не написал»... «Не написал» — и тем уже все решил для себя. Но не для нас. А «мог бы» получиться рассказ, к примеру, о Ное и о потопе. Но Битов не пишет его, он дает как бы его конспект. И заключает: «...согласись, это смешно: прятаться от бомбы, когда грядет потоп, рыть яму, когда надо строить лодку... И знаешь, что, на мой взгляд, самое удивительное? Что люди об этом всегда знали. Они всегда знали о грядущем потопе, но боролись только с придуманными, собственноручными, так сказать, обстоятельствами, как раз реальность обволакивая оболочкой мифа...»
Интересно получается: нет у Битова рассказа — и все-таки есть. Потому что мы об этом узнали. Друг рассказывает другу о том, что он смог бы... И в этом — не прием и даже не стиль. В этом — принцип Битова из «Грузинского альбома» и «Статей из романа».
Романы пишет писатель и тем отгораживается от возможного отождествления себя со своим героем. Статьи пишет автор. И мысли в статьях, только ему принадлежащие по законам жанра, не свалишь на лирического героя. В статье его просто нет. В двух названных книгах есть Андрей Битов, и вполне можно было бы назвать их публицистическими, если бы вообще захотелось подыскивать подходящие названия, кроме одного — «проза».
Битов ощущает «власть врожденного образа» и не хочет от нее освобождаться. (Не так ли в давней «Пенелопе»: пока зажжется свет, пока зажжется...) Но если все-таки образ владеет писателем, то и он им владеет, потому и необязательна конкретика сюжета, достаточно «допустить» возможность даже не обстоятельств — времени на обдумывание, места для мысли — и можно приступать к поискам ответа. Но Битов пока не отвечает. Ему гораздо интереснее, нужнее ответ искать, быть занятым этим. И в «Грузинском альбоме», и в «Статьях из романа» — более чем где-либо ранее. Потому он обращается и к чужому опыту, вернее — опыту чужой жизни. Именно в смысле «ум — хорошо, а два — лучше», а не для увеличения площади для проведения опыта. Все равно — на себе. Он обращается к людям, реальность существования которых непреложна, так как они живы: Грант Матевосян, Отар Иоселиани, Эрлом Ахвледиани, Тимур Пулатов; и к жизни, реальность которой тоже непреложна: настолько уже эта жизнь — памятник (память?) — Пушкин. И, обращаясь, Битов уверен — они помогут. Наверное, это главная уверенность для ищущего ответ. В конце концов он не только для себя старается. Скорее — для нас. Ведь если взялся искать ответ (слова для ответа), сам-то уже понял «это» и только за словами дело стало.
Пора бы сформулировать, точнее — попытаться сформулировать, о чем две книги А. Битова. Тянет сказать избитое — «про жизнь». И тут же хочется добавить — о культуре. Но о ней, о культуре, пишутся исследования, монографии. Статьи, не романы. Но тем не менее эти книги о жизни в культуре, о существовании человека в стихии культуры и о его способности или неспособности добывать себе пропитание, хлеб насущный с поля, единственно плодоносящий слой которого и есть слой культурный. «Культура — это особое отношение к другому, внешне не своему (человеку, природе, в том числе и к материальной культуре), отношение к другому по крайней мере и хотя бы как к ценности (в том числе и другая, «чужая», личность есть ценность). При таком взгляде проблема культуры окажется прежде всего этической, а потом уже эстетической, а всей-то этики окажется: отдать больше, чем взять».
А как же все-таки объяснить то, что никто никогда не объяснял «в первый раз», но все знают? Весь сыр-бор разгорелся не из-за «незнания», а из-за «непроизнесения». Что ж, отправляться за «мыслью изреченною»?..
От написания «Ахиллеса и черепахи» до «Предположения жить» прошло достаточно времени. Битов хотел переложить часть ноши на Леву Одоевцева («Профессия героя»), но он, герой, был выдуман и потому больше делал вид, что несет, чем действительно нес. А Битов-то сам знал, что нет ему помощника. И вот — «Предположение жить» с подзаголовком «Воспоминание о Пушкине». Лирический герой перестал быть необходимостью, больше того — он стал мешать. «Профессия героя» стала профессией автора, и автору стало намного труднее. Но он знает, что делает.
«Допустим, Пушкин сделал всё, по крайней мере потому, что мы не способны представить себе большего: что еще? Итак, он сделал все, но не оставил нам завещания (список долгов и «всё жене и детям»)... Ни плана собрания сочинений, ни предсмертного стихотворения. Он сделал всё и предоставил нам свободу».
Что это — свобода поиска, свобода открытия? А может быть, свобода предположить — как могло бы случиться и потому — возможность бесконечного переделывания жизни.
Л-ра: Октябрь. – 1987. – № 5. – С. 202-204.
Произведения
Критика