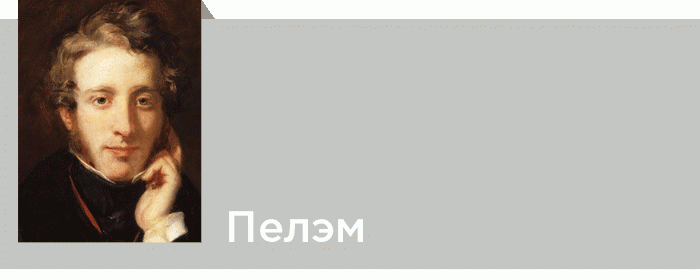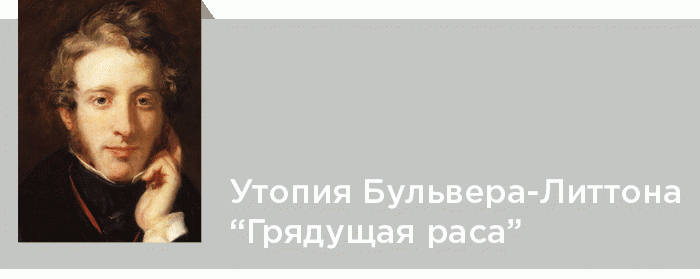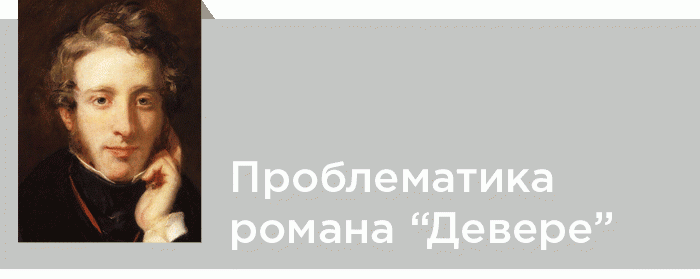Эдвард Бульвер-Литтон. Последние дни Помпей

(Отрывок)
КНИГА ПЕРВАЯ
ГЛАВА I
Два благородных помпеянина
— А, Диомед! Какая встреча! Ты будешь сегодня вечером на пиру у Главка? — сказал невысокий молодой человек в тунике, надетой с небрежным изяществом, на женский манер, как носили благородные прожигатели жизни.
— Увы, дорогой Клодий, он меня не пригласил, — ответил Диомед, полный и уже немолодой мужчина. — Клянусь Поллуксом, это обидно! Говорят, он задает лучшие пиры в Помпеях.
— Да, у него славно, только, по мне, вина всегда мало. Какой же он эллин, если жалуется, что наутро у него с похмелья болит голова!
— Боюсь, что у него есть другая причина экономить, — сказал Диомед, поднимая брови. — При всем своем тщеславии и расточительности он, мне кажется, вовсе не так богат, как хочет казаться, и, скорее, бережет амфоры с вином, чем голову.
— Тем более надо пользоваться его щедростью, пока у него есть сестерции. А в будущем году, Диомед, найдется новый Главк.
— Говорят, он не прочь и в кости сыграть.
— Он не прочь доставить себе любое удовольствие, и, пока ему доставляет удовольствие давать пиры, мы его любим.
— Ха-ха-ха! Хорошо сказано, Клодий! Кстати, видел ты мои винные погреба?
— Как будто нет, друг мой Диомед.
— Непременно приходи как-нибудь ужинать. У меня в садке недурные мурены, и я познакомлю тебя с эдилом Пансой.
— Только, пожалуйста, без церемоний. «Персов роскошь мне ненавистна», я человек скромный. Но уже поздно; я иду в термы. А ты куда?
— К квестору — по общественным делам, а потом в храм Исиды. Прощай!
— Хвастун, бездельник, невежа! — пробормотал Клодий, ленивой походкой двигаясь дальше. — Думает, его пиры и винные погреба заставят нас забыть, чтоон сын вольноотпущенника! Ладно, мы так и сделаем, окажем ему честь, выигрывая у него деньги. Эта разбогатевшая чернь — золотое дно для нас, веселой знати!
С этими словами Клодий вышел на Домицианову улицу, запруженную колесницами и полную веселого, шумного оживления, какое в наши дни можно увидеть на улицах Неаполя.
Колокольчики быстро обгонявших друг друга экипажей весело и мелодично звенели, и Клодий то и дело кивал или улыбался знакомым, ехавшим в красивых, роскошных экипажах; ни один бездельник не был так известен в Помпеях, как он.
— А, Клодий! Как тебе спалось после вчерашнего выигрыша? — окликнул его звонким, приятным голосом молодой человек с самой красивой и элегантной колесницы.
Она была украшена бронзовыми рельефами в греческом духе—сценами Олимпийских игр; везли ее кони редчайших парфянских кровей; их стройные ноги, едва касаясь земли, словно неслись по воздуху, но одно прикосновение колесничего, который стоял позади молодого хозяина, и они остановились как вкопанные, будто внезапно обратились в камень — живые изваяния, подобные одному из животрепещущих чудес Праксителя.
Хозяин их был строен, красив и имел то правильное телосложение, которое некогда служило образцом для афинских скульпторов; светлые, спадающие густыми прядями волосы и совершенная гармония черт выдавали его греческое происхождение.
Он не носил тоги, которая во времена императоров перестала быть национальной римской одеждой и вызывала насмешки модников, а его туника была из лучшего тирского пурпура, и застежка, которая скрепляла ее на плече, сверкала изумрудами; на шее у него была золотая цепь, оканчивавшаяся на груди головой змеи; изо рта у змеи свисало большое кольцо с печатью тончайшей работы; широкие рукава туники были оторочены златотканой материей; пояс из той же материи с вытканными на нем причудливыми узорами заменял карманы, и за него были заткнуты носовой платок, кошелек, стиль и навощенные таблички.
— А, мой милый Главк! — приветствовал его Клодий. — Рад видеть, что проигрыш так мало тебя опечалил. Право, кажется, будто тебя одушевляет сам Аполлон: лицо твое так и светится счастьем. Можно подумать, что ты выиграл, а не проиграл.
— Не все ли равно — выиграть или проиграть эти презренные металлические кружки! Разве должно это влиять на наше настроение, любезный Клодий? Клянусь Венерой, пока мы молоды и можем увенчать себя цветами, пока кифара ласкает нам слух и волнует нашу кровь, которая так быстро бежит по жилам, до тех пор будем мы наслаждаться солнечным теплом и светом и заставим само седое время быть лишь казначеем наших радостей. Не забудь же, сегодня вечером ты мой гость.
— Возможно ли забыть приглашение Главка!
— А куда ты теперь?
— Собираюсь зайти в термы; но еще целый час до открытия.
— Я отпущу колесницу и пройдусь с тобой. Ну, ну, Филий! — И он погладил одного из коней, который прижал уши и тихо заржал, отвечая на ласку. — Сегодня ты можешь отдохнуть. Не правда ли, он красив, Клодий?
— Достоин Аполлона или Главка, — отвечал благородный прихлебатель.
ГЛАВА II
Слепая цветочница и модная красавица. Признание афинянина. Читатель знакомится с египтянином Арбаком.
Болтая о всякой всячине, молодые люди неторопливо шли по улицам. Они очутились теперь в квартале самых роскошных лавок, сверкавших внутри яркими, но гармоничными фресками, которые поражали своим разнообразием и прихотливостью.
Повсеместно, искрясь в солнечных лучах, били фонтаны, смягчая летний зной; всюду виднелись прохожие или, вернее, праздношатающиеся, почти все одетые в тирский пурпур; оживленные толпы собирались вокруг самых богатых лавок; сновали рабы, неся на головах бронзовые ведра самой изящной формы; у стен длинными рядами стояли молодые крестьянки с корзинами спелых плодов и цветов, пленявших древних итальянцев больше, нежели их потомков (для которых поистине latet anguis in herba, отрава таится в каждой фиалке и розе); часто попадались таверны, заменявшие праздным людям современные кафе и клубы. На мраморных полках рядами стояли сосуды с вином и маслом, а возле них были ложа, защищенные от солнца тентами из пурпура и манившие усталого отдохнуть, а ленивого предаться безделью. Весь этот блеск и волнующее оживление оправдывали афинское пристрастие Главка к земным радостям.
— Не говори мне о Риме! — сказал он Клодию. — Наслаждения за его несокрушимыми стенами утомляют своей пышностью и великолепием; даже приимператорском дворе, даже в Золотом доме Нерона и в блеске нового дворца Тита великолепие кажется скучным — глаз устает, душа изнывает; и, крометого, любезный Клодий, видя чужую пышность и богатство, тяжело вспоминать оскудение своего отечества. Здесь же мы беззаботно предаемся наслаждениюи пользуемся всеми преимуществами роскоши без утомительной пышности.
— Поэтому ты и избрал Помпеи для своего летнего дома?
— Да. Я предпочитаю их Байям. Слов нет, они очаровательны, но мне не по душе ученые педанты, которые приезжают туда и собирают жалкие крохиудовольствий.
— Но ведь ты любишь ученых. Я уж не говорю о поэзии — твой дом буквально дышит Эсхилом и Гомером, драмой и эпосом.
— Да, но римляне слишком слепо подражают моим афинским предкам. Даже на охоту рабы тащат за ними Платона, и, упустив кабана, они углубляются в книги и папирусы, чтобы не терять времени. Когда танцовщицы услаждают их персидским изяществом, какой-нибудь лоботряс из вольноотпущенников с каменным лицом читает им Цицероновы «Об обязанностях». О жалкие крохоборы! Наслаждение и познание нельзя смешивать, они несовместимы. Из-за этого педантизма римляне теряют все и доказывают равнодушие и к тому и к другому. Ах мой милый Клодий, как мало знают твои соотечественники истинную гибкость Перикла, истинное очарование Аспасии! На днях я посетил Плиния: он сидел в беседке и писал, а несчастный раб играл на флейте. Его племянник (ох, избавь меня от таких философствующих шутов!) читал описание чумы из Фукидида и самодовольно кивал в такт музыке, тогда как его губы произносили омерзительные подробности этого ужасного описания. Этому щенку не претило одновременно слушать любовную песню и читать описание чумы.
— Да ведь любовь и чума — это почти одно и то, — заметил Клодий.
— Я так и сказал ему, чтобы как-то оправдать его шутовство, но юнец не понял иронии и с укоризненным видом ответил, что музыка ласкает лишь ухо, тогда как книга (заметь, описание чумы!) возвышает сердце. «Ах! — прохрипел его толстый дядюшка, отдуваясь, — мой мальчик истый афинянин, он всегда сочетает приятное с полезным». О Минерва, я едва удержался от смеха! А потом этот желторотый софист получил при мне известие о смерти своего любимца вольноотпущенника. «Неумолимая смерть! — вскричал он. — Раб, дай мне томик Горация. Этот дивный поэт прекрасно утешает нас в подобных несчастьях!» Ну скажи сам, любезный Клодий, способны ли эти люди любить? Даже рассудочная любовь едва ли им доступна. А как редко у римлянина бывает сердце! Он — только хитро устроенная машина, а не существо из плоти и крови.
Хотя Клодий втайне был уязвлен этими словами в адрес своего соотечественника, он притворился, будто сочувствует Главку, отчасти потому, что он по натуре был прихлебателем, отчасти потому, что среди беспутных молодых римлян принято было относиться с некоторым презрением к колыбели собственной славы; в моде было подражать грекам и в то же время смеяться над своей неловкостью в подражании.
Беседуя, они остановились перед толпой, которая собралась посреди площади, на пересечении трех улиц. В тени портиков красивого и легкого храма стояла девушка; на правой руке у нее висела корзинка с цветами, в левой был маленький трехструнный музыкальный инструмент, под тихий и нежный аккомпанемент которого она пела какую-то странную, почти варварскую песню. После каждого куплета она грациозно покачивала корзинкой, предлагая слушателям купить цветов, и сестерции сыпались к ней в корзину — то ли в похвалу пению, то ли из сочувствия к певице, потому что она была слепа.
— Я знаю эту бедняжку, она из Фессалии, — сказал Главк. — Я еще не видел ее после возвращения в Помпеи. Давай послушаем.
Люди, купите цветы!
Я слепая, издалёка родом.
На земле и пыль — сестра красоты,
А цветы на ней — пестрым хороводом.
Цветы хранят земной аромат,
В них голубая роса, как на золотом блюде.
Я срезала их час тому назад.
Купите мои цветы, люди!
Час назад, всего лишь час!
И светило солнце, и, может, летали пчелы…
Люди, я срезала их для вас —
И легкий лист, и бутон тяжелый.
Ваш мир — клубок солнечных дорог.
Там растут деревья с зелеными волосами.
Если бы кто-нибудь в мире мог
Заглянуть во тьму перед моими глазами!..
Я хочу видеть тех, кого люблю,
Навстречу шагам их я протягиваю руки —
И только звук бездонный ловлю.
Мир вокруг меня — звуки!
Купите, купите цветы!
Не хотят они, чтоб ими владела
Ночи дочь, исчадье темноты,
И до моей боли нет им дела.
Мне ли, незрячей, их краса?
Пусть на них смотрят зоркие глаза.
Зеленые стрелы, оранжевые нити…
Купите цветы, купите!
— Дай-ка мне букетик фиалок, милая Нидия, — сказал Главк, протиснувшись сквозь толпу и бросив в корзину горсть мелких монет. — Ты поёшь еще лучше, чем раньше!
Услышав голос афинянина, слепая девушка подалась было вперед, но вдруг замерла и густо покраснела.
— Ты вернулся, — сказала она тихо и повторила, как бы про себя: — Главк вернулся!
— Да, дитя, меня не было в Помпеях довольно долго. Мой сад, как и раньше, ждет твоей заботы. Надеюсь, ты завтра же побываешь там. И помни, ни одну гирлянду в моем доме не сплетут ничьи руки, кроме рук прелестной Нидии.
Девушка радостно улыбнулась, но ничего не ответила, а Главк, небрежно приколов к груди букетик фиалок, выбрался из толпы.
— Я вижу, ты даешь этой девочке работу, — сказал Клодий.
— Да. Правда, она мило поет? Мне жаль эту бедную рабыню! К тому же она родом из той страны, где высится обитель богов, — Олимп хмурился над ее колыбелью. Она из Фессалии.
— Но ведь это страна ведьм.
— Ты прав. Но я-то всех женщин считаю ведьмами, а в Помпеях, клянусь Венерой, самый воздух словно напоен любовным зельем: таким хорошеньким кажется мне каждое женское личико.
— Кстати, вон личико, с которым немногие могут соперничать в Помпеях, — это Юлия, дочь старого богача Диомеда! — сказал Клодий, когда к ним приблизилась молодая женщина под густым покрывалом, направлявшаяся в сопровождении двух рабынь к термам. — Привет тебе, прекрасная Юлия! — воскликнул Клодий.
Юлия не без кокетства приоткрыла гордый римский профиль, и из-под покрывала ярко блеснул темный глаз; природная смуглота ее лица была искусно смягчена румянами.
— Что я вижу — Главк вернулся! — сказала она, бросив на афинянина многозначительный взгляд, и добавила, понизив голос: — Неужели он забыл прежних друзей?
— Прекрасная Юлия, даже сама Лета, исчезая в одном месте, вновь выходит на поверхность в другом. Зевс запрещает нам забывать более чем на миг, но Венера еще строже: она не позволяет даже столь краткого забвения.
— У Главка всегда находятся красивые слова.
— И не мудрено, если его слушает такая красивая женщина.
— Надеюсь скоро увидеть вас обоих у моего отца, — сказала Юлия, поворачиваясь к Клодию.
— Этот счастливый день мы отметим белым камешком, — отозвался Клодий.
Юлия медленно опустила покрывало, бросив робкий и в то же время вызывающий взгляд на афинянина; в этом взгляде были нежность и упрек.
Друзья пошли дальше.
— Да, Юлия действительно очень хороша, — сказал Главк.
— Но в прошлом году ты не сказал бы это так равнодушно.
— Ты прав. Я был ослеплен и принял искусную подделку за истинную драгоценность.
— Пустяки! — возразил Клодий. — В сущности, все женщины одинаковы. Счастлив тот, кто женится на хорошенькой и возьмет за ней богатое приданое. Чего еще желать?
Главк вздохнул.
Они вышли на менее оживленную улицу, откуда перед ними открылся прекрасный простор моря, которое у этих благодатных берегов словно отрекается от своей грозной славы — так кротки и ласковы ветры, овевающие его грудь, такими яркими и богатыми красками расцвечивают его розовые облака, так благоуханно дыхание суши над его пучиной. Глядя на это море, легко поверить, что Афродита вышла из него, чтобы владычествовать над землей.
— Еще рано идти в термы, — сказал грек, чья поэтическая натура была необычайно восприимчива к красоте. — Давай оставим ненадолго людный город и полюбуемся на море, пока полуденное солнце улыбается в его волнах.
— С радостью, — сказал Клодий. — Но, кстати сказать, берег залива — самое оживленное место нашего города.
Помпеи являли собой миниатюрное воплощение цивилизации того времени. В тесном пространстве, ограниченном городскими стенами, были сосредоточены, так сказать, образцы всех даров, какие роскошь может предложить могуществу. В маленьких, но богатых лавках, в крошечных дворцах, в термах, на форуме, в театре и цирке, в кипучей жизни, уже носившей, однако, печать упадка, в утонченности и пороках людей отразилась вся Римская империя. Это был как бы игрушечный город в стеклянном ларце, где, словно по прихоти богов, была представлена величайшая империя земли, который они затем скрыли от времени, чтобы вновь явить потомкам как чудо. Вот подтверждение того, что нет ничего нового под солнцем.
Прозрачный залив был весь усеян торговыми кораблями и раззолоченными прогулочными лодками богатых горожан. Рыбачьи челны быстро сновали взад и вперед, а вдали виднелись высокие мачты флота, которым командовал Плиний. На берегу какой-то сицилиец, неистово размахивая руками и корча невероятные гримасы, рассказывал кучке рыбаков и крестьян невероятную историю о потерпевших крушение моряках и добрых дельфинах, — точно такую же можно услышать и в наши дни по соседству, в порту Неаполя.
Выведя приятеля из толпы, грек нашел уединенное местечко, и они, пройдя по гладко окатанной гальке, присели на выступ скалы, наслаждаясь прохладным ветерком, который носился над водой, приплясывая тысячами невидимых ног. Все вокруг располагало к молчанию и задумчивости. Клодий, прикрыв глаза ладонью от палящего солнца, подсчитывал выигрыши прошлой недели; а грек, опершись на локоть и не прячась от солнца — этого божества, которое покровительствовало его народу и светом поэзии, радости или любви наполняло жилы, — смотрел вдаль и, быть может, завидовал ветерку, который уносился к берегам Греции.
— Скажи, Клодий, — заговорил наконец грек, — ты когда-нибудь влюблен?
— Да, много раз.
— Тот, кто любил много раз, не любил никогда, — сказал Главк. — Есть лишь один настоящий Эрот, хотя поддельных сколько угодно.
— Эти подделки — тоже неплохие божки, — заметил Клодий.
— Согласен, — отвечал грек. — Я благоговею даже перед тенью Любви, но еще больше — перед ней самой.
— Значит, ты всерьез влюбился? Тебя посетило то чувство, которое описывают поэты, — когда лишаешься аппетита, забываешь про театр и пишешь элегии? Вот никогда не подумал бы! Ловко же ты умеешь притворяться.
— Ну нет, до этого не дошло, — сказал Главк с улыбкой. — Или, вернее, я могу повторить вслед за Тибуллом:
Кто во власти любви, ступай куда пожелает,
И безопасен и чист…
Я не влюблен; но мог бы влюбиться, если б судьба не разлучила меня с ней. Эрос возжег бы свой светильник, но жрецы не налили туда масла.
— Но кто же она? Попробую догадаться. Не дочь ли Диомеда? Клянусь Гераклом, она в тебя влюблена и даже не скрывает этого. Она и собой хороша и богата! Она увьет двери своего мужа лентами из чистого золота.
— Нет, я не хочу продавать себя. Дочь Диомеда красива, это так, и, не будь она внучкой вольноотпущенника, я мог бы даже… но нет… у нее только и есть, что красивое лицо; она совсем не женственна, и на уме у нее одни удовольствия.
— Ты неблагодарен. Но скажи, кто же тогда эта счастливица?
— Сейчас ты все узнаешь, милый Клодий. Несколько месяцев назад я был в Неаполе, городе, который люблю, потому что он до сих пор сохранилгреческий дух и следы своего происхождения и все еще заслуживает имени «Партенопея» за свой благоуханный воздух и живописные берега. Я зашел в храм Минервы, чтобы вознести молитвы, не за себя, а за тот город, которому больше не улыбается Паллада. Храм был пуст. Воспоминания об Афинах нахлынули на меня. Думая, что я один в храме, преисполненный благоговением, я не заметил, как мои молитвы хлынули из сердца и сорвались с уст. Я молился со слезами, и вдруг молитвы мои были прерваны глубоким вздохом. Я быстро обернулся — позади меня стояла женщина. Она тоже молилась, подняв покрывало; и, когда взгляды наши встретились, мне показалось, что небесный свет, который излучали эти темные ласковые глаза, осветил мне душу. Никогда, милый Клодий, не видел я такого чудного лица: какая-то грусть смягчала и в то же время возвышала его черты, нечто неизреченное, что изливается из глубин души, придавало ей неземную и благородную красоту — такой наши скульпторы изображали Психею. Слезы катились у нее из глаз. Я сразу догадался, что она тоже родом из Афин и моя молитва за Афины тронула ее сердце. Я обратился к ней дрогнувшим голосом. «Ты тоже из Афин, прекрасная дева?» — спросил я. Услышав мой вопрос, она покраснела и приспустила покрывало. «Прах моих отцов, — ответила она, — покоится на берегах Илисса; сама я родилась в Неаполе, но сердце мое принадлежит Афинам, городу моих предков». — «Давай же вместе принесем жертвы», — сказал я. Вошел жрец, и мы, стоя рядом, вместе совершили священный обряд, вместе коснулись колен богини, вместе возложили на алтарь гирлянды из оливковых ветвей. Не знаю почему, но я испытывал к ней удивительное чувство, какую-то почти благоговейную нежность. Мы, пришельцы из далекой, поверженной страны, стояли вдвоем в этом храме божества нашей родины, и удивительно ли, что сердце мое устремилось к моей соотечественнице — ведь я с полным правом могу называть ее так. Мне казалось, что я знаю ее уже много лет; и простой обряд чудесным образом повлиял на наши чувства и заставил нас забыть о времени. Молча покинули мы храм, и я хотел уже спросить, где она живет и могу я посетить ее, но тут на ступенях храма к ней покипел юноша, похожий на нее лицом, и взял ее за руку. Обернувшись, она простилась со мной. Толпа разделила, и больше я ее не видел. Дома меня ждали письма, и я вынужден был уехать в Афины: родственники угрожали мне тяжбой из-за наследства. Когда дело было улажено, я снова вернулся в Неаполь. Я обошел весь город, но не отыскал своей соотечественницы и, надеясь рассеяться и забыть это чудесное видение, поспешил в Помпеи, чтобы окунуться в веселье и роскошь. Вот и все. Я не влюблен, но не могу ее забыть и жалею о разлуке.
Клодий хотел что-то сказать, но тут галька зашуршала под медленными и величественными шагами. Приятели обернулись и сразу узнали подошедшего.
Это был высокий, худощавый, но крепкий и мускулистый человек лет сорока. Бронзовая кожа выдавала его восточное происхождение, но в чертах лица было что-то греческое (особенно в подбородке, в губах и во лбу), и только крючковатый, орлиный нос и твердые, торчащие скулы отличали его от греков, чьи лица даже в зрелом возрасте сохраняют красивую юношескую округлость. Глаза, большие и черные, как ночь, ярко блестели. Глубокое, задумчивое и слегка печальное спокойствие, казалось, застыло в его гордом и повелительном взгляде. Его осанка и выражение лица были невозмутимы и надменны, а что-то диковинное в покрое и неяркой расцветке широких одежд еще больше усиливало впечатление от этого равнодушия и надменности. Клодий и Главк, приветствуя его, украдкой невольно скрестили пальцы: они слышали, что у египтянина Арбака дурной глаз.
— Видно, это зрелище и в самом деле очень красиво, — сказал Арбак с холодной, но любезной улыбкой, — если веселый Клодий и общий любимец Главк покинули ради него оживленный город.
— А разве вообще природа так непривлекательна? — спросил грек.
— Для любителей развлечений — да.
— Ты судишь сурово, но едва ли справедливо. Удовольствия хороши, когда они разнообразны; шумные развлечения учат нас ценить одиночество, а одиночество — развлечения.
— Так рассуждают молодые философы Сада, — сказал египтянин. — Они принимают бессилие за мудрость и, пресытившись всеми другими радостями, воображают, будто познали радость одиночества. Но не в таких пресыщенных душах будит природа восторги, через которые только и открывается вся ее чистая и несказанная красота: природу нужно обожать со всем пылом страсти, которая не должна угаснуть, а вам это в тягость, для вас это непосильное бремя. Да, молодой афинянин, сияющая Селена явилась Эндимиону не средь шумных и многолюдных увеселений, а в тишине, среди гор и пустынных долин.
— Прекрасное сравнение! — вскричал Главк. — Но здесь оно вовсе не к месту. Угаснуть! Это слово пригодно для стариков, но не для юных. Я, во всяком случае, ни на миг не знал пресыщения!
Арбак снова улыбнулся, но такой холодной и отталкивающей была эта улыбка, что даже равнодушному Клодию стало не по себе. Не отвечая на горячие слова Главка, египтянин сказал тихо и печально:
— Что ж, в конце концов, ты прав, наслаждаясь минутой, пока жизнь тебе улыбается: розы быстро вянут, аромат исчезает. Главк, мы чужие здесь, вдалеке от праха отцов, — что же остается нам, кроме наслаждений или тоски? Для тебя — одно, а для меня, пожалуй, — другое.
Блестящие глаза грека вдруг затуманились слезами.
— Ах, не говори, Арбак! — вскричал он. — Не говори о наших предках! Забудем о том, что были иные свободы, кроме римских! И иная слава! Напрасно стали бы мы призывать ее призрак с полей Марафона и из фермопильских теснин!
— Твое сердце протестует, когда ты говоришьэто, — сказал египтянин. — Прощай!
Сказав это, он подобрал полы своих одежд и медленно удалился.
— Сразу стало легче дышать, — сказал Клодий. — Подражая египтянам, мы иногда приносим череп на наши пиры. Право, в присутствии такого вот мрачного египтянина самое лучшее фалернское покажется кислятиной.
— Странный человек! — задумчиво сказал Главк. — Он словно умер для удовольствий и безразличен ко всему. Про него ходит столько сплетен, но он ведет таинственную жизнь, и никто не может за глянуть к нему в душу.
— Ах! Говорят, в его мрачном доме бывают тайные празднества, не имеющие никакого отношения к культу Осириса. К тому же, я слышал, он очень богат. Нельзя ли залучить его к нам и приохотить к игре в кости? Вот уж поистине развлечение из развлечений! Лихорадка надежд и разочарований! Вечная, неисчерпаемая страсть! Как ты прекрасна, о игра!
— Я вижу, на Клодия снизошло вдохновение! — воскликнул Главк со смехом. — Оракул в нем заговорил голосом поэта, ну и чудеса!
Произведения
Критика