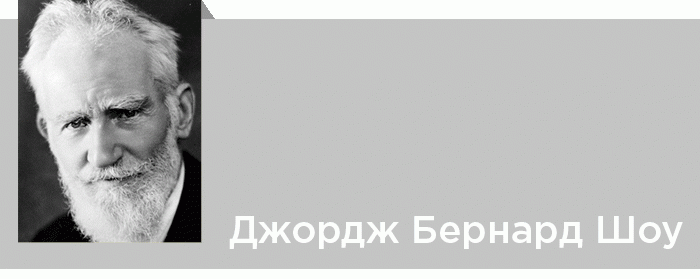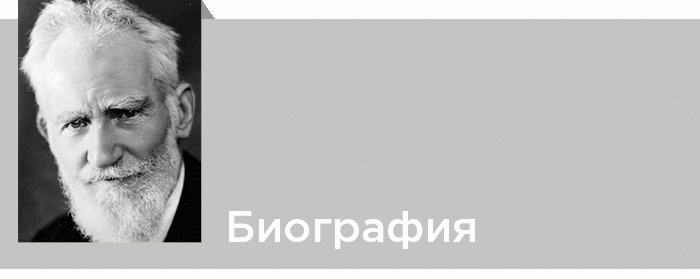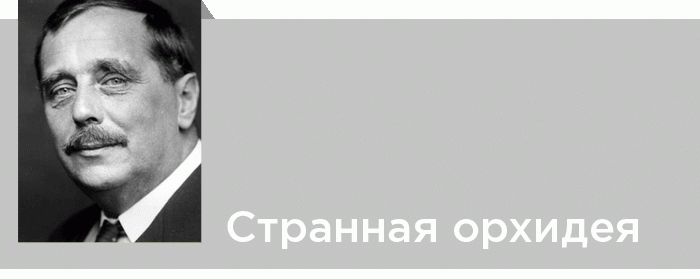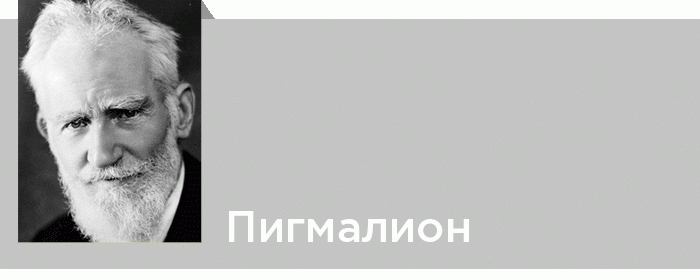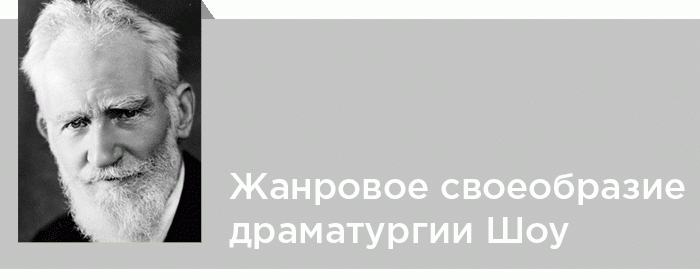Бернард Шоу как поэт

З.Т. Гражданская
Бернард Шоу — поэт? Сатирик, человек язвительного ума, мастер парадоксов, враг всякой сентиментальности — и вдруг поэт? Как мы поместим рядом с вдохновенными мечтателями и певцами насмешливого парадоксалиста с его трезвым взглядом на мир, с его расхолаживающей иронией? Всю жизнь он срывал красивые маски, разрушал красивые иллюзии, уверял, что борется с идеалами. Это меньше всего вяжется с обликом поэта.
И все же он был им. Он иногда стыдился, а иногда даже афишировал то, что он поэт: все равно, он знал, что ему не поверят. Он любил говорить, что главная причина немеркнущей славы Шекспира — в музыкальности его речи, в богатстве и красоте языка. Для него Шекспир был прежде всего великим поэтом. Поэтом он называл и Льва Толстого. Мы не ошибемся, если скажем, что главная причина успеха и обаяния самого Шоу — не только в его остроумии, но и в удивительной поэтичности его драм, в том, что под его пером становится поэтичным все — парадоксы, социология, история.
Для Шоу была характерна любовь к музыке и живописи. Он хорошо пел, играл, рисовал. Мечтал в юности стать композитором или художником. Бернард Шоу не стал ни тем, ни другим. Здесь невольно рождается парадокс: способности к рисованию и музыке обычно характерны для поэта.
Сначала — в юности — неясные мечты о славе, увлечение Шелли, Байроном, Шекспиром; потом работа над пятью романами и долгий период блестящей, остроумной, патетической публицистики; затем внезапный (и, казалось бы, поздний — в сорокалетнем возрасте) взлет драматурга, который длился десятилетия. Десятки драм, пронизанных поэтическим восприятием мира и часто построенных по законам поэтического языка, насыщенных не только парадоксами, но и символами, гиперболами, своеобразным ритмом... В их числе несколько пьес, написанных превосходным белым стихом и отмеченных влиянием Шекспира; а параллельно — рифмованные стихи, разбросанные по дневникам, письмам и предисловиям, не замеченные читателями и как бы не замечаемые самим автором в его триумфальном шествии. Хотелось бы взглянуть на этот необычный путь под необычным углом зрения: проследить становление Шоу как поэта и его поэтическое своеобразие.
Среди сотен книг о Б. Шоу, которые появились и продолжают появляться в Англии и США, среди статей в специальной периодике, посвященной Б. Шоу, читатель не найдет исследований о Шоу как поэте. Причин для этого достаточно. Западное литературоведение всегда охотно идет проторенными путями, не боясь бесчисленных повторений и оглядываясь на буржуазные вкусы обывателя. Так, по вопросу о так называемой «религиозности» Шоу написано великое множество работ разного масштаба и разной степени фальсификации. Имеется также много работ биографического характера с фрейдистским оттенком. Живо интересуются возлюбленными Шоу, пересчитывают их, тщательно выясняют характер его отношений с этими женщинами. Интересуются возлюбленным его матери, музыкантом Ванделером Ли, и в ряде книг ставят вопрос, не был ли Шоу его незаконным сыном. Вопрос праздный, ибо стоит только взглянуть на портрет м-ра Джона Шоу, чтобы убедиться, что драматург был его сыном. Именно к этому выводу приходят и сами биографы, в том числе ирландец О’Донован, изучивший буквально каждый шаг м-ра Ли. Но стоило ли тогда ставить вопрос, оскорбительный для матери Шоу?
Но равнодушие исследователей к поэтической стороне наследия Шоу имеет и иную, более серьезную причину. Рифмованные стихи Шоу кажутся настолько незначительным явлением рядом с его драматургией, а его пьесы, написанные белым стихом, носят настолько шуточный и подражательный оттенок, что как-то странно ставить вопрос о поэтическом наследии драматурга. Он почти и не ставится. Но в том-то и дело, что следует говорить не только об отдельных опытах Шоу в области рифмованного или белого стиха, но и о поэтическом характере всего его творчества. Следует глубже вглядеться в структуру его диалогов и монологов, в природу его ремарок, чтобы определить черты ораторской или поэтической речи, которой пользуется автор.
Однако нельзя сказать, что зарубежное литературоведение совсем не обращается к затронутой здесь проблеме. Проводятся разрозненные попытки выявить поэтическое наследие Шоу. Отдельные его стихотворения извлекаются из старых дневников и писем, включаются в биографические исследования. В этом отношении характерна статья Пенсильванского профессора Уоррена Смита, опубликованная в 1967 г. под заголовком «Ранняя любовная поэма О. В. З.». Стихотворение юного Шоу, приведенное в статье, извлечено из его дневника за
Приведем здесь этот образец юношеской поэзии Б. Шоу.
Эй, глупость! Цвети средь иллюзий. Покуда от грез и стыд
И страсти безумствуют люди, Пребудешь всегда!
У каждого есть чаровница Иоланта, Калипсо иль Маб.
Любовь... Но во прах обратится В устах ее хлеб.
Мэб — в городе было жилище, Иоланты — на сцене...
А мне — Калипсо — нежнее не сыщешь,
И страшит ее гнев.
Уоррен Смит не в состоянии расшифровать, кого Шоу имеет в виду. Ему ясно только, что Иоланту юноша видел среди дублинских королев сцены, а Калипсо жила в «Сорренто», т. е. в приморских окрестностях Дублина, по соседству с Торка-коттеджем, арендованным семьей Шоу. Видимо, через четыре года после того, как семья Шоу покинула этот коттедж, т. е. незадолго до отъезда в Англию, Шоу посетил те места и девушку, в которую был влюблен, о которой хранил самые нежные воспоминания.
Продолжая наблюдения У. Смита, хотелось бы сказать, что «Калипсо» соответствует Норе Рейли в пьесе «Другой остров Джона Булля». Там тоже идет речь о девушке, живущей как затворница среди холмов над морем. И так же охладел к ней ее прежний поклонник (правда, проведший вдалеке от нее не четыре года, а целых двадцать лет).
Однако мы решили не заниматься биографической стороной вопроса. У нас меньше возможностей решать биографические загадки, касающиеся английского писателя, чем у его соотечественников. Нас интересует художественное своеобразие юношеского стихотворения Шоу.
Ясно одно: стихотворение написано хотя и молодым, но уже опытным поэтом, это далеко не проба пера. Об этом говорят и довольно изысканные рифмы, и изящный перебой ритма в каждой строфе, короткие строки, завершающие строфу. Но самое главное — это стихи настоящего, одаренного поэта; еще не очень зрелые по мысли и сравнениям, они по мастерству формы сделали бы честь любой антологии того времени.
В то же время на них лежит (естественный для молодого поэта) отпечаток книжных влияний. Автор щеголяет своей эрудицией, чрезмерной склонностью к обобщениям, злоупотребляет мифологическими именами. Сильнее всего ощущается влияние Шелли, который был одним из его любимых поэтов (имя королевы Мэб, сравнения с цветами, интерес к античным образам). Насмешливое презрение к любви, резкие эпитеты по ее адресу (любовь названа Глупостью или Безумием, ее сладость превращается в песок, люди под влиянием страсти становятся подобными животным) — все это идет уже не от Шелли, а скорее от пуританских традиций и протеста чистого юноши против унизительной (как ему кажется) власти любви. Эти мысли предваряют более позднего Шоу, также протестующего против чувственности в «Пьесах для пуритан».
Непонятно, почему молодой поэт так разочаровался в своей даме сердца. Неужели только потому, что за четыре года разлуки отцвела ее красота? Об этом как будто свидетельствуют ее сравнения с игрушкой, с цветами, потерявшими свой блеск и аромат. Однако другие строки говорят о чем-то ином: о противоречии между внешней красотой и пустотой души. Таковы слова о том, что храм богини оказался простой побеленной стеной, о том, что природа, создавая Калипсо, мечтала о чем-то великом. Отклонение от идеала оказывается трагической виной Калипсо, а вовсе не увядание ее красоты.
Но в насмешливом стихотворении есть все же отзвук живого и горького чувства. «Так храм оставленный — все храм, кумир поверженный — все бог!» — писал Лермонтов. В юношеском стихотворении Шоу есть что-то от таких признаний и от романтической иронии.
Думается, перед нами не просто шуточное стихотворение, как считает Уоррен Смит, а ироническое признание в сильном и не совсем еще угасшем чувстве. Оно восходит к английской традиции «оскорбительного сонета», к сонетам Шекспира о смуглой даме, которые так хорошо знал и любил Шоу. Любовь к недостойной или незначительной женщине оборачивается подлинной трагедией, оставляет неизгладимый след. Именно в таком духе написано это стихотворение, кончающееся гордым обещанием — не писать больше любовных стихов — даже таких.
Шоу не сдержал обещания. Много стихов встречается в переписке со Стеллой Патрик-Кемпбелл. Но почти все они носят шутливый характер.
Так, письмо от 9 августа
Итак, ура! Ра! Ра!
Он не будет моим папа!
Ведь пока он пылает любовью и гневом,
Моей маме и мне — хоть совсем бы он не был,
Этот старый чудак с его старым напевом!
Лучше выйдем за шаха мы, милые девы!
Мужем будет нам шах!
Стелла Патрик-Кемпбелл отвечает, что она переслала письмо дочери, и та очень смеялась. Развлекать младшую Стеллу было полезно: она ждала ребенка.
В письме от 28 февраля
Не удивительно, что эта «песнь торжествующей любви» написана на жаргоне лондонских кокни: она адресована отчаянной цветочнице Элизе Дулиттл, в которую так блестяще перевоплотилась гордая Стелла.
Но порой автору писем не хватало для выражения нараставшей нежности его насмешливых и издевательских стихов. И тогда он укрывался под мощное крыло Шекспира. В письме от 22 апреля того же года мы встречаемся с шекспировским сонетом, который мы тщетно стали бы искать среди 154 сонетов Шекспира. Он написан самим Шоу.
Сонет связан многими нитями с творчеством Шоу разных периодов. Здесь и то сопротивление любви, нежелание признать ее власть, которое характерно для его главных героев, и перекличка с Шекспиром, и немного сентиментальная греза об играх под деревьями (вспомним «детей в лесу» из «Профессии миссис Уоррен»), и вполне жизненная, но так и не осуществившаяся мечта о ребенке — о ребенке от любимой женщины. Все эти мотивы встречаются и в пьесах Шоу, и в его предисловиях.
Сонет вполне выдержан в шекспировском духе. Некоторая архаизация проведена здесь мастерски, без всякой навязчивости. Это именно перекличка с Шекспиром, но не рабское подражание ему. Душевная борьба, из которой в сущности нет выхода, — постоянная тема сонетов Шекспира. Его сонеты часто начинаются с того же слова, с которого начинает и Шоу. Чисто шекспировским кажется и нагнетание кратких причастий и старомодное пышное обращение к возлюбленной.
Сочетание искреннего чувства с продуманным воспроизведением шекспировской манеры — вот что представляет собой этот сонет, который мог быть написан только большим поэтом.
Поэтом Шоу остался до конца. Одна из самых последних его пьес, написанная в девяностолетнем возрасте («Миллиарды Бойанта»), предваряется коротким и грустным стихотворением о потерянных друзьях, об угасающих силах.
Итак, от начала и до конца, — от любовного стихотворения, написанного безвестным двадцатилетним ирландцем, и до краткого прощания с жизнью девяностолетнего прославленного писателя, в рифмованных стихах Шоу отчетливо проступают общие черты — своеобразная маскировка, стремление прикрыть серьезные и пылкие чувства шуткой, интеллектуальной игрой, стилизацией или пародией; и несомненная поэтическая одаренность, мастерство формы.
Шоу хорошо владел белым стихом. Он уверял, что белым стихом легче писать, чем прозой, что «белый стих детски легок и прост (особенно после обширной продукции Шекспира)». «Кроме того, я влюблен в белый стих», — добавляет Шоу в предисловии к «Восхитительному Бэшвилю». Не удивительно, что все три пьесы Шоу, написанные белым стихом, как-то связаны с Шекспиром. Все они в то же время имеют фарсовый и пародийный оттенок. Это «Восхитительный Бэшвил» (1901), «Вновь оконченный Цимбелин» (1939) и «Шекс против Шэва» (1949).
«Восхитительный Бэшвил» значится в английских справочниках как сценический вариант раннего романа Шоу «Профессия Кэшела Байрона». Но это не простая инсценировка, это превращение романа в откровенный фарс и пародию; это пародия одновременно и на самый роман, и на трагедии елизаветинцев. Проявляется все та же закономерность, что и в рифмованных стихах Шоу: он позволяет себе обратиться к традиционным поэтическим формам, лишь насытив их иронией или замаскировав (опять-таки с оттенком насмешки) под шекспировский стиль.
Герой пьесы — боксер Кэшел Байрон — сын актрисы, исполнительницы шекспировских ролей, женщины бездушной и фальшивой, но привыкшей к великолепной декламации. Байрон говорит о себе:
Кэшел. Узнайте тайну: мать моя — актриса.
Лушиан. О, как ужасно!
Лидия. Нет, как интересно!
Кэшел. И тысячи побед стереть не могут
Мое происхожденье. Речь моя Его и выдает и подтверждает.
Уроком мне был монолог актера
Из «Гамлета»; и сам я выражаюсь
Словами театральной королевы —
Не как живой — из плоти — человек!
Зачем сейчас кузен ваш скалит зубы?
Что он Гекубе? Что ему Гекуба?
Даже простое решение вызвать кэб облекается у Кэшеля Байрона в эффектные и торжественные слова:
Зовите кэб! И кэб пусть будет позван!
Пусть позовет его ваш человек!
Аристократка Лидия Кэрью потрясена таким способом выражаться.
Только Шоу мог решиться так дерзко пародировать слог Шекспира. Он в это время уже написал свое «Осуждение барда» (1896), уже начал свое наступление на Ирвинга, на театр «Лицеум». Об этом уже говорилось в ряде исследований, в том числе и нами. Но любопытно, что именно здесь, в пародийной и шуточной пьесе, Шоу попытался впервые воспроизвести музыку шекспировской речи, а также включил в текст прямые реминисценции из Шекспира. Возьмем, например, диалог английского дипломата Лушиана и короля зулусов, знаменитого Сетевайо, который жил в Лондоне в 80-е годы.
Этот диалог начинается с шекспировской фразы из «Венецианского купца».
Шоу парадоксально меняет ситуацию: именно белый вынужден оправдывать и объяснять перед африканцем странный цвет кожи англичан.
Финал пьесы также построен в духе елизаветинской драмы: боксер Кэшел предотвратил панику и потасовку на ринге, и вот в поместье Лидии является все тот же кузен Лушиан в качестве вестника. Он сообщает:
Несу вам повеление от трона:
В нем Байрону полнейшее прощенье!
Нет, более: дорсегским депутатом
Объявлен он. А в честь его победы
Шоу возвращается к форме белого стиха почти через 40 лет (если не считать отдельных коротких образцов, встречающихся в его письмах и пьесах). В
Соревнование продолжалось всю жизнь. В последней, предсмертной пьесе Шоу, написанной белым стихом (шуточной пьесе для кукольного театра), «Шэкс против Шэва» (1949) это соревнование принимает двойственную форму. С одной стороны, это самый настоящий боксерский поединок, который ведут марионетки, причем Шоу, конечно, нокаутирует Шекспира. Но в то же время это и словесный поединок, спор о смысле жизни и о поэзии, причем Шоу спешит пародировать любую фразу Шекспира. Речь Шекспира построена на реминисценциях и прямых цитатах из его драм. Пьеса начинается, как и «Ричард III», словами: «Зима тревоги нашей миновала» и кончается горьким восклицанием Макбета: «Погасни ты, мгновенная свеча!» Итак, снова белый стих, облекающий буффонаду, снова реминисценции из Шекспира...».
Для Шоу кончалась его борьба с богом, с Шекспиром. Но вместе с ней кончалась и жизнь. Шуточная пьеса имеет в сущности очень серьезный смысл. Она говорит о жизни и смерти, о творчестве как подлинном содержании жизни.
Но если для стихов Шоу, рифмованных или белых, характерна маскировка их под остроумную шутку или под Шекспира, то его проза (драматургическая, публицистическая, эпистолярная) порой насыщена подлинной поэзией. В своих пьесах, статьях и письмах Шоу не боится быть патетичным. Правда, эта патетика часто имеет оттенок иронии и восходит к его же ораторской речи, но ведь и ораторские выступления Шоу были необычными и не случайно имели громадный успех. Где-то ораторская речь, видимо, смыкается с поэзией, и Шоу был мастером, которому давался этот сплав.
Великолепные по своей поэтической силе строки и целые страницы встречаются в письмах Шоу Эллен Терри и особенно Стелле Патрик-Кемпбелл. Эпистолярная пьеса Джерома Килти «Милый лжец», построенная на этой переписке, потому и получила такую популярность.
«Я слишком вас любил, я расточал перед вами сердце и ум (как расточаю их перед целым светом), а вы только и смогли, что убежать. Идите же прочь! Шевианский кислород сжигает ваши маленькие легкие. Ищите духоты, которая вам по душе!» ...«Я схватил горсть опавших листьев и сказал: «Принимаю за золото!» А теперь пустынный берег и огни Рэмсгейта вдали — а может, это костры небесных духов на горных вершинах... Я сказал: «Есть семь звезд, и семь печатей, и семь мечей в сердце царицы небесной; но я прошу для себя только семь дней». И они пришли, и я был сдержан. Я мечтал, что последний день будет самым лучшим. А вы зевали мне в лицо и украли у меня пять оставшихся дней...». «Эта женщина способна вырвать струны из арфы архангела, чтобы перевязывать пакеты с покупками; именно так она поступила со струнами моего сердца...». Все эти отрывки, взятые из нескольких августовских писем
Много писали о ремарках Шоу. Отмечали их гигантский объем, их оценочный характер, их насыщенность социальным и психологическим материалом. Но многие из них — это еще и целые стихотворения в прозе. Таковы некоторые ремарки к «Цезарю и Клеопатре» или, например, великолепная пейзажно-портретная зарисовка в «Другом острове Джона Булля»: «За холмом, в пустынной долине видна круглая башня. Безлюдная белая дорога ведет к западу мимо башни и теряется у подножья далеких гор. Вечер. В ирландском небе — широкие полосы шелковисто-зеленого цвета. Садится солнце. Возле камня стоит человек. У него лицо юного святого, хотя волосы его белы и за плечами добрых пятьдесят лет жизни. Он смотрит в небо над холмами, словно надеется увидеть там сквозь закатное сиянье улицы небесного града». И не менее поэтичен весь последующий диалог старого Кигана... с кузнечиком.
Многие монологи героев Шоу по своей структуре, по страстной патетике, по своеобразию метафор и сравнений, по скрытому ритму также подходят под определение поэтической речи и кажутся написанными свободным стихом. Таков знаменитый монолог бога Ра — пролог к «Цезарю и Клеопатре», или монолог Ларри Дойла об Ирландии и ирландских грезах, или монолог Жанны д’Арк об одиночестве. У Шоу есть целые пьесы, которые можно назвать драматическими поэмами: «Цезарь и Клеопатра», «Кандида», «Разоблачение Бланко Поснета», «Андрокл и лев», «Дом, где разбиваются сердца», «Святая Иоанна».
Выше уже говорилось об исключительной музыкальности Шоу. Этому вопросу посвящено много работ. В свете интересующей нас проблемы особенно важны те высказывания Шоу, где литература и музыка рассматриваются в неразрывном эстетическом единстве, а музыкальность фразы, красота ее звучания объявляются важнейшим достоинством литературного произведения. Таких высказываний много. Шоу любуется музыкальностью речи, удивительным сочетанием гласных и согласных в диалогах шекспировских героев. В пьесе «Смуглая леди сонетов» он заставляет Шекспира записывать красивые и поэтические фразы собеседников. «Ритм — такая штука, друг, с помощью которой можно править миром!», — говорит он часовому. А королеву Елизавету он поучает: «Есть могучая сила, которая может спасти нас... Это сила бессмертной поэзии. Ибо знайте, что хотя этот мир и мерзок, и хотя мы всего лишь черви, но стоит облечь всю эту мерзость в волшебные одежды слов, как сами мы преображаемся, и души наши парят высоко, и земля цветет, как миллионы райских садов... Разве вас не учили, что вначале было слово? Что слово было у бога, даже больше — что слово было бог?». Думается, такое преклонение перед словом — ощущение поэта.
В статье Чарлза Холта «Музыка и молодой Шоу» (1966) приведены слова Шоу о связи между музыкой и литературой. Он писал Норе Эрвин 12 мая
Эти слова Шоу (и многие аналогичные) заставляют английских и американских исследователей искать этот музыкальный, оперный ключ к творчеству Шоу. Особенно тщательному анализу подвергается «Человек и сверхчеловек», где связь с «Дон Жуаном» Моцарта лежит на поверхности. Однако ничего нового в постижении творчества Шоу это пока не дало. Может быть, исследователям стоит задуматься над тем, почему великий знаток и поклонник музыки все-таки не стал композитором. При его музыкальном окружении и образовании, при его исключительной целеустремленности это было вполне возможно — однако он пошел по другому пути. Видимо, иной была специфика его таланта. Он стал писателем, влюбленным в музыку, а во всех случаях, когда музыка становится организующим центром литературного произведения, когда она трансформируется в литературу, возникает поэзия. Именно это произошло с Шоу, поэтом по призванию и таланту. Судьба привела его на трибуну оратора, а потом к подножию сцены — в качестве театрального обозревателя. Так родился драматург, верный социальной проблематике, вооруженный стрелами парадоксов и приемами ораторской речи, но умеющий писать так красиво и музыкально, как может писать только поэт. Вот почему он создал шедевры в области великой поэтической драмы.
Л-ра: Филологические науки. – 1970. – № 5. – С. 20-30.
Произведения
Критика