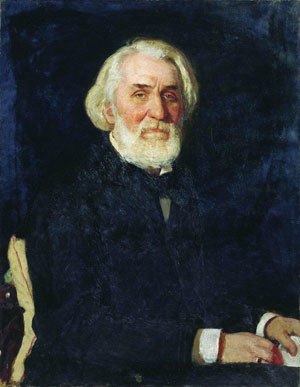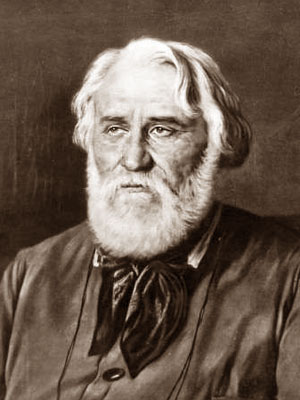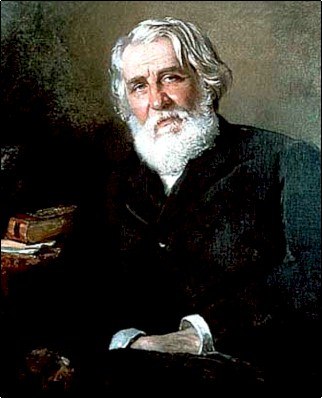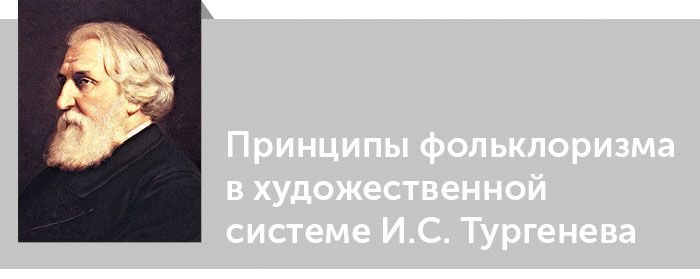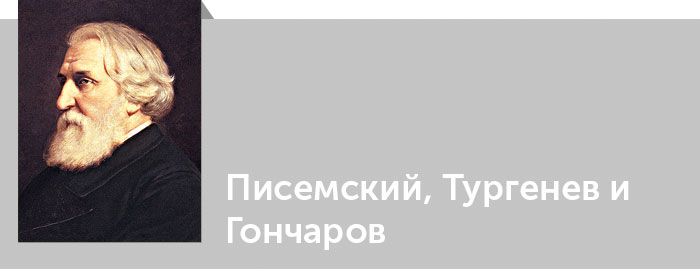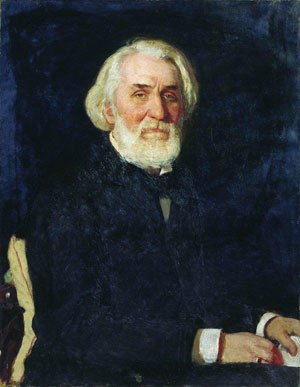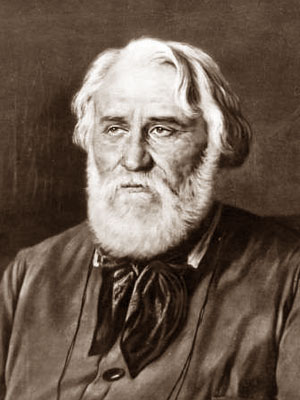Культурно-исторический пейзаж у И.С.Тургенева

Н.Н. Халфина
В произведениях русских писателей-реалистов XIX в., прежде всего тех, творческое формирование которых началось в первую половину века, обнаруживаются черты историзма предшествующих эпох, главным образом романтизма.
Остановимся на особых приемах передачи «минувшего» у Тургенева в лирически одухотворенном пейзаже, пронизанном культурно-историческими подробностями.
То, что пейзаж может быть наполнен образами прошлого — историческими, мифологическими и литературными, — было определено художественным сознанием конца XVIII — начала XIX в.
Интерес к образам разных культур, к историческому прошлому, потребность художественно воплотить это прошлое — ярко, выпукло, предельно приближенно к современному моменту восприятия («Все, что ни является в истории: народы, события — должны быть непременно живы и как бы находиться перед глазами слушателей или читателей»), — характерны для эпохи предромантизма и романтизма.
Это стремление к конкретизации, к «осязательности» прошлого проявилось и в культурно-историческом пейзаже, когда облик прошлого конкретно «проступает» в пейзаже.
Тон задумчивого повествования, переходящий с предмета на предмет взгляд — при посещении родного угла — сопровождают тему исторического предания: вековые липы гласят «ветреному племени» о «прежде почивших отцах и братиях». Раздольные поемные луга кажутся любимыми местами былинных богатырей; леса, «безграничные, глухие, безмолвные», напоминают о Рюрике; тихий плеск волн Москвы-реки в жаркий полдень заставляет тургеневского героя вспомнить греческих нимф; лесная караулка под скалой превращается целым рядом поэтических построений-ассоциаций в хижинку из «Энеиды» Вергилия, место свидания Дидоны и Энея.
«Оживающий» пейзаж, наполняющийся видениями прошлого, воссоздает Тургенев в «Нимфах» (1878). Особая характерность пейзажа (острова Эгейского моря) настраивает на античные видения. «Я стоял перед цепью красивых гор, раскинутых полукругом; молодой зеленый лес покрывал их сверху донизу.
Прозрачно синело над ними южное небо; солнце с вышины играло лучами; внизу, полузакрытые травою, блистали прозрачные ручьи».
Поэт возрождает на миг прекрасную античность:
«О чудо! — в ответ на мое восклицание по всему широкому полукружию зеленых гор прокатился дружный хохот, поднялся радостный говор и плеск... Послышался торопливый топот легких шагов, сквозь зеленую чащу замелькала мраморная белизна волнистых туник, живая злость обнаженных тел... То нимфы, нимфы, дриады, вакханки бежали с высот в равнину...».
Прикрепленность мифологического, литературного образа (или произведения) к определенному месту, взаимосвязь местности и истории осваивались опытом западноевропейской и русской литературы в период становления историзма.
Тургенев отдает дань традиции (зародившейся со времен европейского классицизма) изображения Рима и его окрестностей, овеянного историческим преданием: «Рим, Рим близок... Я поднял глаза. Что это чернеет на окраине ночного неба? Высокие ли арки громадного моста? Над какой рекой он перекинут? Зачем он порван местами? Нет, это не мост, это древний водопровод. Кругом священная земля Кампании, а там, вдали, Албанские горы — и вершины их и седая спина старого водопада слабо блестят в лучах только что взошедшей луны...».
Ночное приближение к Риму «в лучах только что взошедшей луны» овеяно ощущением истории и сопоставимо со стихотворением Тютчева «Рим ночью» (1850), написанным ранее тургеневских «Призраков» (1864). Ночь символизирует закат Рима, напоминает период его упадка.
В ночи лазурной почивает Рим. Взошла луна и овладела им. И спящий град, безлюдно-величавый, Наполнила своей безмолвной славой...
Природа в ночных римских видениях (стоячие воды болот, недвижное море, крупные звезды) пропитана атмосферой исторического воспоминания: «Понтийские болота... — повторял я, и ощущение величавой унылости охватило меня». Образ буйвола в описании римских окрестностей воспринимается как воплощение «грубого, грозного Рима» цезарей. «Буйвол медленно поднял из вязкой тины свою косматую чудовищную голову с короткими вихрами щетины между криво назад загнутыми рогами. Он косо повел белками бессмысленно-злобных глаз и тяжело фыркнул мокрыми ноздрями, словно почуял нас». За описанием устрашающего облика буйвола следует другая картина: римские легионы, «миллионы очертаний, то округленных, как шлемы, то протянутых, как копья», «взрыв трубных звуков и рукоплесканий».
Явления прошлого составляют отдельные главки в «Призраках», композиция которых построена на чередовании образов истории и культуры, прошлой и современной.
Видения, навеянные культурой эпохи Возрождения, соединяются с пейзажем острова Изола-Белла, «усеянного статуями, портиками храмов» (Тургенев посетил этот остров в 1840 г.).
Начало глав настраивает на приближающееся видение. Например: «Оглянись, — сказала мне Эллис, — и успокойся». Прошлое начинает проясняться: «Сперва я не различал ничего: меня слепил этот лазоревы блеск — но вот понемногу начали выступать очертания прекрасных гор, лесов; озеро раскинулось подо мною с дрожавшими в глубин звездами, с ласковым ропотом прибоя.
Тургеневский пейзаж строится по перепективно-панорамному принципу. Очертания «прекрасных гор, лесов», обрамляющих роскошны «мраморный дворец», напоминают итальянские пейзажи художников эпохи классицизма.
Пейзаж наполняют скрытые поэтические ассоциации с культурой эпохи Возрождения подобное незримое пронизывание текста культурно-историческими связями характерно для тургеневской поэтики.
В образе «высокого круглого острова» «облитого лучезарным паром», в радостной красоте озера, в звуках женского голоса, оглашающих ночь, в блеске ночи угадывается повторяющийся у Тургенева «образ блаженства» И.М. Гревс указывает на исходный текст «образа блаженства» в «Лазурном царстве» Тургенева — на сонет Данте, обращенный к Гвидо Кавальканти. Безмятежная прогулка под парусами с друзьями, вид прекрасного острова, женское пение над водой, чувство счастья — вот составляющие этого «образа блаженства». Вариации того же образа слышны в предсмертном бреду Якова Пасынкова «о царстве лазури». Вспомним сцену счастливого катания под парусами по озеру в повести «Фауст».
Блаженную «отдаленную жизнь» в «Призраках» озаряет блеск ночи. Дистанция времени вот-вот исчезнет («и я хотел уже ступить на окно, хотел заговорить...»), два разновременных бытия вот-вот сольются — это предел возможного сближения прошлого и настоящего, допускаемый избранной Тургеневым формой явления прошлого в виде «призраков».
Тургеневские «миги» прошлого полны лирического напряжения, силы «жизненной волны» (Ап. Григорьев). Герою «уже чудится... быстрый шелест шагов» в старом русском саду. В глухом заколоченном усадебном доме вдруг предстает в воспоминании екатерининский вельможа: граф Петр Ильич. Эпизодическое явление «вельможи старого века», приветливо улыбающегося, расхаживающего на пиру, — явление среди заброшенных развалин — характерно для тургеневской манеры «вдруг оживающих картинок», при взгляде издалека, из современности.
Образы прошлого возникают у Тургенева на фоне усадебно-паркового пейзажа — в саду или в доме. Фоном может быть и утолок города.
У Пушкина и Тургенева сходно изображение подобных «чувствований». Пушкинский Германн охвачен волнением в «доме старинной архитектуры»: «По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет пятьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться».
Та же тональность слышна у Тургенева: «И вдруг мне почудилось, как будто по самой середине одной из аллей, между стенами стриженой зелени, жеманно подавая руку даме в напудренной прическе и пестром роброне, выступал на красных каблуках кавалер, в золоченом кафтане и кружевных манжетках, с легкой стальной шпагой на бедре... Странные, бледные лица...».
Оба видения отличает приподнято-романтический тон. Описание необычного наряда делает персонажей загадочными. Юные и нарядные, они являются в миг своего расцвета, противопоставленные потоку времени, и затем уносят с собой тайну своего существования.
Воссоздание исторической атмосферы через ощущение присутствия ушедшей жизни там, где она некогда была, восходит к эстетике романтизма. Исторически окрашенный пейзаж часто включал в себя образы архитектуры, понимаемой в эпоху романтизма как зримое воплощение отечественной и мировой истории. Архитектура прошлого превращала пейзаж в «эпизод исторического предания»: взгляд погружался в видения «былого» и уносился в даль, овеянную преданием.
Один из источников романтической поэтизации архитектуры — гетевское творчество периода «веймарского классицизма». Воссоздание античности у Гете было подготовлено открытиями Винкельмана — «первого романтика», воспевшего античность, и историко-эстетическими взглядами Гердера, его идеей проникновения в каждую историческую эпоху и возможного возрождения «духа времени». Опорой возрождения классической древности в «Римских элегиях» (1790) послужили Гете «камни» города Рима, призванные поэтом в помощь вместо традиционной Музы. Эти «камни» — высокие дворцы — «должны начать говорить и диктовать ему стихи», должны «ожить». Обращение к «камням» — архитектуре и руинам, окрестностям («фламинской дороге» в переведенной Тургеневым XII элегии) — звучало программно.
Тургенев высоко ценил «Римские элегии»: «Какая жизнь, какая страсть, какое здоровье дышит в них! Гете — в Риме, в объятьях римлянки!». Обратившись к античности, Гете «вдохнул» в нее вторую жизнь, приблизил исторические видения (живые «объятья римлянки»). Тургенев называл это «живой античностью».
Неразрывность связи географического места и истории — новое и выразительное видение, рожденное историзмом конца XVIII в., — превращало пейзаж «в кусок человеческой истории», по словам М.М. Бахтина, «в сгущенное в пространстве историческое время». Архитектурные образы вошли в поэтику повести Карамзина «Бедная Лиза» (1792). Описание окрестностей Москвы соединено автором с историческим воспоминанием, пронизывающим горизонты реально созерцаемого пространства. «Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся!».
Взгляд уходит все дальше и дальше: за цветущие поля, за Москву-реку, к тому горизонту, где с одной стороны «синеются Воробьевы горы», а с другой — виднеется «село Коломенское с высоким дворцом своим».
Этот взгляд на панораму Москвы дополняется внутренним видением «времен, бездною минувшего поглощенных... тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности...». Историческое воспоминание раздвигает горизонт, уводит в историческую даль.
Взору начинают являться лица прошлого: седой старец; юный монах, смотрящий в поле. Повествователь стремится разглядеть образ «минувших столетии» в «тусклое зеркало» истории.
События «Бедной Лизы» Карамзина происходят там, где «возвышаются мрачные готические башни Синова монастыря». «В стенах опустевшего монастыря» «страшно воют ветры»; «между гробов, заросших высокою травою», «сердце содрогается и трепещет», и являются воображению картины прошлого.
В этом архитектурном мотиве слышится отзвук английского «готического» романа, сложившегося к концу XVIII в. и сделавшего готику, прежде всего замок, «новой территорией свершения романных событий». Описание замка и его окрестностей соединялось с воспоминаниями прошедших событий, легендами и преданиями. Поэтизация средневековой архитектуры в эпоху романтизма вела к ее «одушевлению», к тому, что замок становился участником романных событий.
В исторических романах Вальтера Скотта, выдержанных в духе романтизма, готика предстает в возвышенном ореоле, «как бы унаследовав тот особый блеск, то обаяние истории, которое было присуще в глазах современников древним средневековым прообразам». Замок видом своим — сиянием окон, обломками башен, «фигурами, едва проступающими на поблекших гобеленах», «далеким стуком дверей», портретами — говорил о прошлом, возрождал в сознании его обитателей. Поэтические переложения Жуковского закрепляли в русской литературе образ средневекового замка. Подобный обобщенно-романтизированный образ замка находим у Лермонтова в стихотворении «Желание» (1831).
На запад, на запад помчался бы я, Где цветут моих предков поля, Где в замке пустом, на туманных горах, Их забвенный покоится прах.
На древней стене их наследственный щит
И заржавленный меч их висит.
Я стал бы летать над мечом и щитом
И смахнул бы я пыль с них крылом.
Поэтизация замков, старинных домов нашла воплощение в русской литературе, где на протяжении XIX в. сложился образ русской классической усадьбы, с портретами XVIII в., старинной обстановкой, столетними липами.
Образ усадьбы закреплен в русской художественной традиции Тургеневым. Усадьба, уже покидаемая владельцами, пустеющая, превращающаяся в поэтический символ, предвещает чеховские «дома с мезонинами» и «вишневые сады».
К концу XIX в. усадьба приобретает новое художественное осмысление: теряя свое сословное значение, она «все чаще воспринимается как исторический и художественный памятник».
В таком ее видении ощущается развитая художественным историзмом XIX в. традиция «исторического прочтения».
Источник: Филологические науки. – 1987. - № 2. – С. 74-76.