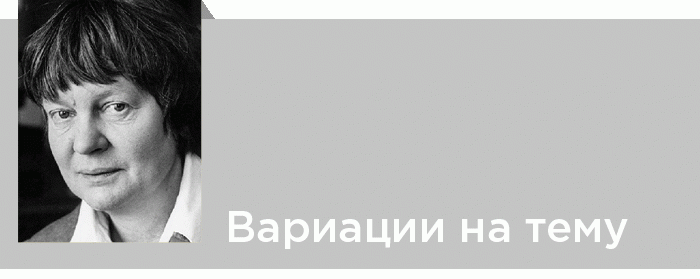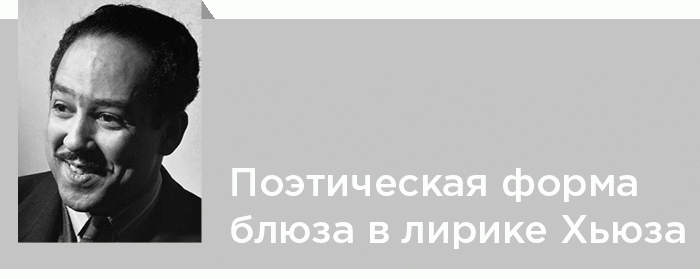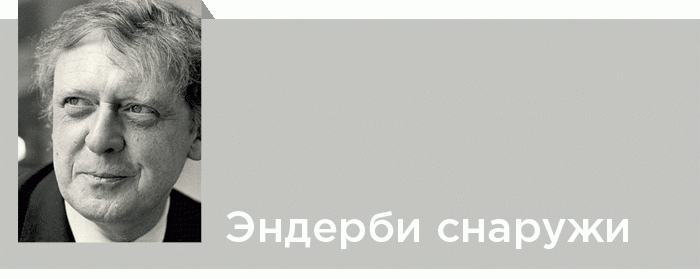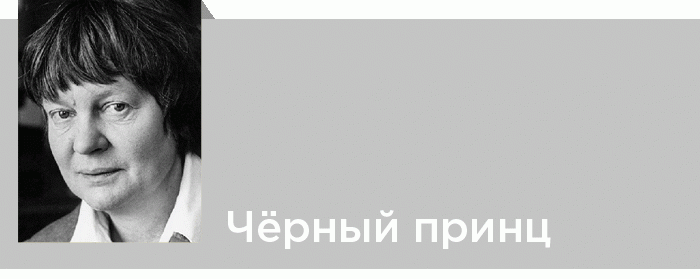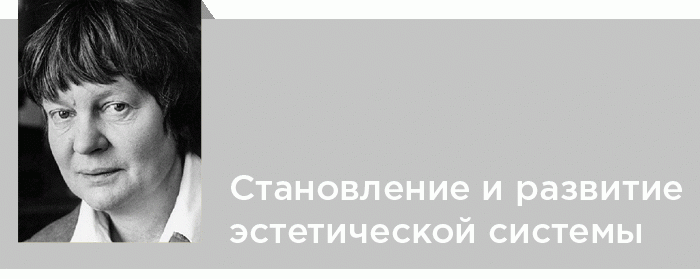Айрис Мёрдок. Море, море

(Отрывок)
ПРЕДЫСТОРИЯ
Море, которое раскинулось передо мною сейчас, когда я пишу эти строки, не сверкает, а скорее рдеет в мягком свете майского солнца. Начался прилив, и оно тихо льнет к земле, почти не тронутое рябью и пеной. Ближе к горизонту море окрашено в пурпур, прочерченный изумрудно-зелеными штрихами. У самого горизонта оно темно-синее. Ближе к берегу, где вид на него ограничивают громоздящиеся справа и слева песочно-желтые скалы, протянулась зеленая полоса посветлее, ледяная и чистая, но не прозрачная, а приглушенно матовая. Здесь север, и яркий солнечный свет не проникает в толщу моря. Там, где вода лижет скалы, на ее поверхности еще сохраняется пленка цвета. У самого горизонта очень бледное безоблачное небо разбросало по темно-синей воде легкие серебряные блики. К зениту небесная синь густеет, вибрирует. Но небо холодное, даже солнце какое-то холодное.
Не успел я закончить этот абзац, предназначенный служить вступлением к моим мемуарам, как произошло нечто до того немыслимое, до того страшное, что и сейчас я не в силах это описать, хотя прошло уже немало времени и я, кажется, даже нашел этому возможное объяснение, правда, не особенно успокоительное. Может быть, спустя еще какое-то время я немного приду в себя и голова прояснится.
Я сказал – мемуары. Вот во что, значит, выльются эти записи? Там видно будет. Пока что, в возрасте одной страницы, они больше похожи не на мемуары, а на дневник. Ну, так пусть будет дневник. Как мне жаль, что я не вел дневника раньше, какой это был бы документ! А теперь главные события моей жизни в прошлом, а впереди – ничего, кроме «воспоминаний на покое». Исповедь себялюбца? Не совсем, но что-то в этом роде. Разумеется, своим актерам и актрисам я этого не говорил. Они бы меня засмеяли.
Театр – вот где убеждаешься в быстротечности земной славы. Ах, эти чудесные, все в блестках, канувшие без следа пантомимы! Теперь я отрекусь от волшебства и стану отшельником; поставлю себя в такое положение, чтобы можно было честно сказать: мне только и осталось, что учиться быть добрым. Конец жизни справедливо считают порой размышлений. Пожалею ли я о том, что для меня эта пора не наступила раньше?
Писать необходимо, это-то ясно, и притом совсем не так, как я писал прежде. Все, написанное мною прежде, было однодневками, на большее я и не претендовал. Эти же мои записи – для потомства, я не могу не надеяться, что они пребудут в веках. Да, этот предмет, эта книжечка, libellum, творение, которому я даю жизнь и которое словно бы уже обрело собственную волю, – для меня отныне как живое существо. Оно хочет жить, хочет уцелеть.
Я и подумывал вести дневник – не событий, потому что их не будет, а просто чтобы получилась некая смесь из мыслей и повседневных наблюдений, моя философия, мои perses, на фоне несложных описаний погоды и прочих природных явлений. Теперь мне кажется, что это была неплохая идея. Море. Одними словесными картинами моря я мог бы заполнить целый том. И систематически рассказать о здешних местах, их флоре и фауне. Если хва-тит прилежания, это могло бы представить известный ин-терес, хоть я и не Уайт из Селборна. Вот сейчас из моего окна, обращенного к морю, я вижу чаек трех разных пород, ласточек, баклана, бесчисленных бабочек, порхающих над цветами, каким-то чудом выросшими на моих желтых скалах...
Только не надо пытаться писать «красиво», это испортило бы весь замысел. К тому же я только выставил бы себя в смешном свете.
О благословенное северное море, настоящее море, с чистыми, милостивыми приливами и отливами, не то что Средиземное, этот котел вонючего разогретого супа!
Говорят, здесь водятся тюлени, но я их еще не видел.
Конечно же, нет смысла четко разграничивать «мемуары», «дневник», «философский журнал». Попутно, читатель, я могу рассказать тебе и о моей прошлой жизни, и о моем «мировоззрении». Почему бы и нет? В размышления все это укладывается вполне естественно. Вот так бестревожно (ведь все тревоги остались позади) я и обрету свой «литературный жанр». Во всяком случае, к чему решать заранее? Позже, если понадобится, я смогу расценить эти беспорядочные записи как черновик для более связного повествования. В самом деле, как знать, насколько интересной покажется мне моя прошлая жизнь, когда я начну о ней рассказывать? Может быть, я постепенно доведу свою историю до сегодняшнего дня и как бы наложу свое настоящее на свое прошедшее?
Покаяться в эгоизме? Пожалуй, автобиография не лучший путь к этой цели. Но ведь я, не будучи философом, и о мире могу размышлять, лишь размышляя о своих приключениях в этом мире. А я чувствую, что настало наконец время подумать о себе. Может показаться странным, что такое чувство – будто никогда еще о себе и не думал – возникло у человека, которого популярная пресса заклеймила как «тирана», «деспота» и (если память мне не изменяет) «чудовище властолюбия». Однако это так. Я в самом деле мало что знаю о своей сущности.
И только в последнее время у меня появилась эта потребность написать нечто одновременно и личное, и обобщающее. В пору, когда я писал однодневки, мне казалось, что если я когда-нибудь что-нибудь издам, то разве что поваренную книгу.
Сейчас, вероятно, самое время представиться: прежде всего, выходит, самому себе. Вот, оказывается, какая странная вещь автобиография. Другим, если эти слова будут напечатаны в не слишком далеком будущем, «оратор достаточно знаком», как говорят на торжественных собраниях. Сколько времени длится смертная слава? Такая, как у меня, – не очень долго, но все же. Да, да, я – Чарльз Эрроуби, и сейчас мне, скажем так, за шестьдесят. У меня нет ни жены, ни детей, ни сестер, ни братьев, я – это именно я, широко известная фигура в блестках непрочной славы. Я уже давно решил, что после шестидесяти лет уйду из театра. («Ты никогда не уйдешь, – сказал мне Уилфрид. – Просто не сможешь». Он ошибся.) А я устал от театра, с меня хватит. Вот чего не могли ни предугадать, ни вообразить все те, кто меня близко знал, – Сидни, Перегрин, Фрицци, да и Уилфрид и Клемент, когда были живы. А дело не только в том, чтобы благоразумно удалиться «на гребне волны». (Сколько актеров и режиссеров не сумели уйти вовремя, несчастные люди!) Я от всего этого устал. Ощутил какой-то внутренний протест.
«Ладно, уходи, – говорили они, – но не воображай,что сможешь вернуться». А я и не хочу возвращаться, премного благодарен. «Если перестанешь работать, уединишься, то кончишь тихим помешательством». (Это высказался Сидни.) А я, напротив, впервые в жизни чувствую себя абсолютно нормальным, свободным и счастливым.
Не то чтобы я вдруг стал относиться к театру «неодобрительно», как, скажем, всю жизнь относилась к нему моя мать. Просто я понял, что если не уйду, то начну духовно увядать, утрачу нечто такое, что до сих пор терпеливо оставалось при мне, но могло бы и уйти, если не дождется от меня внимания; нечто, не связанное с требованиями моей работы, а совсем отдельное от нее, и тем драгоценное. Помню, Джеймс что-то говорил насчет людей, которые кончают свои дни в пещерах. Ну так вот, здесь – моя пещера. И я забрался в нее и принес с собой эту драгоценность, некий талисман, который теперь можно и развернуть. Как высокопарно это звучит! А я, признаться, и сам толком не что хотел Прервем-ка на время эти тяжеловесные размышления.
Все это я записывал в течение нескольких дней – чудесных, пустых, одиноких дней, о каких я столько мечтал, еще не веря, что когда-нибудь у меня достанет желания сделать эту мечту явью.
Я опять ходил купаться, но все еще не нашел самого подходящего места. Сегодня утром я просто бросился в воду с ближайших к дому скал, там, где они обрываются почти отвесно, но небольшие выступы и складки все же образуют некое подобие лестницы. Я называю это место моим «утесом», хотя оно даже во время отлива не выше двадцати футов. Вода, конечно, очень холодная, но уже через несколько секунд она словно обволакивает тело теплой серебряной кожей, словно обрастаешь чешуей, как тритон. Кровь, взбодренная холодом, ликует, наливаясь новой силой. Да, это моя стихия. Странно даже подумать, что я впервые увидел море только в четырнадцать лет.
Я – бесстрашный, искусный пловец, и волны меня не пугают. Сегодня море было тихое по сравнению с океанами другого полушария, где мне доводилось резвиться, как дельфину. Трудность у меня была, можно сказать, чисто техническая. До смешного трудно, даже при такой слабой зыби, оказалось выбраться обратно на берег. Мой утес чуть круче, чем нужно, а выступы – чуть уже. Легкие волны дразнили меня – приподнимали и тут же опять отдергивали от скал, снова и снова отрывая мои пальцы, ищущие, за что бы ухватиться. Утомившись, я поплавал немного, высматривая другие места, где море беспокойно металось взад-вперед, но там вылезти было еще труднее – подо мной была большая глубина, а скалы, хоть и не такие крутые, были совсем гладкие либо скользкие от водорослей, и я не мог за них удержаться. В конце концов я все же вскарабкался на свой утес, впиваясь в камень пальцами рук и ног, потом примостился боком на коленях на одном из выступов. Добравшись до вершины и растянувшись на солнце, чтобы отдышаться, я заметил, что руки и колени у меня в крови.
С самого приезда сюда я позволяю себе удовольствие купаться нагишом. По счастью, этот скалистый участок берега не привлекает туристов с их «ребятишками». Здесь нет ни намека на какой-либо песчаный пляж. Кто-то, я слышал, сказал, что берег здесь ни к черту. Подольше бы за ним держалась такая репутация! Скалы, что тянутся в обе стороны от моего дома, и впрямь не живописны. Они песочно-желтого цвета, в веснушках кристаллов, навалены огромными бесформенными грудами. Ниже линии прилива они обвешаны фестонами блестящих колючих темно-бурых водорослей с неприятным запахом. Однако для тех, кто поднимется выше, они таят великое множество радостей. Там попадаются маленькие узкие ущелья, и в них – где озерко, где миниатюрная осыпь из поразительно разнообразных и красивых камней. Есть там и цветы, ухитрившиеся пустить корни в расщелинах: розовая армерия и бледно-лиловый просвирник, что-то вроде ползучего белого морского горицвета и сине-зеленое растение с листьями как у капусты, и камнеломка, такая крошечная, что ее листья и цветы почти не видны невооруженным глазом. Надо будет разыскать мою лупу и рассмотреть ее как следует.
А еще для этого участка берега характерно, что тут и там вода промыла в скалах ямы. Гротами их не назовешь, много чести, но, если смотреть на них снизу, из воды, выглядят они интересно и немного зловеще. В одном месте, совсем близко от моего дома, вода построила из скал горбатый мост, под которым она с грохотом врывается в глубокую, с отвесными краями впадину. Мне почему-то очень нравится стоять на этом мосту и глядеть, как вспененные волны, кидаясь вперед и отступая, рождают в этой замкнутой каменной яме неистовое противоборство сил.
Вот и еще день прошел. Погода держится прекрасная. С самого приезда сюда я не получил ни одного письма. Моя бывшая секретарша мисс Кауфман по доброте своей оставляет в Лондоне быстро мелеющий поток моей деловой корреспонденции. Да и от кого мне хотелось бы получить письмо? Разве что от Лиззи, а она, вероятно, на гастролях.
Я продолжаю обследовать скалы по пути к моей башне. Да, ведь я теперь владелец не только дома и скал, но и полуразрушенной башни «мартелло». От нее, увы, остался один остов. Хорошо бы восстановить ее, устроить внутри винтовую лестницу, а наверху – комнату для занятий, но я вопреки распространенному мнению не богат. Мой дом у моря поглотил почти все мои сбережения. Правда, у меня хорошая пенсия – этим я обязан практическому складу ума милой Клемент. Но нужно экономить. Возле башни меня порадовала археологическая находка, свидетельствующая, между прочим, о том, что не только мне было трудно выбираться из этого моря. В потайной бухточке под башней, невидимые кроме как прямо сверху, в скале вырублены несколько ступенек, спускающихся в воду, а над ними укреплен железный поручень. К несча-стью, нижний конец поручня отломился, а скользкие сту-пеньки при сильной волне бесполезны, особенно во время отлива. Волны попросту сбивают вас с ног. Прямо-таки поражаешься, какую упорную, молчаливую силищу спо-собно проявить мое шаловливое море! Но самая идея пре-восходна. Поручень надо надставить. И заодно мне пришло в голову, что, если в стену моего утеса забить несколько костылей, это будут отличные точки опоры для рук и для ног, чтобы выбираться из воды независимо от прилива. Надо разузнать в деревне насчет рабочих.
Я выкупался с башенных ступенек во время прилива, а потом долго лежал не одеваясь на траве возле башни с ощу-щением блаженной расслабленности во всем теле. Башню, к моему великому сожалению, туристы изредка посещают, но как-то не хочется прибивать к ней дощечку «Частное владение». Этот лужок возле башни – единственная трава, какой я владею, если не считать маленькой лужайки поза-ди дома. Трава, истрепанная морским ветром, здесь очень короткая, образует как бы плотные круглые коврики, креп-кие, словно кактусы. У подножия башни цветет белая и розовая валериана, а густо-фиолетовые цветы тимьяна гля-дят из травы и цепляются за скалы подальше от берега. Их, как и ту крошечную камнеломку, я уже разглядывал в лупу. Когда мне было десять лет, я хотел стать ботаником. Мой отец обожал растения, хотя и не разбирался в них, и мы много чего рассматривали с ним вместе. Интересно, как я построил бы свою жизнь, если бы очертя голову не увлекся театром.
По дороге домой я заглядывал в свои озерки. Какой они полны прекрасной и любопытной жизнью! Нужно ку-пить кое-какие книги по этим вопросам, если я и впрямь надумаю, хотя бы в меру моих скромных требова-ний, стать Гилбертом Уайтом этих мест. Еще я набрал красивых камней и отнес их на свою вторую лужайку. Они гладкие, продолговатые, прелестные на ощупь. Один из них, пятнисто-розовый с ровными белыми прожилками, лежит сейчас передо мной. Моему отцу очень бы здесь понравилось – я до сих пор вспоминаю его и тоскую по нему.
Сейчас, после второго завтрака, я хочу описать мой дом. А на завтрак у меня, к вашему сведению, были вот какие блюда, одно другого вкуснее: горячие гренки с паштетом из анчоусов, затем тушеная фасоль с мелко нарезанным сельдереем, помидорами, лимонным соком и прованским маслом. (Самое лучшее, не безвкусное прованское масло – это очень существенно, я привез с собой запас из Лондона.) Хорошо бы добавить туда зеленого перца, но в деревенской лавке (до нее мили две, приятная прогулка) его не оказалось. (На дом мне ничего не доставляют, слишком далеко, так что я даже за молоком хожу в деревню.) Затем бананы и сливки с сахарной пудрой (бананы резать, ни в коем случае не разминать, сливки негустые). Затем крекеры с новозеландским маслом и йоркширским сыром. Импортного сыра я не признаю, наши сыры – лучшие в мире. Всю эту прелесть я запил почти целой бутылкой мускателя из моих скромных «подвалов». Я пил и ел медленно, как и следует («готовить быстро, есть не спеша»), не отвлекаясь, благодарение Богу, на разговоры или на чтение. Есть так приятно, что даже мысли надо на это время по возможности отключать. Конечно, и чтение, и мысли – все это важно, но не менее важен и процесс насыщения. Создатель милостиво наделил нас способностью поглощать пищу. Всякая трапеза должна быть пиром, и да будет благословен каждый новый день, приносящий с собой хорошее пищеварение и бесценное чувство голода.
Интересно, напишу я когда-нибудь эту книгу – «В четыре минуты. Поваренная книга Чарльза Эрроуби»? Четыре минуты – это, разумеется, время активной стряпни; время, когда кушанье само печется или варится, сюда не входит. Я просмотрел несколько так называемых быстрых кулинарных справочников, но убедился, что все они только вводят в заблуждение. На практике «пятнадцать минут» означают полчаса, и там содержатся такие указания, как «слегка взбить мутовкой». А те здоровые, нормальные люди, которым была бы адресована моя книга, наверняка не умеют обращаться с мутовкой, а возможно, и не знают, что это такое. Но они – гедонисты. Как известно любому сознательному себялюбцу, во всем, что касается еды и питья, как и во многих (не во всех) других областях, простые радости самые лучшие. Сидни Эш как-то предлагал посвятить меня в восхитительные тайны коллекционных вин. Я решительно отверг его предложение. Сидни терпеть не может обыкновенных вин и счастлив только тогда, когда пьет что-нибудь очень дорогое, с датой на бутылке. А нужно ли отбивать у себя вкус к дешевым винам? (Я, конечно, не имею в виду какое-нибудь пойло, отдающее бананами.) Один из секретов счастливой жизни – непрерывно доставлять себе мелкие наслаждения, и если иные из них можно получить с минимальной затратой денег и времени – тем лучше. Жизнь в театре не позволяет отнестись к еде с полной серьезностью, и в прошлом мне не всегда удавалось поесть не спеша, но готовить быстро я, безусловно, научился. Разумеется, людей неумных мои методы шокируют (в особенности то, как широко я пользуюсь консервами); и, уговаривая меня опубликовать мои рецепты, все они (главным образом женщины – Жанна, Дорис, Розмэри, Лиззи) словно снисходительно надо мною подсмеивались. «Хватит твоей фамилии, чтобы книгу мгновенно раскупили», – бестактно уверяли они. «Обеды у Чарльза – это просто пикники», – заметила как-то Рита Гиббонс. Вот именно, хорошие, замечательные пикники. Но добавлю, к слову, что у меня гости сидят за столом, никогда не держат тарелку на коленях и всегда к их услугам салфетки, настоящие, а не бумажные.
Пища – тема серьезная, и на эту тему писатели, между прочим, не лгут. Сам не знаю, откуда у меня взялось это счастливое кулинарное мастерство. Из своего бережливого детства я вынес убеждение, что разбазаривать пищу грешно. Все нехитрые блюда, которыми меня кормили дома, я поглощал с аппетитом. Моя мать готовила «просто, но вкусно», однако недоставало той вдохновенной простоты, которую я теперь ценю в еде превыше всего. Думаю, что озарение снизошло на меня, как и на святого Августина, когда мне опротивели излишества. В бытность свою начинающим режиссером я по глупости и по несамостоятельности мышления воображал, что должен приглашать всяких людей в шикарные рестораны. Постепенно мне стало ясно, что заглатывать в больших количествах дорогую, замысловатую и далеко не всегда вкусную пищу в общественных местах не только безнравственно, неэстетично и вредно для здоровья, но и не доставляет никакого удовольствия. Со временем я стал приглашать своих гостей вкусить простых радостей у меня дома. Что может быть восхитительнее горячих гренков с маслом, а если угодно, еще и с селедочным паштетом! Или вареный репчатый лук и к нему, кто хочет, холодные мясные консервы. А хорошо сваренная овсянка со сливками и сахарным песком – это ли не блюдо для королей! Но и тут находились люди с безнадежно испорченным вкусом, которые принимали мой осознанный гедонизм за чудачество, за способ себя афишировать. (Один журналист окрестил мои обеды «Ветер в ветлах».) А иные так всерьез на меня обижались.
Возможно, впрочем, что на лживость легенд, окружающих haute cuisine, мне открыли глаза не столько рестораны, сколько званые обеды. Я долго и, как правило, тщетно убеждал своих друзей не затевать сложного угощения. Бессмысленна прежде всего самая трата времени, хотя есть, очевидно, несчастные женщины, которым нечем себя занять, кроме как стряпней. Существует также иллюзия, будто в замысловатой готовке больше «творческого» элемента. Хочу, чтобы меня поняли правильно: я не варвар. Деревенская французская кухня, которую еще можно кое-где найти в этой благословенной стране, очень хороша; но качество ее определяется традицией и инстинктом, не допускающими быстрых темпов. В Англии честолюбивая хозяйка дома не только возводит кулинарию в ритуал и в добродетель, очень часто она изощряется в своем искусстве ради людей, которые вообще не ценят еду, хотя нипочем не сознались бы в этом. Большинство моих театральных приятелей успевали так нализаться перед званым обедом, что у них не было ни малейшего аппетита и они даже не замечали, чем их кормят. Стоит ли посвящать целый день готовке, если гости съедают ваш обед (оставляя половину на тарелках) в таком состоянии? Тот, кто ест с толком, пьет умеренно. Портит званые обеды и то, что за столом полагается разговаривать. Хорошо еще, если повезет и ты окажешься между двумя дамами, оживленно болтающими каждая со своим вторым соседом, – тогда хоть можно сосредоточиться на еде. Нет, не люблю я эти обеды, часто продиктованные честолюбием, заботой о престиже и ложно понятых светских «приличиях», а не подлинным инстинктом гостеприимства. Haute cuisine даже мешает гостеприимству, поскольку те, кто не может или не хочет ее придерживаться, избегают приглашать к себе ее приверженцев из страха показаться примитивными либо неудачниками. Поглощать пищу лучше всего с друзьями, которых такие светские соображения не а еще лучше,конечно, в одиночестве. Я ненавижу фальшь званых обедов, где все целуются, создавая видимость интимной атмосферы.
После этой тирады описание дома придется, пожалуй, отложить до следующего раза. Сейчас могу только добавить, что я (как читатель уже мог убедиться) не вегетарианец. Правда, я ем очень мало мяса и любители бифштексов наводят на меня ужас. Но некоторые продукты (например, паштет из анчоусов, печенка, колбасы, рыба) занимают, так сказать, ключевые позиции в моем меню, и остаться без мне бы не хотелось; здесь гедонизм торжествует над поверженными в прах нравственными критериями. Возможно, мне и следует отказаться от мяса, но я так долго обдумывал этот шаг, что уже едва ли решусь на него.
* * *
Теперь-то я наконец опишу мой дом. Называется он Шрафф-Энд. Энд – конец, это понятно. Он стоит на конце мыса, как бы на полуострове, прямо на скалах. Кокой безумец построил его здесь? Дата постройки, видимо, около 1910 года. Но почему Шрафф? Я спрашивал об этом у двух из моих здешних (пока весьма немногочисленных) знакомых – у владелицы лавки и хозяина деревенского трактира, и оба сказали, хотя подробнее объяснить не могли, что «Шрафф» означает «черный». (Shruff – schwarz? Едва ли.) Об истории дома я еще ничего не узнал. Купил я его у некоей «старой леди» по имени миссис Чорни, но лично с ней не встречался. Цена оказалась изрядная, да еще мне пришлось купить всю мебель и прочую обстановку, не представляющую никакой ценности. Самый дом имеет ряд явных недостатков, на которые я не преминул указать агенту по продаже. В нем почему-то очень сыро, стоит он на юру, далеко от другого жилья. Водопровод и канализация, по счастью, имеются (в Америке мне случалось жить и без этих удобств), но нет ни электричества, ни центрального отопления. Готовка на баллонном газе. Есть нелепости и в планировке, о них я расскажу в своем месте. Агент только улыбался, сразу смекнув, что я уже влюблен в этот дом, несмотря на все недостатки. «Владение уникальное, сэр», – сказал он. Что правда, то правда.
Местоположение его пленяет сердце, хотя мои деревенские знакомцы не без удовольствия заверяют меня, что зимой там будет холодно и ветрено. Знали бы они, как я жду этих зимних штормов, когда яростные волны будут ломиться прямо в мою дверь! С тех пор как я здесь живу (то есть уже больше месяца), погода стоит подозрительно тихая. Вчера море было так неподвижно, что на нем держалась целая флотилия синих мух, которые словно ползали по его гладкой поверхности. Из обращенных к морю верхних окон (где я сейчас сижу) видно только море, если нарочно не заглядывать вниз, на скалы. Из нижних окон моря не видно – только прибрежные скалы слоноподобной формы и размеров. С черного хода, из кухни, попадаешь на маленькую, окаймленную скалами лужайку с тимьяном и свалявшейся до плотности кактуса травой. Лужайку
эту я оставлю в ведении Природы – я не садовник (до сих пор я вообще не владел ни одним клочком земли). А Природа устроила для меня здесь каменное кресло, в которое я кладу диванную подушку, и рядом с ним – каменное корытце, в которое я складываю красивые камни по мере приобщения их к моей коллекции; так что можно, усевшись в кресло, разглядывать камни.
От парадной двери дома по высокой каменной дамбе,своего рода подъемному мосту, узкая дорога выходит на тракт, гордо именуемый «приморским шоссе». Оно гудронировано, но посередине сквозь гудрон пробивается трава. Автомобили даже в мае проезжают по нему нечасто. Добавлю к слову, в чем состоит один из секретов моей счастливой жизни: я так и не научился водить машину, не совершил хотя бы этой ошибки. Всегда находились люди,обычно женщины, жаждущие отвезти меня, куда только я захочу. Зачем лаять самому, когда есть собака? По обе стороны дамбы, далеко внизу, в полном беспорядке насыпаны обломки скал помельче. Море туда не достает. Пейзаж не столь живописен, не говоря уже о ржавых жестянках и разбитых бутылках – надо будет как-нибудь слазить туда и убрать этот мусор. За шоссе опять начинаются горбатые желтые скалы, порой достигающие огромной высоты; здесь оправой им служат жесткая пружинистая, трава и пылающие на солнце кусты утесника. Попадаются (посеянные человеком или природой?) жиденькие фуксии и вероника, вся в цвету, и какой-то очень приятный на вид шалфей с серыми листьями. За этим «цветником» местность становится более ровной и пустынной – только утесник да вереск, да кое-где предательские «окна», источающие скверный запах, заросшие ядовито-зеленым и красным мхом. Эти места я еще не обследовал. Ходок я неважный и пока что вполне увлечен и доволен моим раем у моря. Между прочим, на этой пустоши, милях в полутора от Шрафф-Энда, находится ближайшее ко мне жилье – ферма Аморн. По вечерам из верхних окон, обращенных к шоссе, я вижу, как там зажигается свет.
Приморское шоссе, если свернуть по нему вправо, ны-ряет в следующую бухту, которая мне видна из Шрафф-Энда, только когда я подхожу вплотную к башне на мысу. Там, в трех-четырех милях от моего дома, имеется заведение под вывеской «Отель „Ворон“», вызывающее у меня смешанные чувства, поскольку оно претендует на известный шик и привлекает туристов. Самая бухта очень красива в ожерелье из больших, необычной формы, почти шаровидных камней. Здешние жители называют ее Воронова бухта, по названию отеля, но есть у нее и другое название на местном диалекте, что-то вроде «Шахор» (бухта Шор – Береговая? Почему бы?). Если свернуть по шоссе влево, оно скоро втянется в занятное узкое ущелье, которое я прозвал Хайберским проходом. Путь прорублен в обнаженных скалах, которые в этом месте глубоко врезаются в сушу. За ущельем – крошечный каменистый пляж,единственный в этой округе, поскольку почти везде глубина под скалами даже во время отлива порядочная, что я сразу же оценил. От пляжа пешеходная тропинка ведет по диагонали в деревню, расположенную немного отступя от моря, а шоссе скоро приводит в прелестную маленькую гавань, где изогнутый каменный причал – чудо строительного искусства – уже давно не используется и весь затянут илом. Раньше здесь, очевидно, стояли рыбачьи лодки, но теперь они причаливают где-то севернее: иногда я вижу их на моем участке моря, вообще-то удивительно пустынном. Дальше, за гаванью, в скалах выбиты длинные покатые ступени, это так называемое «дамское купанье». Дам я ни разу там не видел, только изредка мальчишек. (Местные жители почти не купаются, это занятие, видимо, представляется им одной из форм слабоумия.) Надо сказать, что «дамское купанье» так заросло скользкими бурыми водорослями и так густо усыпано камнями, которые накидало море, что купаться здесь едва ли безопаснее, чем в других местах. Здесь прибрежная дорога переходит в проселок (к сожалению, проходимый для автомобилей) и лезет вверх, где мои желтые скалы сменяются живописными, внушительной высоты утесами. А гудрон сворачивает прочь от моря – в деревню и дальше.
Деревня называется Нэроудин, о чем оповещает надпись на красивом каменном указателе у поворота приморского шоссе. Нэроудин – это несколько улиц, застроенных каменными домиками, несколько коттеджей выше по склону и одна лавка. В ней не продается «Таймс», нет батареек для моего транзистора, но меня это особенно не смущает, как не огорчило и отсутствие мясной лавки. Трактир всего один – «Черный лев». Домики очаровательны, накрепко сложены из местного желтоватого камня, но интересно в архитектурном отношении только одно здание – церковь, отличная постройка XVIII века с галереей. Сам я, конечно, в церковь не хожу, но мне приятно было узнать, что служба – здесь бывает – правда, всего раз в месяц. Церковь содержится в чистоте и порядке, в ней всегда много цветов. Тот далекий колокольный звон, который я иногда слышу, доносится, вероятно, из такой же деревушки дальше от моря, за фермой Аморн, – там местность не такая суровая и есть пастбища для овец. В Нэроудине нет ни пасторского дома, ни помещичьей усадьбы; впрочем, в мои планы и не входило водить знакомство с пастором и с помещиком! Приятно также отметить, что деревню миновала такая напасть, как «интеллектуалы», которых в наши дни рискуешь встретить где угодно. Да, еще два слова о церкви. Возле нее есть очень уютное cimetiere marin, свидетельство того,что в былые времена жители этого захолустья бороздили дальние моря и океаны. На многих могильных плитах вырезаны парусные суда, якоря и на редкость выразительные киты. Неужели отсюда уходили в море китобои? Одно надгробье особенно меня заинтересовало. На нем высечен дивной красоты якорь с куском каната и простая надпись: «Молчун. 1879-1918». Надпись показалась мне странной, но потом я сообразил, что Молчун, вероятно, был какой-нибудь глухонемой матрос, которого всю жизнь только по этому признаку и отличали. Бедняга.
А теперь вернемся в Шрафф-Энд. Фасад, глядящий на дорогу, сам по себе ничем не примечателен, но здесь, на мысу, открытом всем ветрам, кажется несуразным. Дом – кирпичный, «двухфасадный», с двумя фронтонами, на первом этаже окна фонарем. Кирпич темно-красный. В пригороде Бирмингема такой дом вообще не привлек бы внимания, но совсем один, на этом диком берегу, он, без сомнения, вышлядит странно. Задняя стена изуродована снаружи упрочненной штукатуркой, очевидно, для защиты от непогоды. Специалист, вероятно, установил бы возраст дома по бледно-желтым шторам, которые сохранились почти во всех комнатах – целехонькие, с блестящими деревянными кольцами на шнурах, с шелковыми кистями и кружевом понизу. Когда эти шторы спущены, с дороги дом выглядит до жути загадочно и самодовольно. А внутри в занавешенной шторами комнате желтый свет почему-то навевает на меня печальные воспоминания детства, может быть, атмосферу дедушкиного дома в Линкольншире.
Одну из комнат нижнего этажа я называю «книжной» (там стоят фанерные ящики с моими книгами, еще не распакованные), другую – столовой (там я держу вино). Но живу я только в комнатах с видом на море, наверху – в спальне и в гостиной, как я решил ее именовать, внизу – в кухне и в прилегающей к ней небольшой комнате,которую я называю «красной». Там есть хороший камин, который, видимо, топили дровами, и вполне приличный бамбуковый стол с таким же креслом. Стены снизу обшиты белыми деревянными панелями, а выше покрашены в томатный цвет, экзотический штрих, единственный во всем доме. Кухня с газовой плитой вымощена шиферными плитами, огромными, я таких еще не видал. Холодильника, конечно, нет, для любителя рыбы факт прискорбный. Есть вместительная кладовая, кишащая мокрицами. На первом этаже все дерево пропитано сыростью. В прихожей я отодрал кусок линолеума и тут же в страхе водворил его на место. Из-под него пахнуло соленым запахом. Неужели это море, отыскав какой-то потайной ход, поднимается в дом? Не может быть. Надо мне было, конечно, потребовать заключения инспектора, но очень уж я торопился. У парадной двери старомодный
звонок – длинная проволока с медной ручкой. Звонит он в кухне.
Главная особенность дома, для которой я не могу предложить рационального объяснения, состоит в том, что и на первом, и на втором этажах есть внутренняя комната. Другими словами, между передней комнатой и задней есть еще одна, без окон в наружной стене, освещаемая только через окно из комнаты, обращенной к морю, наверху – из гостиной, внизу – из кухни. Эти две нелепые внутренние комнаты – очень темные и совершенно пустые, в нижней стоит только большой продавленный диван, а в верхней – столик, и там же на стене затейливый чугунный кронштейн для лампы, единственный на весь дом. Занимать эти комнаты я ничем не намерен. Со временем уберу лишние стены и таким образом расширю гостиную и столовую. Обстановка в доме вообще небогатая, и своих вещей я привез очень мало. (Кровать, например, всего одна, ведь гостей я не жду!) Эта пустота меня вполне устраивает; в отличие от Джеймса я не собиратель, не накопитель. Я даже стал привязываться к некоторым из вещей миссис Чорни, которые мне пришлось купить, сколько я ни сопротивлялся. Особенно я полюбил большое овальное зеркало в прихожей. Вещи миссис Чорни здесь как-то к месту. Случайными кажутся те редкие предметы, которые я привез с собой. Я много чего распродал, когда расстался с моей просторной квартирой в Барнсе, а почти все остальное перевез в крошечный pied-a-terre в Шепердс-Буше, свалил там кое-как и запер на ключ. Возвращаться туда мне страшновато. Сейчас я уже не могу понять, чего ради вообще сохранил за собой какое-то пристанище в Лондоне; это меня друзья уговорили.
Я сказал «друзья», а если подумать, как же мало их осталось после целой жизни, прожитой в театре. Каким дружелюбным и сердечным может казаться театр, каким тоскливым одиночеством он может обернуться. Великие меня покинули: Клемент Мэйкин умерла, Уилфрид Даннинг умер, Сидни Эш уехала в Стратфорд, провинция Онтарио, Фрицци Айтель погиб – процветает в Калифорнии.
Остались единицы: Перри, Алоиз, Маркус, Гилберт, считанные женщины... Я заболтался. Уже вечер. Море золотое, усыпано белыми точками света, плещется успокоенно и равномерно, как неживое, под бледно-зеленым небом. Какой он необъятный, какой пустой этот простор, к которому меня тянуло с детства.
Писем все нет.
Сегодня море не такое тихое, и чайки кричат. Тишину я, в сущности, не люблю, кроме как в зрительном зале. На море волны, темно-синие, с белыми гребешками.
Я отправился собирать плавник и дошел до каменистого пляжа. Было время отлива, так что с башенных ступенек я не мог выкупаться. А нырять с моего утеса я, пожалуй, подожду, разве что в совсем тихую погоду, пока не придумаю там каких-нибудь зацепок для рук. Я выкупался с пляжа, но не особенно удачно. Ступать по камням было больно и очень трудно выбираться из воды – пляж поднимается ступенями и волны упорно смывали с них камни прямо на меня. Я двинулся домой не на шутку озябший и раздосадованный и забыл прихватить дрова, которые успел собрать.
Сейчас я уже подкрепился (чечевичный суп, потом колбаски «чиполата» с вареным луком и яблоками, вымоченными в чае, потом курага с песочным печеньем; вино – легкое бургундское) и чувствую себя лучше. (Свежие абрикосы, конечно, вкуснее, но и курага, если залить ее на сутки водой, а потом подсушить, – божественное сопровождение к любому сладкому печенью или тартинкам. Особенно она идет к тесту, в котором есть миндаль, а значит, хорошо согласуется с красным вином. Персики, по-моему, превозносят незаслуженно. На мой взгляд, царь фруктов – абрикос.)
Пойти вздремнуть.
Поздний вечер. Две керосиновые лампы, чуть слышно потрескивая, льют спокойный бледно-желтый свет на исцарапанный, весь в пятнах, прекрасный стол палисандрового дерева, некогда – собственность миссис Чорни. Это мой рабочий стол у окна в гостиной, но пользуюсь я и маленьким складным столиком, который принес
сюда из внутренней комнаты, чтобы раскладывать на нем бумаги и книги. Окно пришлось закрыть, а то налетают ночные бабочки, большущие, с бежево-оранжевыми крыльями, этакие вертолетики. Ламп в доме всего четыре, в полной исправности и тоже из собрания Чорни. Они старомодные, довольно тяжелые, медные, с красивой формы колпаками матового стекла. Управляться с керосиновыми лампами я научился в США, в нашей хижине с Фрицци. А вот две керосиновые печки внизу до сих пор остаются для меня загадкой. Нужно будет их обновить, пока ночи не стали холоднее. Вчера к вечеру сильно похолодало, я попробовал затопить камин в красной комнате, но плавник оказался слишком сырой, и камин дымил.
Зимой я, вероятно, буду жить внизу. Как я мечтаю об этом. Гостиная все же скорее не комната, а наблюдательный пункт. В ней властвует высокий камин с выкрашен-ной в черное деревянной отделкой – множество полочек, и над каждой зеркальце. Это, конечно, музейный экземп-ляр, но он смахивает на алтарь какой-то оккультной секты (есть в нем что-то растительное, на восточный лад).
Сегодня вечером, прежде чем зажечь лампы, я какое-то время просто сидел и смотрел на лунный свет – извечное чудо и радость для горожанина. Над скалами так светло, что хоть читай. Но странная вещь, с тех пор как я сюда приехал, читать мне совсем не хочется. Хороший знак. Письмо словно заменило мне чтение. А вместе с тем я как-то все откладываю ту минуту, когда начну писать о себе по порядку. («Родился я на заре нового века, в городе...» – ну, и так далее.) Для связного рассказа о моей жизни найдутся и время, и повод после того, как я, если можно так выразиться, доверю бумаге достаточный запас размышлений. Я все еще как-то стесняюсь собственных чувств, робею перед беспощадной силой некоторых воспоминаний. Одного только рассказа о моих годах с Клемент могло бы хватить на целый том.
Я отчетливо ощущаю безмолвное присутствие обступившего меня дома. Одни части его я освоил, другие упорно не даются мне, пребывают в тумане. В прихожей темно и нет ничего интересного, кроме большого овального зеркала, о котором упоминалось выше. (Этот изящный предмет обстановки как бы излучает собственный свет.) Лестница не вызывает во мне теплых чувств. (По лестницам всегда бродят призраки прошлого.) С поворота ее несколько узких ступенек ведут вбок, в неожиданно большую ванную, обращенную к шоссе, а оттуда, пройдя через низенькую дверцу, можно подняться выше, на чердак. В ванной сохранились хорошие изразцы с изображениями лилий на изогнутых стеблях и лебедей. Стоит там огромная, сильно запущенная ванна на львиных лапах с массивными медными кранами. (Но греть для нее воду негде! Реальнее, видимо, ориентироваться на сидячую ванну, которую я обнаружил внизу в чулане.) Висит там еще инструкция, писанная не английским почерком, относительно того, как спускать воду. Главная лестница после поворота выводит на просторы верхней площадки. Я сказал «просторы», потому что там и правда много места и царит свое особенное настроение. Как на сцене перед началом действия. Иногда мне кажется, что когда-то давно я видел ее во сне. Это большое продолговатое помещение без окон, днем свет попадает туда из открытых дверей, а украшает его, как раз напротив двери во внутреннюю комнату, крепкая дубовая подставка, на которой высится большущая, на редкость безобразная зеленая ваза с широким гофрированным горлом и сыпью розовых роз на толстых боках. Я сильно привязался к этому грубо сработанному изделию. Рядом с вазой – неглубокая ниша в стене, слов-но бы предназначенная для статуи, но за неимением оной похожая на дверь. А дальше – самое интригующее, что есть на этой площадке, – арка с занавеской из бус. В странах Средиземноморья примерно такие занавески вешают на дверях магазинов для защиты от мух. Бусы желтые и черные, выточены из дерева и слегка пощелкивают, когда раздвигаешь их, чтобы пройти. За аркой – двери в спальню и в гостиную.
Пора ложиться спать. За спиной у меня прорезанное высоко в стене, вытянутое в ширину окно во внутреннюю комнату. Вставая из-за стола, я невольно смотрю в ту сторону и вижу свое отражение в черном стекле, как в зеркале. Меня никогда не терзали ночные страхи. В детстве, сколько помнится, я никогда не боялся темноты. Мать всегда внушала мне, что боязнь темноты – суеверие, которого богобоязненные люди не признают. А Бог как защита и не был мне нужен. Защитой от любого ужаса были для меня родители. И в Шрафф-Энде я ничего жуткого не нахожу. Дело не в том. Просто я только что сообразил, что впервые в жизни остаюсь по ночам совсем один. Родительский дом, актерские меблирашки в провинции, квартиры в Лондоне, отели, временные жилища во многих столицах: всегда я жил в ульях, всегда за стеной были какие-то люди. Даже когда я жил в той хижине (с Фрицци), я никогда не был один. Шрафф-Энд – первый дом, которым я владею, и первое настоящее одиночество, в котором я поселился. Ведь этого я и хотел? Конечно, мой дом, как и всякий дом почтенного возраста, даже в безветренную ночь полон тихих скрипов и шорохов, и по нему гуляют сквозняки от рассохшихся оконных рам и плохо пригнанных дверей. Так что, лежа ночью в постели, я без труда могу вообразить, что слышу осторожные шаги на чердаке у себя над головой или что занавеска из бус тихо постукивает, потому что кто-то украдкой прошмыгнул сквозь нее.
Вероятно, я выбрал не самый подходящий момент, на ночь глядя, чтобы писать об этом переживании, но очень уж ярко оно вспыхнуло вдруг у меня в мозгу. Мой гипотетический читатель, возможно, недоумевает, почему я больше не упоминал о чем-то «немыслимом и страшном», что я пережил здесь у моря и не решился описать. Может показаться, что я забыл об этом, и в каком-то смысле я действительно об этом забыл, что подтверждает одну из возможных разгадок этого явления. Теперь я попробую его описать.
Я сидел на скалах над своим утесом, положив эту тетрадь рядом с собой, и смотрел вдаль, на море. Светило солнце, море было спокойно. (Как сказано в записи, с которой начинается эта тетрадь.) Незадолго перед тем я пристально всматривался в озерко среди скал и наблюдал за длиннющим красноватым, с редкими щетинками морским червем, пока он не свился причудливыми кольцами и не исчез в глубине. Я разогнул спину и уселся лицом к морю, помаргивая от солнца. И тут, не сразу, а минуты через две, когда глаза приспособились к яркому свету, я увидел, как из моря поднялось чудовище.
Иначе я не могу это выразить. На моих глазах из совершенно спокойного, пустого моря за четверть мили от меня (или даже ближе) какое-то гигантское существо разбило водную гладь и дугой выгнулось кверху. Сперва оно было похоже на черную змею, потом за длинной шеей последовало продолговатое толстобокое туловище с хребтом из острых шипов. Мелькнул не то ласт, не то плавник. Целиком оно не было мне видно, но нижняя часть его тела или, может быть, длинный хвост вспенил воду под тем, что теперь поднялось из воды на высоту, как мне показалось, двадцати – тридцати футов. Потом это создание свернулось кольцами, длинная шея описала два витка, и голова, теперь явственно различимая, очутилась низко над поверхностью моря. Сквозь кольца было видно небо. И голова была видна совершенно отчетливо – змеиная голова с гребнем, с зелеными глазами и раскрытой пастью, зубастой и розовой. Голова и спина отливали синим. А потом все это мгновенно рухнуло – кольца упали, спина еще с минуту резала зигзагами воду, потом не осталось ничего, только огромная вспененная воронка там, где исчезло чудовище.
Сраженный ужасом, я сначала не мог пошевелиться. Я хотел спастись бегством. Больше всего меня страшило, что чудовище появится снова, ближе к берегу – может быть, прямо у моего утеса. Но ноги меня не слушались, а сердце так колотилось, что любое резкое движение могло привести к обмороку. Море снова утихло, больше ничего не произошло. Наконец я встал и медленно пошел к дому. Поднялся в гостиную и посидел, осторожно дыша и держась за сердце. Дойти до моего обычного места у окна я не решился и с полчаса просидел возле столика в глубине комнаты, прислонясь головой к стене, после чего собрался с силами и внес в эту тетрадь вторую запись.
Пока я вот так держался за сердце, дрожал и переводил дыхание, я наконец заставил себя подумать о том, что же произошло. Способность трезво мыслить и рассуждать,совсем было мне изменившая, постепенно возвращалась. Что-то случилось, а то, что случается, можно
как-то объяснить. В голове мелькнуло сразу несколько объяснений, и когда я начал перебирать их, классифицировать и сопоставлять, я почувствовал некоторое облегчение, и невыносимый безотчетный страх отступил. То, что я видел, могло быть «попросту» плодом воображения. Но нет, такого ужаса и в таких подробностях «попросту» не вообразишь. Позже мне показалось многозначительным, что эта тварь не вызвала у меня ни удивления, ни любопытства, а только страх. Страх я испытал неимоверный. Я не алкоголик и, уж во всяком случае, не склонен к безудержным фантазиям. Другая возможность: а что, если я, опять-таки «попросту», видел животное, неизвестное науке? Что ж, это не исключено. Или еще: не было ли то, что я видел, исполинских размеров угрем? А такие угри бывают? А бывает ли, чтобы угорь поднимался из моря, свивался кольцами и держался стоймя в воздухе? Нет, что я, это был не угорь. У этого было толстое туловище, я видел его спину. Да и никакого угря, даже самого гигантского, я не мог принять за эту нечисть, эти мерзостные кольца на фоне светлого неба.
На каком расстоянии от меня было это чудище и на какую высоту оно поднялось над водой? Я уже стал подозревать, что первое впечатление меня обмануло, хотя по-прежнему был убежден, что видел нечто совершенно невероятное. Всплывшие водоросли, плавник? Эти гипотезы я сразу же отмел. Стоило обдумать еще одну возможность. Ведь как раз перед тем, как увидеть мое гигантское чудовище, я внимательно разглядывал в озерке между скал другое, миниатюрное чудовище, красного червя со щетинками, который при длине в пять-шесть дюймов казался большим, когда извивался в тесном пространстве озерка. Что, если я, повинуясь оптическому обману, какому-то неизвестному науке свойству сетчатки, «спроецировал» облик червя на поверхность моря? Идея интересная, но абсолютно неправдоподобная, поскольку красный червь был совсем не похож на иссиня-черное чудовище, если не считать того, что оба они свивались в кольца. Да я никогда и не слышал о таких оптических фокусах. И еще меня смущало то обстоятельство, что помнил я это чудище очень отчетливо, зрительное впечатление оставалось подробным и четким, а вот расстояние, разделявшее нас, я представлял себе все более смутно.
Разгадка, которая сейчас кажется мне наиболее вероятной (еще неизвестно, останусь ли я при этом мнении), состоит в следующем, хотя признать это мне немного стыдно. Я не алкоголик и не наркоман. Крепких напитков почти не употребляю, гашиш курил в Америке лишь изредка. Но один раз, несколько лет назад, я сдуру вкатил себе дозу ЛСД. (Сделал я это в угоду одной женщине.) Последствия были скверные, очень скверные. Не буду и пытаться описать свои тогдашние переживания, отвратительные и не делающие мне чести. (Скажу только, что в них фигурировали внутренности.) Очень трудно, почти невозможно, было бы выразить это словами. Это было что-то гнусное в моральном, духовном плане, словно твои зловонные кишки вышли наружу и заполнили собой вселенную: какая-то эманация темного, полуосознанного морального зла, от которого не будет спасения. «Неотторжимо» – помню, это слово возникло тогда в связи с моими ощущениями. Зрительные образы в моих видениях были до ужаса четкими и как бы властными, они и сейчас встают передо мной, и писать о них я не хочу. Больше я, разумеется, к ЛСД не прикасался. Позднейших последствий я избежал и через какое-то время стал, по счастью, забывать об этом, забывать совсем по-особенному, как забываешь сны. И все же, может быть, позволительно, даже неглупо, предположить, что морское чудовище, которое я «видел», было галлюцинацией, частично вызванной и тем единственным случаем, когда я как идиот испробовал этот мерзкий наркотик.
Правда, морское чудище было совсем не похоже на то, что мне мерещилось тогда в галлюцинациях, как не было оно похоже и на красного червя в озерке. Но ощущение ужаса было того же порядка, так по крайней мере мне стало казаться очень скоро после того, как это случилось. И процесс забывания, как мне теперь кажется, был оба раза одного порядка. Мне говорили, что такие галлюцинации иногда повторяются спустя много времени. Читатель, остерегись! Должен, впрочем, сознаться, что сейчас, когда я об этом размышляю, самым сильным аргументом
в пользу этого последнего объяснения является то,что все остальные абсолютно неприемлемы.
Опять началось сердцебиение. Надо ложиться. Следовало, пожалуй, отложить этот рассказ до завтра.
Приму снотворное.
Прошло два дня. Спал я хорошо, после того как все записал о своем «чудовище», и мое объяснение пока еще кажется мне правильным. Как бы там ни было, воспоминание теряет четкость, и чувство ужаса исчезло. Пожалуй, мне даже пошло на пользу, что я это записал. Я уже решил,что «шаги» на чердаке – просто крысы. Погода и сегодня солнечная. Писем все нет.
Я опять купался с каменистого пляжика и, хотя море было довольно спокойное, опять злился на то, как трудно из него вылезать. Пришлось лезть круто вверх, галька под ногой осыпалась и сползала вниз, а волны одна за другой окатывали меня сзади. Наглотался воды и порезал ногу. Нашел забытую в тот раз охапку плавника и принес домой. Сильно прозяб, но слишком устал, чтобы возиться с сидячей ванной, тяжелая она, как чугунная. А таскать горячую воду наверх в ванную – нестоящее занятие.
Мне пришло в голову, что, если к железному поручню у башни привязать веревку, там можно будет пользоваться ступеньками и при сильном волнении; а если найти, к чему привязать веревку на моем утесе, чтобы она свешивалась до самой воды, то и там вылезать было бы нетрудно. Надо узнать, продается ли в здешней лавке толстая веревка. И еще узнать, где можно купить баллоны с газом.
Мой дед со стороны отца был огородником в Линкольншире. (Вот я, оказывается, и начал свою биографию, и какое отличное начало! Я знал, что так оно и будет, надо только дождаться.) Дом его назывался Шакстон. Мне казалось, что это очень аристократично – иметь дом с названием. Кем был мой дед с материнской стороны, не знаю, он умер, когда я был еще совсем маленький. Кажется, он «служил в конторе», как позднее и мой отец. Был, очевидно, каким-нибудь клерком, и отец мой тоже, но в доме у нас слово «клерк» не употреблялось. У моего деда с отцовской стороны было два сына: Адам и Авель. Мне никогда не казалось, что он наделен богатым воображением, но в этих именах слышится что-то от поэзии. Мне с раннего детства было ясно, что мой дядя (Авель) пользуется большей любовью и достиг больших успехов, чем мой отец (Адам). Каким образом ребенок замечает такие вещи или, вернее, почему они так заметны, так очевидны для ребенка? Наверное, он, подобно собаке, читает знаки, ставшие невидимыми за условностями взрослого мира, так что взрослые в своей жизни, сотканной из лжи, не обращают на них внимания. Что мой отец (старший сын) – безнадежный неудачник, я знал еще до того, как узнал значение этого слова, до того, как узнал что бы то ни было о деньгах, общественном положении, власти, славе, любой из вожделенных наград, которые, принимая самые разнообразные формы, превратили мою жизнь в ту пляску дервишей, что теперь, надо надеяться, кончилась. Но когда я говорю, что мой милый отец был неудачником, я имею в виду только грубый, житейский смысл этого слова. Он был умный и добрый человек, с чистым сердцем.
Родители моей матери жили в Карлайле, я их почти не знал. Ее сестры запомнились как две бледные «тетечки», тоже в Карлайле. Моя бабка, мать отца, рано умерла и в моих воспоминаниях о Шакстоне фигурирует как фотография. Да и которого я боялся и не любил, запомнились только высокие сапоги и громкий Адам и Авель – вот кто заполнял мой детский мир, властвуя над ним, как боги-близнецы. Мать была отдельной силой, всегда отдельной. И еще, разумеется, был мой кузен Джеймс, как и я – единственный ребенок.
Пути братьев разошлись. Отца занесло в Уорикшир, где он стал служить в «местном управлении». «Занесло»: я вижу его на плоту. Дядя Авель стал преуспевающим адвокатом и осел в Линкольне, где жил в загородном доме Рамсденс – еще один аристократический дом с названием. Рамсденс был больше, чем Шакстон. Оба эти дома до сих пор мне снятся. Со временем дядя Авель перебрался в Лондон, а Рамсденс сохранил за собой как дачу. Дядя Авель женился на хорошенькой американке, которую звали Эстелла. Помню, моя мать говорила, что она – «богатая наследница». Мой отец женился на моей матери,которая работала счетоводом на ферме. Имя ее было Мэриан. Отец звал ее «дева Мэриан». Она была христианкой сурового евангелического толка. Отец, конечно, тоже был христианин, как и я, как и дядя Авель, пока тетя Эстелла не увлекла его в царство света. Я не представить себе мою мать как прелестную девушку, как деву Мэриан на лесных тропинках Уорикшира. С самых ранних лет я помню ее лицо как маску озабоченности. Она была сильнее отца. С отцом мы любили, слушались и утешали друг друга тайком. Впрочем, мы все трое любили и утешали друг друга. Но втроем нам было неловко, тоскливо, не по себе.
Сегодня утром в кухне я насмерть перепугался – мне показалось, что из кладовой вылезает огромный, мясистый паук. На поверку он оказался очень симпатичной жабой. Я легкостью поймал ее и отнес за шоссе, за скалы, к мшистым болотным окнам. Дальше она не спеша двинулась куда-то сама. И как только выживают такие безобидные, беззащитные твари? Я еще побыл там немного, когда жаба ушла, поглядел на красные мхи и на растения – хвощ, который я помню с юных лет, и этот противный желтый цветок, который ловит мух. Вереска особенно много повыше, дальше от моря, в сторону фермы Аморн. Агент, который продавал мне дом, сказал, что в этих местах можно встретить орхидеи, но я их еще не видел. Может быть, они – такой же миф, как тюлени.
Позже я сходил в деревню, купил копченого селедочного филе (беднякам заменяет лососину). Свежей рыбы здесь купить совершенно невозможно, о чем мне с гордостью сообщили все местные жители. Порасспросил я и насчет прачечной, но толком ничего не узнал. Пока я все стираю сам, даже простыни, а сушиться расстилаю их на лужайке. Возможно, буду так делать и дальше. Эти нехитрые занятия дают удивительное чувство удовлетворения. Забыл записать, что я обнаружил в деревне вторую лавку, вроде скобяной, в переулке позади трактира. Именует она себя «Магазин для рыбаков» и в прошлом, несомненно, торговала рыболовной снастью. Там, как я выяснил сегодня, имеются и керосин, и баллонный газ. Еще я купил там свечей, новую керосиновую лампу и моток толстой веревки. Нагруженный этими трофеями, я по пути домой зашел в «Черный лев». При моем появлении тамошняя распивочная замолкает, а стоит мне выйти, разражается громкими хриплыми комментариями, однако я намерен заглядывать туда и впредь. Пассивная враждебность здешних жителей меня не смущает. Благодаря телевизору они, конечно, знают, кто я такой. Но они старательно разыгрывают безразличие, а может быть, им, при их надменной ограниченности, это и в самом деле безразлично. Возможно, для них я существо нереальное, как нереально и само телевидение. По счастью, никто из них не навязывался мне в друзья.
На второй завтрак я съел селедочное филе, быстро размороженное в кипятке (отчасти эту работу уже выполнило солнце), сдобренное лимонным соком, прованским маслом и чуть припудренное душистой травкой. Филе из селедки вкуснее, чем копченая лососина, разве что самого высокого качества. К нему – жареная молодая картошка (консервы, свежей еще нет). Картошка для меня – изысканное яство, а не скучное повседневное сопровождение к мясу. Затем гренки с сыром и горячая свекла. Расфасованный хлеб из здешней лавки – отнюдь не шедевр, но в поджаренном виде, с новозеландским маслом, вполне годится в пищу.
По счастью, я очень люблю все виды хрустящего скандинавского печенья, которое рекламируют как средство для похудания. (Худеть от него, конечно, не худеют. Кому суждено быть толстым, тот толстеет от любой еды. Для меня-то это никогда не было проблемой.) Теперь, раз я владею землей, надо мне завести огородик. Свежая травка для приправы – это всегда было проблемой на поприще просвещенного едока, которое я для себя избрал. (Мне, конечно, не приходило в голову сеять душистые травки в родительском огороде. Наверно, дети вообще ничего не смыслят в еде.) Но где мне его устроить? Ни ту ни другую мою лужайку мне не хочется вскапывать, к тому же они слишком близко от моря. Если я тайком сам себе выделю участок за шоссе, не разворуют ли мои посевы крестьяне или какие-нибудь животные? Надо все это обдумать. Счастливые, невинные заботы, так непохожие на былые терзания.
После завтрака я отрезал кусок веревки и привязал к железному поручню у башенных ступенек, теперь она удобно свисает в море, потемнела и колышется в волнах. На конце я завязал узел, чтобы легче было ухватиться. С утесом меня постигла неудача по той простой причине, что на нем не за что закрепить веревку. Скалы слишком гладкие и выпуклые, а до дома веревку не дотянуть – не хватит. Купить кусок подлиннее, привязать к кухонной двери или к столбику у крыльца и каждый вечер втаскивать длинный мокрый конец в кухню? Тоже проблема, не лишенная интереса. Сама веревка – первый сорт, слегка навощенная и пахнет вином ретсина. Говорят, местного производства.
Часть дня я провел, лежа на моем каменном «мосту» между домом и башней и глядя, как волны пролетают подо мной и в приступах ярости разбиваются о дальнюю стену глубокой воронки. Вид кипящей вспененной воды через некоторое время вызвал странное полуобморочное состояние, словно у меня закружилась голова и я туда свалился. Ощущение очень приятное. Немного обескуражило меня другое: рассматривая цветные открытки в лавке, я убедился, что мой мост и водоворот за ним относятся к местным достопримечательностям. К счастью, открытки были старые, захватанные, и я скупил весь запас за фунт стерлингов и еще получил сдачи. Не желаю я, чтобы какой-нибудь турист стал высматривать здесь «красивые виды». Да и ничего особенного этот мост собой не представляет: всего-навсего обломок скалы с дыркой, а за ним – открытый водоем. В часы прилива вода, прорываясь под мост, грохочет громко и глухо. Надеюсь, это не привлекает туристов. Из надписи на открытках я узнал, что называется это место «Миннов Котел». Я спросил у лавочницы, кто был Минн, но она не знает.
Далекий перезвон колоколов напомнил мне, что сегодня воскресенье. Небо стало затягиваться.Я долго смотрел на облака и подумал, что ни разу в жизни со мной этого не бывало, чтобы просто сидеть и смотреть на облака. В детстве я бы счел это пустой тратой времени. И мать не разрешила бы мне сидеть сложа руки. Сейчас я сижу на своей лужайке позади дома, куда я вынес стул, плед, диванную подушку. Вечереет. Толстые, бугристые серо-синие тучи, по краям тоже синие, но посветлее, медленно тянутся по небу грязноватого, но блестящего золота – впечатление, как от тусклой позолоты. Над горизонтом поблескивает легкая, чуть зубчатая серебряная полоска, напоминающая современные ювелирные изделия. Море под ней неспокойное, точно живое, золотисто-коричневое в пляшущих белых мазках. Воздух теплый. Еще один счастливый день. (Они спрашивали: «Что ты там будешь делать?»)
В глубине души, не хвалясь, я чувствую, что очень собой доволен.
Прошел еще один день. Я решил не датировать записи, это нарушило бы ощущение непрерывности мыслей. Перечитал начало моей автобиографии! Какие пугающие отзвуки будят мои утверждения о детстве, в которые я почему-то вложил столько уверенности. Я и не думал, что это для меня так важно. Я хотел писать о Клемент. Неужели мне правда хочется описывать мое детство?
Сегодня я не купался. Днем дошел до башенных ступенек, думал выкупаться, но оказалось, что веревка, которую я привязал к поручню, каким-то образом развязалась и уплыла в море. По части узлов я не мастер. Да и веревка, пожалуй, слишком толстая, вязать из такой узлы нелегко. Вероятно, сподручнее был бы длинный кусок нейлона.
Приуныл, но ужин взбодрил меня: макароны с маслом и сушеным базиликом. (Базилик, вне всякого сомнения, лучшая из душистых травок.) Потом молодая капуста, тушенная на медленном огне, с укропом. Вареный лук с заправкой из муки грубого помола, травки, соевого масла и помидоров, туда же вбить одно яйцо. К этому – два ломтика холодного консервированного мяса. (Мясо, в сущности, всего лишь предлог, чтобы поесть овощей.) Выпил бутылку ретсины за здоровье веревки, хоть она того и не заслужила.
Сейчас поздний вечер, я сижу наверху, зажег две лампы – новую и одну из старых. У новой свет не такого прелестного оттенка, но зато она не такая тяжелая. Надо купить еще таких ламп, хотя совсем без свечей я тоже, вероятно, не обойдусь. От миссис Чорни мне досталось штук десять подсвечников, не блещущих красотой, но удобных, и я расставил их, со свечами и спичками, по всему дому, где они могут понадобиться. Запах новой лампы напоминает мне о Фрицци. Продолжу мою биографию.
Родился я в Стратфорде-на-Эйвоне, вернее – вблизи этого города, а еще точнее – в Арденском лесу. Я рос в лесистой центральной Англии, так далеко от моря, как это только возможно на нашем острове. До четырнадцати лет я даже не видел моря. Всей своей жизнью я, конечно, обязан Шекспиру. Не живи я рядом со знаменитым театром, именно с этим знаменитым театром, я вообще не увидел бы ни одного спектакля. Родители мои никогда не ходили в театр, более того – мать решительно его не одобряла. Свободных денег для «выездов в свет» в доме вообще было мало, и мы никуда не выезжали. В ресторане я побывал в первый раз, уже когда окончил школу. В отель в первый раз вошел и того позднее. На летние каникулы мы уезжали в Шакстон, или в Рамсденс, или на ферму, где мать раньше работала счетоводом. Я и вообще не попал бы в театр, если бы мы не «проходили» Шекспира в школе. Один из наших учителей был помешан на Шекспире. Этот человек тоже определил мою дальнейшую жизнь. Звали его мистер Макдауэл. Он часто водил нас в театр, мы пересмотрели все пьесы. Иногда он платил за меня. И конечно, мы сами ставили спектакли. Мистер Макдауэл бредил театром, это был несостоявшийся актер. Я стал его последователем и любимцем. (Это он возил меня и еще нескольких мальчиков на неделю в Уэльс, к морю. Вероятно, то была одна из счастливейших и самых значительных недель в моей жизни.
«Счастливый» – не то слово. Я все время пребывал в каком-то радостном безумии.) Моя мать не препятствовала походам в театр, потому что они «входили в школьную программу». Я даже хитрил: притворялся, что мне это не очень интересно, просто нужно для экзамена. Скверный лгунишка. Я блаженствовал. Отец знал, но мы нипочем не признались бы другу, что обманываем мою мать.
Отец был человек тихий, книжный и самый, кажется, незлобивый из всех, кого я знал в жизни. Я не хочу этим сказать, что он был робок, хотя робок он, вероятно, тоже был. Незлобивость же определяла весь его нравственный облик. Вижу, словно это было вчера, как он, со своей всегдашней нервной улыбкой, нагибается, подбирает на бумажку паука и осторожно препровождает за окно либо в какой-нибудь безопасный уголок в доме. Я был его товарищем, мы играли, читали; может быть, только со мной он вел иногда серьезные разговоры. Я всегда чувствовал, что мы с ним заодно, что все самое интересное у нас с ним общее. Мы читали те же книги и обсуждали их: детские книжки, приключения, позже – романы, исторические сочинения, биографии, стихи, Шекспира. Нас всегда тянуло друг к другу, всегда хотелось быть вместе. Вот она, проверка: это сильнее, чем преданность, восхищение, страсть. Если тебе все время нужно, чтобы человек был рядом, это и есть любовь. Позже я, помнится, часто думал, что никто не знает, до чего мой отец добрый; сомневаюсь, чтобы даже мать это знала. Мать я, конечно, тоже любил, но в ней была какая-то жесткая сердцевина, а в отце нет. Она верила в справедливого Бога. Как знать, возможно, эта вера поддерживала ее, когда она чувствовала, что жизнь не оправдала ее надежд.
Беда моих родителей, по крайней мере с моей точки зрения, состояла в том, что они никуда не хотели ездить и ничего не хотели предпринимать. Мать считала излишним куда-либо ездить и что-либо предпринимать отчасти потому, что это было связано с расходами, отчасти же потому, что на любом новом пути нас могли подстерегать суетные соблазны. Отец не хотел никуда ездить и ничего не хотел предпринимать отчасти потому, что мать этого не одобряла, отчасти же из робости и некоторой врожденной вялости характера. Из моих слов может сложиться впечатление, будто отец у меня был меланхоликом, но это не так. Он ценил радости простой жизни, умел предвкушать маленькие праздники. Свою скучную канцелярскую работу он, я уверен, выполнял на совесть, а в мелкие хозяйственные дела вкладывал всю душу. Его любимым чтением, помимо того, что он считал полезным для меня, были романы и приключения. Помню, как он, уже смертельно больной, читал «Остров сокровищ» с лупой. Мать и меня он любил и лелеял. И этим был очерчен его мир. Его не интересовали ни политика, ни путешествия, ни какие бы то ни было развлечения, ни даже искусство, если не считать литературы. У него не было друзей (кроме меня).Своего брата Авеля он любил, но сильно ли – в этом я никогда не был уверен. С моим кузеном Джеймсом он был в прохладных отношениях, потому что видел в нем моего соперника. Тети Эстеллы он стеснялся. Моя мать терпеть их всех не могла, однако держалась безупречно.
В театр я пошел, разумеется, ради Шекспира. Те, кто впоследствии знал меня как постановщика шекспировских спектаклей, и представить себе не могли, как властно этот Бог с самого начала направлял мои шаги. Были у меня, конечно, и другие мотивы. От простой и безгрешной жизни родителей, от неподвижности и тишины нашего дома я бежал к фантасмагории и магии искусства. Я жаждал блеска, движения, акробатики, шума. Я изобретал летательные машины, ставил дуэли, я всегда, как отмечали мои критики, чрезмерно, словно ребенок, увлекался сценическими трюками. И сам я потому стал актером – это я тоже понимал с самого начала, – что мне хотелось развлечь не только себя, но и отца. Едва ли он понимал театр или научился понимать его под моим восторженным руководством. Извлекать из театра радость для себя – это мне удавалось потом всю жизнь, почти непрерывно. Далеко не таким успехом увенчались мои попытки убедить родителей получать удовольствие. В последующие годы я возил их в Париж, в Венецию, в Афины. Им везде было неуютно, неспокойно, они рвались домой; впрочем, впоследствии мысль, что они там побывали, возможно, и доставляла им какое-то удовлетворение. Им действительно только того и было нужно, что оставаться в своем доме, в своем саду. Есть такие люди. Я был тихим, послушным, привязчивым мальчиком; но я знал, что предстоит великий бой, и хотел победить, и победить быстро. Я так и сделал. Когда мне исполнилось семнадцать лет, отец задумал дать мне университетское образование. Мать этого хотела, хоть и боялась расходов. А я вместо этого поступил в театральное училище в Лондоне. (Мне дали стипендию: Мистер Макдауэл не зря потрудился.) Идти наперекор отцу мне было невыразимо тяжело. Но ждать я не мог. Мать была в ужасе. Театр она считала притоном разврата (и была права). И еще она была уверена, что я не добьюсь успеха и вернусь домой нищим. (Она презирала людей, неспособных себя прокормить.) В этом она ошиблась и с годами хотя бы прониклась уважением к моей способности наживать деньги. Театр с тех самых пор стал моим домом; даже во время войны я был актером, врачи нашли у меня затемнение в легком (оно вскоре затем прошло), и в армию меня не взяли. Впоследствии я об этом жалел.
Произведения
Критика