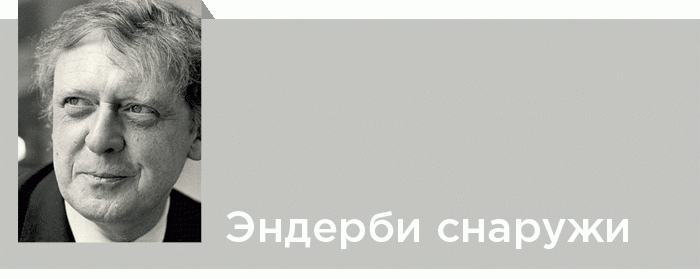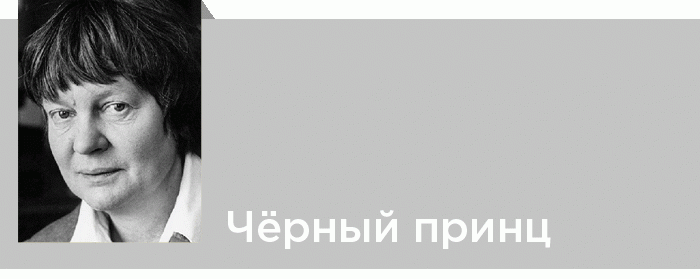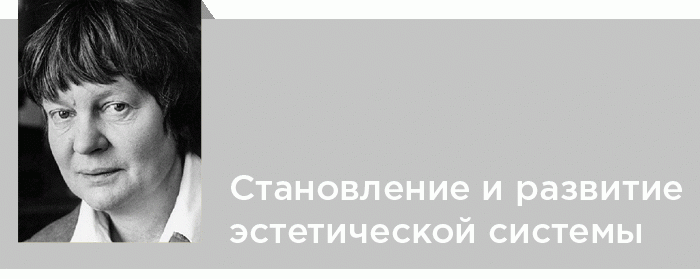Вариации на тему (О последних романах Айрис Мёрдок)
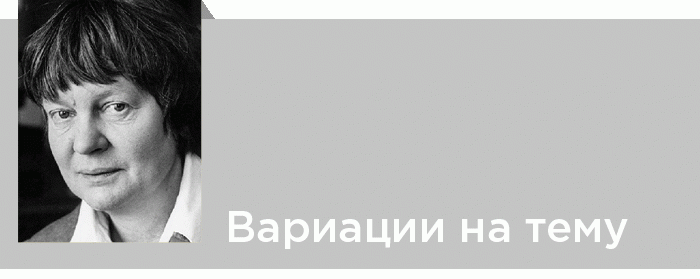
А. Ливергант
Роман в год — такова впечатляющая формула, которой уже на протяжении тридцати лет безотказно следует известная английская писательница Айрис Мердок. Из двадцати двух объемистых романов, написанных с 1954 по 1984 год, на русском языке вышло шесть, причем последние два («Дитя слова», «Море, море») — с промежутком всего в год: издательская расторопность, свидетельствующая о том, насколько прочно вошли ее книги в литературный обиход нашего читателя.
Перевод романов Мердок уподобляется погоне за тенью: кажется, переводится самый свежий ее роман, а по выходе перевода выясняется, что за это время сочинено по меньшей мере еще два — завидная «скорострельность». В году «вдогонку» оригиналу в «Иностранной литературе» печатается в свое время нашумевший «Черный принц», а в Англии уже полным ходом рецензируется следующий роман — «Механизм любви земной и небесной». В 1981 году в издательстве «Художественная литература» выходит роман года «Дитя слова», давно уже, однако, последним словом Мердок не являющийся, — за это время в Англии успели выйти еще две новые книги: «Генри и Катон» и «Море, море» (1978). На вышедший на русском языке роман «Море, море» (1982) Мердок успела за последние годы ответить еще двумя: «Монахини и солдаты» (1982) и «Ученик философа» (1983). Впрочем, на сегодняшний день эта «эстафета», кажется, прервалась: последние два романа едва ли увидят свет на русском языке — их художественный уровень явно уступает предыдущим, и даже обычно доброжелательная к писательнице английская критика отнеслась к ним весьма сдержанно...
Поэтому обратимся к последнему из переведенных на русский язык произведению Айрис Мердок, роману «Море, море».
«Писал он легко, каждый год по книге, и продукция его отвечала общественным вкусам», — не без яда замечает герой «Черного принца» литературный аскет Бредли Пирсон, за сорок лет непрерывного литературного труда вымучивший всего три небольшие книжки. Речь идет о его человеческом и писательском антиподе, плодовитом и популярном сочинителе Арнольде Баффине, писавшем, по мнению Пирсона, «слишком много и слишком быстро».
В легкости и плодовитости Айрис Мердок ничуть не уступает своему в известном смысле сатирическому персонажу, а в умении «отвечать общественным вкусам» значительно его превосходит. В отличие от автора «Плакучего леса», ориентировавшегося лишь на весьма низкопробные вкусы, Мердок небезуспешно пытается (особенно в последних, «густонаселенных» романах) учитывать самые разнородные читательские пожелания. Владея, кажется, ей одной доступным искусством перевоплощаться по многу раз из Пирсонов в баффины, из литературных ремесленников в литературные эстеты, Мердок тем самым удовлетворяет диаметрально противоположные читательские потребности, — ее с равной охотой прочтут как любители занимательного, так и интеллектуального чтения, не часто совпадающие в оценках.
На самую неоднородную читательскую аудиторию рассчитан и девятнадцатый по счету роман Мердок с элегическим повтором в заглавии: «Море, море», заимствованным из одноименного стихотворения английского поэта Барри Корнуолла.
Впервые побывав в лондонской квартире своего в высшей степени загадочного кузена Джеймса, главный герой, он же рассказчик, в прошлом театральная знаменитость, а теперь добровольный изгнанник, владелец мрачного особняка Шрафф-Энд на берегу моря, Чарльз Эрроуби, запишет в своем дневнике: «Теперь я знаю, что многое в квартире Джеймса представляет большую ценность, но коллекционер и знаток он, мне кажется, неважный. Он, видимо, не задумывается над тем, как рассортировать и разместить свои сокровища, они не столько размещены, сколько свалены в кучу, так что изящнейшие произведения искусства соседствуют с грошовой продукцией восточных базаров».
При том, что в романе Мердок в отличие от музейной коллекции Джеймса просматривается сверхжесткая композиционная упорядоченность и продуманность, «обставлен» он не менее прихотливо и эклектично, чем квартира в Пимлико. Изящнейшие произведения искусства соседствуют в нем с грошовой продукцией восточных базаров; кажется, лучше не скажешь: при всех безусловных достоинствах ее прозы Айрис Мердок многим обязана преуспевающему беллетристу Арнольду Баффину и ему подобным.
По стечению самых невероятных обстоятельств — Мердок и в этом романе ничуть не смущает откровенно надуманная фабула — многочисленные персонажи, с которыми читатель по отзывам Эрроуби и по их письмам заочно знакомится в Предыстории, «материализуются» в Шрафф-Энде и разыгрывают бурную мелодраму на вечную тему о безответной любви. Сам Эрроуби выступает на этот раз в непривычной для себя роли отвергнутого героя-любовника. Роль героини по принуждению исполняет супруга инвалида войны, продавца огнетушителей Бенджамена Фича, Мэри Фич, в далеком прошлом Мэри Хартли — юношеская любовь Эрроуби, обращенная временем в раздавшуюся матрону средних лет, к которой герой вновь воспылал юношеской страстью. Действующие лица: мистер Фич — «ограниченный субъект без запросов»; Титус — приемный сын четы Фич; Джеймс — двоюродный брат Эрроуби, военный с темным прошлым, буддист, демонстрирует прочные связи с потусторонним миром; Лиззи Шерер — беззаветная подруга Эрроуби; Розина Вэмборо — женщина-вамп, к Эрроуби также неравнодушна. Перегрин Арбеллоу — «неистовый ирландец», друг Эрроуби; Гилберт Опиан — актер, по совместительству дворецкий в Шрафф-Энде.
Выступая одновременно в роли автора и режиссера этой мелодрамы, Мердок лишний раз подтверждает репутацию художника, отменно разбирающегося в запросах «зрительного зала». Надуманная история похищения и заточения шестидесятилетней (!) Хартли ее незадачливым возлюбленным может восприниматься, в зависимости от читательской искушенности и как роман-иносказание с привлечением евангельских, мифологических, шекспировских мотивов, и как интеллектуальный роман-беседа, и как традиционный проблемный роман. Читается он и как захватывающий детектив, события в котором сменяются с такой калейдоскопической быстротой и непредсказуемостью, что ни страждущий герой, ни тем более озадаченный читатель не в состоянии предсказать положение дел хотя бы на страницу вперед.
«Я повернулся и замер», «произошло нечто до того немыслимое, до того страшное», «...до той минуты, когда произошло самое ужасное», «в следующую секунду я уже знал» — этими почерпнутыми из готических и авантюрных арсеналов заставками пестрят буквально с первых же строк растянувшиеся на пятьсот с лишним страниц мемуары экс-режиссера, театрального тирана, власто- и сластолюбца Чарльза Эрроуби. В лихо закрученном авантюрном сюжете теряются, а то и растворяются почти без остатка искусные описания морского пейзажа — красочной и многозначительной декорации, на фоне которой происходит действие романа; и отрывочные, по большей части горькие воспоминания героя о своем бурном театральном прошлом; и небезынтересные этюды автора философского журнала (как называет Эрроуби свой дневник) о Шекспире и театре; и меткие портретные и психологические зарисовки персонажей; и мастерские описания вдохновенных кулинарных экспериментов, которыми ублажает себя сибарит-отшельник.
Всегдашний поборник эффектных постановочных средств («Я стою за иллюзию, а не за отчуждение»), Эрроуби не раз пользовался в своих спектаклях деревянными колотушками «хёсиги», которые в японском театре призваны поддерживать напряжение и предвещать трагический финал. Берет их на вооружение и Мердок: спектакль, поставленный ею в Шрафф-Энде, играется словно бы под мощный аккомпанемент японских деревянных колотушек, постоянно нагнетающих атмосферу действия. Хёсиги — это черный цвет, фигурирующий в названии особняка Эрроуби и в именах его владельцев. (Шрафф-Энд, по местной этимологии, означает «черный тупик»; до Эрроуби он принадлежал некоей мисс Чорни; с отъездом героя в Лондон его займут Шварцкопфы.) Хёсиги — это и некие таинственные знаки неблагополучия, дающие о себе знать с первых же страниц мемуаров: упавшая ваза, разбитое зеркало, застывшее лицо в окне. Хёсиги — это галлюцинации, видения, пророческие сны, исправно посещающие героя и властно настраивающие его на сугубо мрачные предчувствия. Хёсиги — это голова сказочного морского чудовища, которая внезапно является герою, когда тот безмятежно сидит у воды на своем утесе или прогуливается по картинной галерее в Лондоне. Хёсиги — это поведение моря, чутко и неоднозначно реагирующего на душевные переживания Эрроуби. Хёсиги, наконец, — это бесконечная цепь роковых случайностей и совпадений, как всегда нарочито подстроенных автором.
Если пренебречь — без особого ущерба для смысла — экзистенциалистскими и фрейдистскими реминисценциями, рассыпанными по роману, если представить себе, что его герои не ездят на «бентли» и «мерседесах», не пользуются электричеством, не говорят по телефону, то «Море, море» может вполне произвести впечатление солидного английского романа прошлого, а то и позапрошлого века, перегруженного людским, событийным и чисто литературным материалом.
Просветительский роман, готический роман, романтическая повесть, викторианский роман, авантюрный роман, даже роман в письмах — все эти классические жанры могут с равным основанием претендовать на свое место в произведении, действие которого происходит в наши дни.
В самом деле, «Море, море» вызывает порой самые неожиданные литературные ассоциаций. Первые страницы мемуаров Эрроуби во многом напоминают знаменитый дневник Робинзона: обстоятельные, топографически выверенные описания местности («моя башня», «мой утес», «моя бухта»), размышления о преимуществах одинокой жизни, попытки обезопасить себя от непрошеных гостей, — в роли робинзоновских дикарей и хищников выступают бывшие любовницы и друзья Эрроуби, создания, по-своему ничуть не менее кровожадные. Цитадель Эрроуби Шрафф-Энд своей мрачностью и таинственностью напоминает особняк Норсмора в Грэнд-Истер из «Дома на дюнах» Стивенсона, за заколоченными ставнями которого подозрительно мерцает свеча — это Розина Вэмборо, подобно стивенсоновскому искателю приключений, забирается в дом в отсутствие хозяина. Сам Эрроуби под стать романтическому герою посвящает читателя в самые сокровенные свои переживания, всеми силами стремится вызволить возлюбленную из плена грубого тирана, преследует ее, ослепленный «светом чистой любви». У романтиков арендует Мердок и весьма обветшалый готический реквизит в виде бурного моря, неприступных утесов, морских чудовищ, заложниц, утопленников, тайных изъявлений чувств. Что же касается романа в целом, то своим многолюдьем, обилием сюжетных коллизий, запутанным узлом человеческих взаимоотношений, фабульной симметрией, традиционным заключением, в котором все встает на свои места, — он напоминает тщательно продуманное, хотя и громоздкое строение викторианского повествования.
Дальше ассоциаций, впрочем, дело не идет — традиционные мотивы и ситуации несут на себе заметный налет пародийности. Эрроуби напоминает Робинзона лишь в частностях, а в главном — в постоянной рефлексии и бездеятельности — его антипод. Неприглядный Шрафф-Энд выглядит мрачным и таинственным разве что по контрасту с уютным коттеджем благонравной четы Фичей. Отношения Эрроуби и Хартли далеки от романтических: герой довольно быстро исцеляется от охватившей было его любовной истерии, а героиня упрямо держится за мужа-деспота, чего самоуверенный Эрроуби никак не может взять в толк. Морские чудовища на поверку оказываются прозаическими тюленями, разгуливающие по дому привидения — заезжей актрисой, а все перипетии жутких событий, развернувшихся в Шрафф-Энде, с возвращением героя в Лондон начинают казаться не более чем наваждением, кошмарным сном, плодом больной фантазии героя.
При всем различии в социальном положении, характерах, профессиях, вкусах, увлечениях главных героев последних книг Мердок отличает поразительное, прямо-таки фамильное сходство. Это сходство — повышенный интерес к собственной персоне и отсутствие интереса к другим — распространяется и на их судьбы, на все те тяжкие, «очистительные» испытания, через которые методично, из романа в роман пропускает Мердок своих себялюбцев. Последние романы Мердок выстроены, собственно, по однотипной сюжетной схеме, выраженной как нельзя лучше в словах замученной и кроткой Кристел, сестры еще большего, чем Эрроуби, властолюбца и эгоцентрика Хилари Бэрда, главного героя романа «Дитя слова». «Прошлое уничтожит нас, — причитает Кристел, — что-то страшное вылезает из прошлого и нас проглотит». Герои Мердок вправе сетовать на прошлое — именно от события давно минувших лет, самым непредсказуемым образом вторгающихся в жизнь героев, исходит угроза их упорядоченному существованию, с этого момента их рациональная жизнь оказывается во власть иррациональных законов мердоковского повествования.
...Когда удалившийся от дел скромный работник финансового управления, он же великий и непризнанный писатель Брэдли Пирсон, выходит из дому, чтобы надолго уехать из Лондона на взморье, он сталкивается в дверях со своим шурином, который сообщает ему, что после двадцатилетнего отсутствия из Америки вернулась бывшая жена Пирсона Рейчел... Мелкий служащий, в прошлом подававший большие надежды лингвист Хилари Бэрд узнает в новом директоре своего учреждения давнего оксфордского друга и благодетеля Гуннара Джойлинга, жена которого много лет назад погибла по вине Бэрда... Знаменитый в прошлом режиссер Чарльз Эрроуби, живущий отшельником на берегу моря, совершенно неожиданно узнает в неприметной женщине средних лет, высвеченной фарами на ночной дороге, любовь своего детства... Так с удивительным постоянством завязывается интрига последних романов Мердок.
В них предостаточно и более мелких совпадений — следствие не столько постоянства философских и литературных пристрастий, сколько издержек поточного метода. Отношения Бэрда и Энн Ганнев напоминают отношения Эрроуби и Хартли: такой же любовный треугольник, та же женская покорность, то же мужское насилие и ослепленность. Подобно тому как интимные отношения Таннера и Кристел в ночь смерти Энн, развязывают руки Бэрда, влюбленного теперь во вторую жену Таннера леди Китти, ревность и грубость Фича дают Эрроуби моральное право разорвать их многолетние брачные узы. Отношения Эрроуби и Джеймса во многом повторяют отношения Бэрда с его другом Клиффордом Ларром, вплоть до самоубийства последнего. Преданность и беззаветность Томазины отвергнутой любовницы Бэрда, которая терпеливо ждет «своего часа», передается Лиззи Шерер, подруге Эрроуби; кротость и смирение сестры Бэрда Кристел — сестре Катона Колетт, а от нее возлюбленной Эрроуби Хартли. Вслед за Бэрдом, который в конце романа оплакивает в церкви разрушительную силу своих поступков, раскаивается в «демонской порче» и умиротворенный Эрроуби. Даже море — постоянный фон, действующее лицо и метафора мемуаров Эрроуби — имеет в истории Бэрда своего литературного двойника. Аналогичную смысловую и метафорическую нагрузку несет в «Дитя слова» лондонское метро — одновременно любимое пристанище Бэрда, место действия многих узловых сцен романа и аллегория подпольного, рассчитанного по минутам существования героя.
Остается Мердок верна и своему давнему «соавтору» — Шекспиру, тайно и явно присутствующему на страницах многих ее романов. Над заглавием, содержанием и смыслом «Черного принца» витал дух «Гамлета», над мемуарами изгнанника Эрроуби витает дух, верней сказать, рок шекспировской «Бури». Если Брэдли Пирсон в «Черном принце» может быть уподоблен Клавдию, Хилари Бэрд в «Дитя слова» — Питеру Пэну, сверходухотворенному ребенку, неспособному повзрослеть, то в Эрроуби причудливо совмещаются черты мудреца Просперо, обуздавшего в конце концов свои эгоистические побуждения, и морально неполноценного дикаря Калибана.
Как и всякий роман Мердок, «Море, море» представляет собой отличный полигон для критических баталий. Разноголосица в ее книгах передается и критикам, высказывающим порой самые противоречивые суждения о ее месте в английской литературе.
Обращает на себя внимание и то, что оживленная дискуссия о романах Мердок завязывается уже на их же страницах, — Мердок зачастую оказывается гораздо прозорливее своих критиков в трезвой оценке собственных произведений. Некоторые высказывания героев книг Мердок прольют не меньше света на тайны ее творчества, чем иные солидные монографии, авторы которых склонны эти тайны канонизировать. В четырех послесловиях к «Черному принцу», например, Мердок задает тон журнальной полемике, всякий раз возникающей по выходе в свет ее очередного романа. Глубочайший смысл или претенциозная чепуха? Холодная книга рассуждений или горячая книга человеческих чувств? Сокровенное искусство или публичное искусство? Энергия духа или приключенческий рассказ? В пределах этих крайностей, намеченных в рассуждениях якобы малосведущих в литературе персонажей о нетленной рукописи покойного Пирсона, постоянно колеблются даже наиболее оригинальные критические и читательские оценки творчества Мердок. И в этом отношении «Море, море» вряд ли окажется исключением.
Впрочем, какими бы разноречивыми ни были эти взаимоисключающие суждения, любой, даже самый недоброжелательный ее читатель не может не озаботиться вечным мердоковским вопросом, на котором ставит точку в своем дневнике умудренный Эрроуби: «Хотел бы я знать, что еще ждет паломника на кишащем демонами пути земной жизни?»
Л-ра: Литературное обозрение. – 1986. – № 1. – С. 110-112.
Произведения
Критика