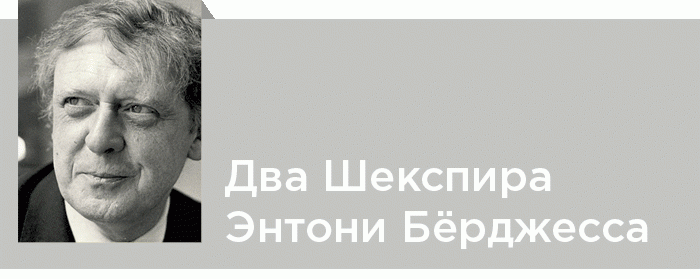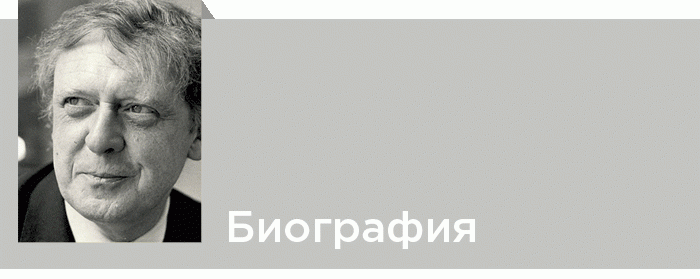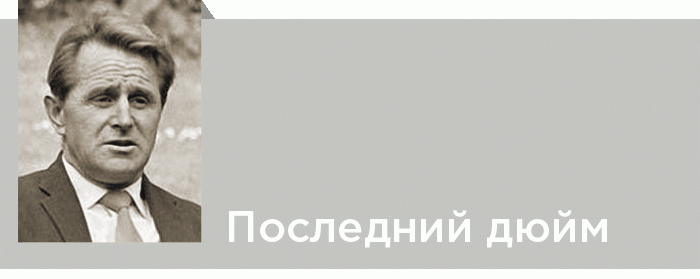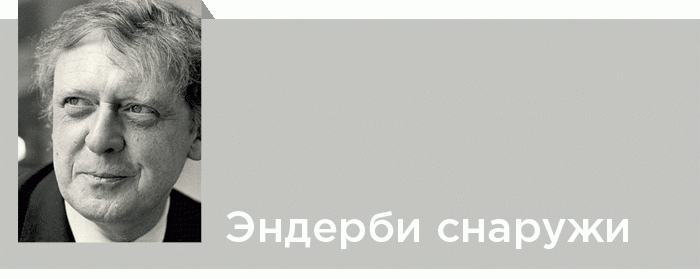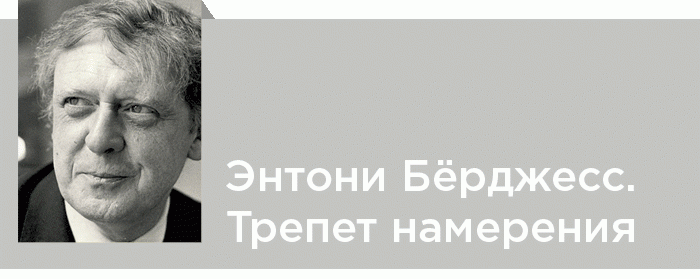Энтони Бёрджесс: мифы и апокрифы
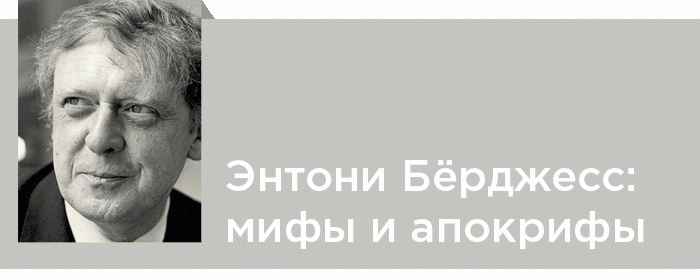
Муравьев В.С.
Энтони Берджесс (род. в
Сравнение, разумеется, не есть определение, и уж совсем не в том дело, что Фолкнер — гений человечества (дело, кстати, все-таки спорное: Набоков, например, безоговорочно считал Фолкнера пустым графоманом), а Берджесс — так себе писателишка близ массовой культуры. И «Массовая культура» — вовсе не ругательство, и близость его к ней требует понимания и объяснения, может быть и восторженного, и — как знает вслух или про себя любой его внимательно читавший — вовсе он не «писателишка», и если даже счеркнуть «Заводной апельсин» (повезло, дескать, не кто-нибудь, а сам Стенли Кубрик его экранизировал, вот и...), Берджесс все равно останется большим, одним из главных прозаиков современной Англии (Англии 1960-80-х годов). Но участь его, в отличие от упорства, незавидна.
Впрочем, он сам избрал свою особую двуликую участь, став в одном лице писателем-развлекателем и затейником, «энтертейнером», вроде дополнительного облика у Г. Грина, а в другом, причем в том же самом,— искусником-литератором, сочинителем столь высоколобым, что и не дотянешься. Словом, как это называют, постмодернистом.
Поскольку слово «модернизм», затертое у нас в качестве ругательства, что-нибудь значит, постольку оно обозначает осовременивание, а заодно и футуризацию литературы, культивирование — в свете новооткрытых «истин» — небывалых, «самовитых» и сверхлитературных форм. По закону отрицания постмодернизм означает возвращение к литературе, понятие которой весьма расширяется, и осознание ее — ну, скажем так — чересчур изнутри. Текстуальное переосознание в форме обычно пародийного переписывания. Когда-то Л.Д. Троцкий заметил о Пильняке: «Он пишет черным по белому». Постмодернистское занятие.
Происходит повествовательный переразбор застывшего и освященного литературной памятью-традицией восприятия. Книгу Берджесса открывает эпиграф:
Прохожий: Вы, я так полагаю, мистер Джонс?
Герцог Веллингтон: Ну, если вы так полагаете, то вас положительно ничем не удивишь.
Опираясь на литературу и одновременно отталкиваясь от нее, Берджесс пытается написать нечто вроде «всеобщей истории текстов», освоенных XX веком. В данном случае он пишет псевдоэпопею. К сожалению, и греческая приставка «псевдо-», и латинская «квази-» могут быть переведены как «лже-». Этот оттенок, причем нарочитый, есть у Берджесса, но дело-то как раз не в оттенке, а в сути: подобно своему учителю Джойсу, он историю опровергает (с позиции герцога Веллингтона из эпиграфа). Опровергает путем преодоления — и уж как он ее только не преодолевал! Антиисторизм — это у него idee fixe, определяющая и роман о Шекспире, и повестушку о Китсе, и хронику времен Римской империи и Рождества Христова, и псевдогероическую симфонию о Наполеоне, и тем более научно-фантастический апокалипсис в недавних «Последних новостях».
Вот и псевдоэпопея, лжеэпос, открыто и впрямую опровергающий эпические возможности современной истории. «Любая железка», вынесенная в заглавие, — это меч короля Артура, а прежде — Аттилы, приснопамятного царя гуннов: «А» выбито на нем, и кому угодно на «А» он сгодится. На этот меч — на сюжетный штырь — нанизана семейная история валлийцев (король Артур тоже был валлийцем, как и Тюдоры) Джонсов.
Впрочем, есть штыри и помимо меча: над семейной, например, Библией, над гравюрой, изображающей Валтасаров пир, вкушает – в отрочестве, разумеется — порочные услады глава семьи Дэвид Джонс, впоследствии корабельный кок на «Титанике», который спасся чудом — и потом из соображений честности подставлялся смерти на фронтах первой мировой. Смерть и там его обошла, взяв свое гораздо позже и полнее. Тем же самым делом, над той же самой гравюрой занимается сын его Реджинальд Марроу — назло жене. Лет через десять, на концерте в Ленинграде, он безуспешно пытается оскорбить патриотические чувства советских людей и лично товарища Сталина перед исполнением кантаты «Валтасаров пир». Подобное перетекание поступков, поз, даже помыслов персонажей — излюбленный пример Берджесса. Темы, как было сказано, пересекаются на разных уровнях и организуют сюжетное пространство, которым служит последовательность исторических, вернее, историзованных событий. А сюжетом — самоопределение человека в русле истории, вопреки ее логике, то есть мифологии.
Отчасти поэтому объектом изображена сплошь и рядом становятся не события, а (рас)сказ о событиях — например, о гибели «Титаника», где важнее всего — снижающий социальный ракурс. Для этих целей имеется общий рассказчик, довольно, впрочем, редко выгладывающий из-за чужой речи и восприятия. Он — до некоторой степени соучастник, а больше заинтересованный свидетель судьбы «неблагополучного» валлийско-русского семейства Джонсов (Джонс-старший, владелец фешенебельного ресторана в Манчестере, а затем трактирчика в деревенской глуши Уэльса, женат на русской красавице, дочери эмигранта Людмиле Лихутиной).
Валлийцы (или, если угодно, уэльсцы) народ избранный сюжетно-мифологически, русские — в силу «русской идеи», сотрясшей основания XX век; а рассказчик — где-то мимо ходом сообщается, что его зовут Гарри, —еврей, в 1930-х — студент философии, но во время войны — тренер разведшколы, после войны — майор израильского «Моссада». То есть представитель еще одного, библейского «избранное народа». Перекресток, как можно заметить, многообещающий.
У Джонсов трое детей — дочка Битрикс и сыновья Реджинальд (Peг) и Дэниэл (Дэн). Битрикс — насмешницу и умницу-карьеристку, «изумительно сложенную, но худощавую», рассказчик влюбляется в 1938 году, так сказать на ложных основаниях, из отвращения к жизни, которое внушила ему свежеопубликованна «Тошнота» Сартра, к жизни в ее сугубо биологической ипостаси. Битрикс легко сходится с ним и, удовлетворив свое мимолетное сексуальное и интеллектуальное любопытство, так же легко его отталкивает. Любви она никого не удостаивает — разве что младшего брата Дэна, простодушного недоумка, да и то в ответ на патологическую привязанность. Кроме нее, он еще любит рыбу — ловить, нюхать, резать, готовить, есть, словом, во всех вариантах и приближениях. «Да отстаньте вы от Дэна! — говорит его старший брат. — Ну и что, что рыбу? Иисус Христос был рыбою!» Имеет он в виду, конечно, не только символическую графику первохристианства, но и душевный облик брата.
Именно Peг — основной протагонист Берджесса: его «хождения (похождения) по мукам» образуют центральную часть эпопеи, ее связующий пласт. В 1938-м он едет добровольцем в Испанию, хотя рассудительная Битрикс и предупреждает его, что хозяйничают в республиканской армии эмиссары НКВД и что главная забота сталинцев — истребить как можно больше левых. «Как ты не понимаешь? Эта война для них — вроде мушиного пластыря». Донкихотский пафос Рега, конечно же, нравственно выше сестриного благоразумия: но ждет его та же награда, что и Рыцаря Печального Образа, — колотушки. До фронта дело не дошло, да и фронта-то, можно сказать, никакого нет, одна кровавая неразбериха. Свора дюжих чекистов вбивает его, домогаясь признания в шпионаже (иначе как же он знает русский язык?). Расстрелять Рега не успели — пришлось удирать от франкистов, бросив человеческую добычу.
Во время войны оба брата оказываются в армии: Peг — в бездействующей, в гарнизоне Гибралтара; Дэн — в десанте, который целиком попадает в плен близ Монте-Кассино на другой деньь после высадки. Судьба ведет их навстречу друг другу — как ни странно, в Одессу, где они, впрочем, разминулись: Peг попал туда ранней весной 45-го, на пароходе «Герцогиня Бедфордская», а Дэн — полутора месяцами позже, с толпой измученных, полумертвых от голода и усталости военнопленных, которых Красная Армия выгнала из концлагеря в Польше и отправила пешим ходом добираться до Черного моря: передохнут в дороге — тем лучше. Кто не передох, в Англию на английском пароходе, одном из тех, что вслед за «Герцогиней Бедфордской» везли в Одессу, согласно ялтинскому договору, насильственно репатриированных советских граждан. Везли за тем, чтобы тут же, в доках, расстрелять за измену родине, предварительно содрав с них импортную одежку.
На корабле Peг так же нелеп и ненужен, как на испанской войне: он без толку пытается спасти свою любовницу — русскую врачиху из лагеря для перемещенных лиц. Донкихотская попытка с донкихотским исходом; на этот раз били прикладами, но недоглядели: возвратили британским союзникам труп, ан труп ожил.
Сюжетные линии братьев пересекает и соединяет история Артурова меча, обнаружившегося в Монте-Кассино, в бенедиктинском монастыре, увезенного гитлеровцами, а затем с грудою трофеев перекочевавшего в Ленинград, в Эрмитаж. Оттуда его через несколько лет и украл Peг — с помощью советского перебежчика, двоюродного брата матери, видного чиновника министерства культуры и КГБ.
Казалось бы, рыцарь обрел наконец кой-какое вооружение; но годится оно, как выясняется, лишь для того, чтобы провозглашать отделение Уэльса от Ирландии, то есть предаваться бредовой националистической демагогии. «Древняя железка» — символ мифологического мышления — не так уж и безобидна: она помогает разжигать вражду в нынешнем мире, где знамением времени стал террор, всеобщая война без правил, совести и пощады.
Террористами становятся чаще всего из самых возвышенных (правда, бесчеловечных) побуждений: тут тему ведет рассказчик, которого завербовал в «Моссад» собственный отец — после убийства матери возле «Стены плача» в Иерусалиме. Правда, уже в начале романа он рекомендуется «отставным террористом» и вообще похож на усталых, скептических, печальных шпионов Ле Карре. Но в отставку он выходит не из-за скепсиса и усталости, а потому, что от него потребовался наконец не политический выбор, а религиозный поступок.
Он следует примеру Битрисс; а та расплачивается и за свое прежнее, безлюбовное и расчетливое существование, и за свой «физиологический» брак с неудачливым американским писателем (тоже, кстати, евреем, но каким-то беспородным воплощением худших черт национального типа) — расплачивается, заслоняя собою от пуль террориста израильского президента Хаима Вайзманна.
Иного рода религиозный поступок совершают и братья Джонсы: Peг топит в озере близ монастыря англиканских бенедиктинцев (оказывается, в Англии есть и такие) «древнюю железку», которую, согласно легенде, Артуру и протянули из озера по мановению Мерлина; а Дэн — золотой слиток, чтобы не давил ему на психику: это, мол, не деньги, а если и деньги, то какие-то не заработанные. Все, таким образом, приносят искупительные жертвы, и каждый освобождается от самообмана (меньше всех Дэн, но он — стихийный праведник — и так более или менее свободен).
Надеюсь, «зеркальное письмо» Берджесса проиллюстрировано достаточно; уместно еще упомянуть о двойном зеркальном отражении — внешнем и внутреннем. Внутреннее — пародийно: пересказывается содержание и воспроизводится слог романа «Кровь на снегу», опуса мужа Битрикс, «похожего на растянутый боевик». Военные и отчасти русские (февраль-март 1917 — Людмила Джонс в Петрограде и апрель не то май 1951 — Реджинальд Джонс в Ленинграде) эпизоды действительно напоминают боевик, хотя отнюдь не растянутый. Возможно, такое впечатление создают постоянные и как бы систематические ошибки в русских реалиях и написании русских имен, однако дело не только в этом. Главы написаны скороговоркой, порой напоминают пересказ (например, «Марта 17-го» Солженицына), беглую демонстрацию стиля военных, шпионских и исторических романов — и делается это, по-видимому, намеренно, чтобы не задерживать внимание читателей на «исторических» связках, событийных подпорках повествования. Такого рода приемы и позволяют критикам сближать Берджесса с массовой литературой. Используются наработанные представления, «скоростные» смысловые связи — так сказать, «образ мира, в слове явленный».
А внешнее зеркало — «Почетный меч» Ивлина Во. Там тоже возвышенно-рыцарские побуждения оборачиваются комическими похождениями (иногда в военных главах Берджесса почти впрямую конспективно трансформируется слог эпопеи И. Во), и противоборство исторической мифологии тоже имеет исходом жертву, покаяние, отречение, смирение. Да и то сказать — Берджесс тоже все-таки какой ни есть, а католик.
Можно, правда, заметить, что никто из героев его псевдоэпопеи в Бога, пожалуй что не верует, но на это дан ответ в предпоследней главе книги: «Рег взглянул в яркие и чистые небеса, но Бога, по-видимому, не взволновало отрицание Его бытия: Он-то знал, что Он есть, и этого было достаточно».
У книги есть еще один эпиграф — из Теннисона, из «Королевских идиллий», естественно:
«Этим безумием мы наказаны за наши грехи».
Л-ра: Диапазон. – 1991. – № 1. – С. 19-22.
Произведения
Критика