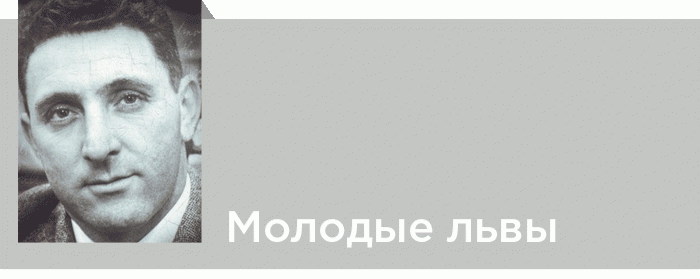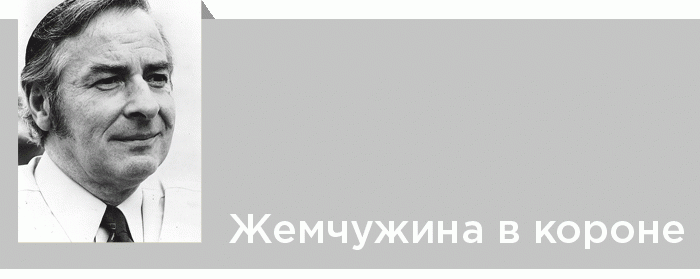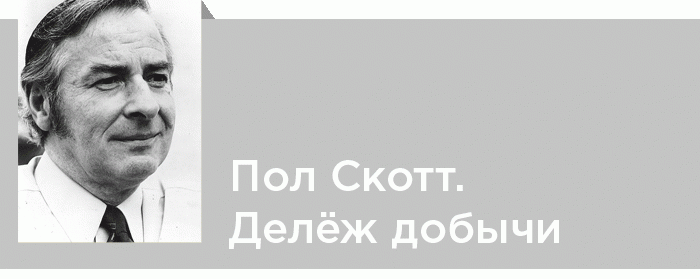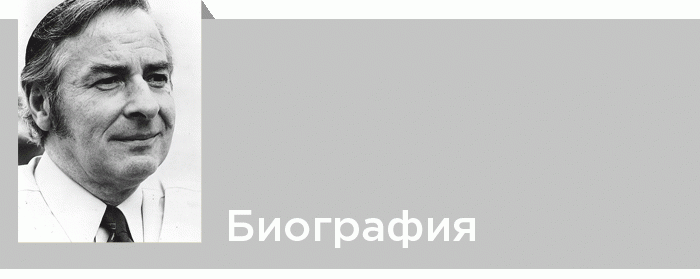Пол Скотт. Остаться до конца
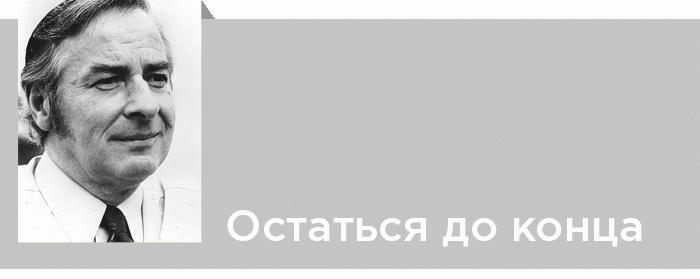
(Отрывок)
Глава первая
В конце апреля 1972 года, в понедельник, примерно в половине десятого утра, полковник Смолли (Слоник) скончался от обширного инфаркта. Его жены Люси не было дома. В роковую минуту она сидела в парикмахерском салоне на первом этаже гостиницы «Шираз», нового пятиэтажного здания из стекла и бетона. Там Люси, по обыкновению, подкрашивала свои седины в голубой цвет.
«Шираз» находился в двух шагах от старой гостиницы «У Смита», прилепившейся на склоне холма. В ее флигеле, именуемом «Сторожкой», и жили уже лет десять Слоник и Люси. Маленький домик несколько отстоял от основного здания и даже был обнесен стеной. Правда, ныне стена в одном месте порушена, и к гостинице пролегла тропинка, дабы создавалось впечатление общности дома и флигеля. Воротца «Сторожки» — теперь лишь запасной выход — выводили в узкий проулок. Напротив громоздился «Шираз».
Случись кому сразу обнаружить, что Слоник умер, и незамедлительно сообщить об этом Люси, известие застало бы ее в самую неподходящую для любой женщины минуту: в половине десятого Люси сушила волосы.
Однако покойного нашли лишь полчаса спустя, да и то случайно. Миссис Булабой, владелицу гостиницы, жившую в основном здании, стали выводить из себя завывания Блохсы, собаки Слоника и Люси. Собака выла хотя и негромко (она сидела под замком в гараже полковника Смолли), но неумолчно, и миссис Булабой послала мужа во флигель жаловаться.
Миссис Булабой утопала в складках жира и легких розовых одежд (она обожала сари самых нежных тонов, чтобы подчеркнуть белизну кожи). Жизнь у миссис Булабой была самая что ни на есть мученическая. В частности, ее мучила мигрень. В такие дни хозяйка не выхолила из комнаты. Всякая работа в гостинице замирала, ибо любой резкий или громкий звук причинял несчастной непомерные страдания. Гостиницей она владела безраздельно. Мистер Булабой — лишь управляющий, которого она осчастливила, выйдя за него замуж. Весила миссис Булабой более ста килограммов — куда ему с ней тягаться.
Много лет прослужил мистер Булабой в гостинице, прежде чем она перешла в собственность его нынешней супруги. Мистер Булабой был ее третьим, самым молодым мужем. И, как считал Слоник, самым удачливым. Вряд ли миссис Булабой дотянет до четвертого замужества: ее погубит более чем солидный вес, не спасет и более чем солидный счет в банке. Слоник обычно звал мистера Булабоя Билли-Боем — за исключением нечастых дней, когда они ссорились. По его мнению, Билли-Бой был из тех, кому судьба всегда отвешивает оплеухи — и вдруг одарила ослепительным лучом небывалой удачи, так что теперь мистер Булабой вел себя предельно осмотрительно, дабы эту удачу не спугнуть. Детей у миссис Булабой ни от одного мужа не было.
— Билли-бой, похоже, останется единственным наследником, — говаривал жене Слоник. — Кормит он свою половину просто на убой, и в один прекрасный день толстуху хватит удар.
Впрочем, миссис Булабой на аппетит и без его заботы не жаловалась. Главная задача — ни под каким предлогом не причинять супруге огорчений. А предлогов хоть отбавляй. Когда у миссис Булабой выпадали «благополучные» дни, она неуклюжей баржей проплывала по своим владениям, выискивая непорядок, а за ее тяжеловесной кормой покорно следовал супруг в опрятном, тщательно отглаженном костюме, проверяя, точно ли исполняются хозяйкины указания, и на ходу устраняя возможные источники ее недовольства. А по «черным» дням мистер Булабой ходил на цыпочках, понуждая к этому и всю прислугу, да и редким постояльцам бывало неуютно — словно грозовая туча нависла, и, позавтракав, они спешили покинуть гостиницу.
Именно таким «черным» днем оказался последний апрельский понедельник (24 число). Гроза, видать, разразится небывалая. Миссис Булабой страдала молча, из-за плотно закрытых дверей ее спальни (бывший номер 1) по всей гостинице разносились беззвучные сигналы: будет шторм. Миссис Булабой возлежала на двуспальной кровати, занимая ее почти целиком. Порой на супружеское ложе призывался и мистер Булабой; но ночь накануне он, увы, провел в своей комнате (бывший номер 2). Некогда обе комнаты составляли номер люкс и сообщались дверью, которую мистер Булабой никогда не запирал со своей стороны, однако зачастую его робкие полночные попытки открыть ее оказывались тщетными. Но в ночь на понедельник он не предпринял даже и робких попыток. Потому что воскресенье обернулось для него сущим адом.
В половине восьмого утра личная служанка хозяйки затребовала его из комнаты номер 2 в комнату номер 1. Звали служанку Мина, была она из местных, сызмальства служила в английской офицерской семье няней, там и получила прозвище. В 1947 году семья эта уехала в Англию. Мина дожила уже до почтенных лет, располнела, стала еще сварливее. Мистеру Булабою так и не удалось переменить ее нрав. Слушалась Мина только хозяйку, да и то не всегда. Мистер Булабой даже побаивался Мину, так как она порой жаловалась на него или на «Дирекцию», что опять-таки сводилось к его персоне. Всякий раз после этого миссис Булабой учиняла мужу скандал. А когда Мина упрямилась или своевольничала, козлом отпущения снова оказывался мистер Булабой.
— Вам, дружище, на роду написано терпеть поражения, — говаривал Слоник, — во всяком случае с женщинами. Мина к вам, видать, неравнодушна, посадить вас в лужу ей ох как приятно. Вы бы приударили за ней.
— Нет, дело не в этом. Просто у нее, очевидно, климакс.
— Тогда ее, как чудо природы, надо занести в книгу рекордов. Сколько уж лет вы про это твердите. Давайте «дернем» еще по одной.
И они «дернули» еще по одной. Было это неделю назад, в понедельник вечером, мистер Булабой всегда с особым нетерпением ждал эти вечера. Ибо как бы скверно день ни начался, как бы плохо ни чувствовала себя супруга за завтраком, к обеду наступало непременное улучшение, и она весьма плотно подкреплялась, чтобы хватило сил скоротать долгий вечер за карточным столом в местном клубе. Миссис Булабой играла в бридж не только по понедельникам, случалось ей играть и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу, и в субботу. Но только не в воскресенье. В этот день мистер Булабой брал выходной, и миссис Булабой проверяла его работу за неделю: сверяла по счетам приход-расход. Частенько мнения супругов расходились — и как следствие скандал в воскресенье вечером, одинокая ночь мистера Булабоя и невыносимая мигрень миссис Булабой в понедельник утром.
И все же особая прелесть вечеров по понедельникам состояла не только в том, что миссис Булабой наверняка допоздна не вернется домой, но и в том, что жена полковника Смолли Люси тоже уходила в кинотеатр «Новое электро». Вот последний постоялец, отужинав, покидал столовую, и слуги начинали убирать со столов и мыть посуду, вот мистер Булабой напоминал повару, чтобы тот приготовил для жены «перекусить» на ночь, вот Мина застилала хозяйкину постель и сама размещалась неподалеку, чтобы явиться по первому зову госпожи. Тогда-то мистер Булабой и Слоник могли посидеть за бутылочкой либо в «Сторожке», либо на гостиничной веранде, откуда лучше слышно, как возвращается миссис Булабой.
Пили очень умеренно. Слоник больше, чем Булабой, но ведь они с женой последние в Панкоте из англичан «былых времен», для которых спиртное что воздух. Мистер Булабой пил меньше отчасти из соображений принципиальных (довольно, впрочем, шатких), в основном же из-за того, что любил слушать Слоника. Тот, казалось, знал все обо всем (старые и новые сплетни, сплетни местные и международные, о деле Профьюмо, об убийстве Кеннеди, о привычке президента Джонсона трепать собак за уши, о страсти премьер-министра Хита к яхтам, о том, что побудило Англию поддерживать Пакистан в прошлой войне с Индией и Индию — в недавней, о том, что сказал Генри Киссинджер дуре-блондинке в Коннектикуте).
Много понедельников набежало за десять лет, и мистер Булабой приобщился огромному количеству президентских монарших и правительственных тайн. Он изумлялся, давался диву: как много знает Слоник об окружающем мире. Вот бы запомнить хотя бы десятую часть рассказанного. Порой ему даже думалось: пей он, как Слоник, память работала бы лучше. Но он сдерживался, и не только из-за принципов или желания послушать Слоника, а еще и потому, что крепко помнил: не ровен час прихотливая супруга возжелает увидеть его ночью на супружеском ложе и не дай бог заметит, что он навеселе.
А настроения миссис Булабой зависели от того, выиграла она или проиграла. Чаще она выигрывала — тогда немалый выигрыш ожидал ночью и ее супруга. Но он должен был во всеоружии встретить и ее проигрыш — а за целый день игры в бридж можно спустить немало. Тогда жена чувствовала себя ненужной и нелюбимой в мире зла и обмана. Мистера Булабоя переполняла жалость, и после бурных и продолжительных ласк супруги прочувствованно, со слезами на глазах, клялись друг другу в любви, любви вечной, над которой не властно время. О тех ночах, когда миссис Булабой после бриджа оставалась «при своих», вообще сказать нечего — они бывали очень скучны. Нередко, правда, проигрыш плюс плотная полночная «закуска», плюс неистовое совокупление, плюс светлые слезы умиления давали такой результат: назавтра хозяйка вообще не могла подняться с постели.
* * *
Нынешний понедельник, судя по всему, не сулил мистеру Булабою приятной вечерней встречи с полковником в отставке Смолли. Похоже, не удастся отвертеться от неприятнейшего дела — писать УВЕДОМЛЕНИЕ. Когда Мина позвала мистера Булабоя в номер 1, он беспрекословно повиновался и через минуту уже стоял, беспокойно переминаясь с ноги на ногу, у постели жены. Вызову он не удивился, еще с четверть часа назад он слышал через стенку ее стоны и сразу же приказал слугам не шуметь.
— Не послать ли, Лайла, за доктором Раджендрой? — шепотом спросил он. Они и меж собой разговаривали по-английски, так как разобрать, что она тараторит на своем пенджабском диалекте, было невозможно.
Она беззвучно пошевелила губами — не надо. Он видел лишь губы и усики жены. Она лежала на спине, стиснув виски ладонями.
— Может, за доктором Тапоревалой? Или за доктором Бхаттачарией? — вспомнив последнего, мистер Булабой даже облизнулся.
Доктор Раджендра больше доверял западной медицине, доктор Тапоревала полагался на народные средства, а доктор Бхаттачария лечил иглоукалыванием. Однажды он взялся за неделю избавить миссис Булабой от мигрени и утыкал ее необъятное тело множеством иголок. Незабываемое зрелище!
— Не надо доктора, — прошелестела она. — Ты написал Уведомление?
— Сейчас напишу.
— Поторопись! И принеси мне, я подпишу.
— Лайла, дорогая, стоит ли тебе утруждать себя всякими пустяками. Я-то здесь для чего?
— Вот и я порой себя о том же спрашиваю.
Мистер Булабой на цыпочках вышел из комнаты и, также на цыпочках, вошел снова.
— Лайла, Уведомление придется напечатать на машинке.
— Ну, разумеется.
— Но она ж будет стрекотать.
— Что ж, каждый должен нести свой крест.
Мистер Булабой лишь кивнул.
Он вернулся к себе в комнату и прошел к двери в столовую (туда выходили двери всех номеров). Это была унылая, с зелеными стенами и без окон комната; из бронзовых плевательниц, приспособленных под цветочные горшки, торчали чахлые пальмы, словно охраняя столы, застеленные несвежими скатертями. Скудный дневной свет просачивался лишь из соседней гостиной — окна ее выходили на веранду. Меж столовой и гостиной и прилепился кабинет мистера Булабоя — крохотная стеклянная будочка, откуда он мог обозревать обе комнаты. То была святая святых мистера Булабоя. Под потолком висела электрическая лампочка без абажура. Узкая дверь в «кабинет» вряд ли позволила бы проникнуть туда миссис Булабой, а внутри царил такой беспорядок, что случись хозяйке протиснуться в дверь, то некуда было бы ступить, выходить же ей пришлось бы пятясь. Мистер Булабой затворил дверь, опустил стеклянную панель (обычно поднятую, ибо так он мог непосредственно общаться с клиентами, то есть выслушивать претензии, жалобы, улаживать конфликты), уселся во вращающееся кресло, вставил в престарелый «ремингтон» два листа с гостиничным вензелем, лист копировальной бумаги и написал: «24 апреля 1972 года. Многоуважаемый полковник Смолли!» Напечатав, остановился.
Из номера по соседству доносилась музыка. Мистер Булабой бесшумно выпорхнул из кабинета, постучал в дверь, открыл, застав врасплох мистера Панди: тот сидел в позе лотоса с закрытыми глазами и в полном блаженстве, чему, очевидно, способствовало громкое пение Рави Шанкара (или кого-то наподобие) по первой программе радио.
Для мистера Булабоя не существовало иной музыки, кроме христианских гимнов. Он выключил радио, мистер Панди открыл глаза и увидел, что его гость мимикой и жестами пытается представить состояние своей супруги в первое утро недели. Мистер Панди вздохнул, покачал головой, закрыл глаза и вновь предался самоуглублению. Лицо его, правда, вместо былого блаженства выражало теперь крайнюю сосредоточенность.
Мистер Панди служил в юридической конторе в Ранпуре, которая вела весьма запутанные дела миссис Булабой. В гостиницу он наезжал раза два в месяц, на день-другой, привозил различные документы. Содержали и кормили «У Смита» его бесплатно, так что мистер Булабой выключил транзистор без особых угрызений совести. В недобрый час появился мистер Панди! Ведь ему предстоит увезти в Ранпур вместе с другими бумагами и копию Уведомления! Мистер Булабой вернулся к себе в кабинет, вытащил из машинки начатое письмо, вставил чистые листы (теперь уже в трех экземплярах, исправив первоначальную оплошность) и напечатал заново: «Многоуважаемый полковник Смолли!» Опять остановился, видимо дожидаясь вдохновения, но, так и не дождавшись, с тяжелым сердцем продолжил. Закончил он учтивым «Искренне Ваша Лайла Булабой».
Было почти 8 часов утра.
Раньше, когда еще не было рядом «Шираза», в это время «У Смита» начиналась горячая пора: прибывал поезд из Ранпура. Всю ночь он тащился по одноколейке, вилявшей по холмам. И «Дирекция», и прислуга в полной готовности ждали гостей, заказавших номера заранее, а также и тех, кто мест не заказывал, — все они появлялись этак в половине девятого на такси и в колясках. Пока новые постояльцы с аппетитом завтракали, вещи отъезжающих уже выносили на веранду — поезд в Ранпур уходил в полдень. Такие порядки установились еще в былые времена раджей. С тех пор многое переменилось: добрая година сменяла лихую; порой беда казалась неминуемой; порой приходилось сокращать расходы; порой вдруг возгорались надежды. Всякое пережил Панкот: и расцвет, и упадок, и вновь расцвет. Однако маленькая гостиница, судя по всему, доживала последние дни.
По-прежнему в восемь утра приходил поезд из Ранпура. Через полчаса мистер Булабой мог, сидя на веранде, прикинуть, сколько прибывает в «Шираз» народу, сосчитать такси, двигавшиеся по узкому проулку. Около маленькой гостиницы они круто сворачивали к подъезду «Шираза». Гостей бывало, правда, не так уж и много. Большая часть приезжих добиралась до местечка к обеду либо на своих машинах, либо на автобусе индийской авиакомпании из Нансеры, где был аэропорт.
Аэропорт в Нансере построили несколькими годами раньше, чем «Шираз», поэтому хоть и недолго, но «У Смита» царило благоденствие. Самолет из Ранпура до Нансеры летел полчаса, оттуда до Панкота пассажиров довозил автобус. Целый час полз он по извилистой дороге меж холмов до маленького селения. Любители живительного горного воздуха, приезжавшие на субботу и воскресенье, конечно, предпочитали самолет. Неразумно ради двух дней целую ночь трястись в поезде и потом шесть часов днем — обратно. «У Смита» автобус высаживал пассажиров и забирал в аэропорт улетавших. Авиакомпания даже разместила в гостинице (что было очень кстати) свою контору, но потом перевела ее в «Шираз». До чего ж несправедливо, вздыхала миссис Булабой. «Шираз» и без того велик — в пять этажей, а теперь постояльцев еще больше будет: и государственные мужи, и дельцы, и скучающие богачи, и суетливые чиновники. Приезжали даже кинозвезды и режиссеры. Ранпурская кинокомпания «Эксцельсиор» снимала в Панкоте эпизоды нового фильма и заняла весь пятый этаж в этой новомодной уродине.
Местный люд проявил изрядное любопытство к артистам: их поджидали у гостиницы, за ними следовали даже на натурные съемки, хотя путь был неблизкий — артистов возили на машинах на дальний склон Восточного холма. Порой весь поход оканчивался впустую: актриса-героиня оказалась с норовом и иногда целый день не показывалась из своего номера люкс, принимая только свою свиту, рекламного агента да репортеров светской хроники.
Когда кончала капризничать она, не в духе оказывался герой, и съемка прерывалась иногда на несколько дней кряду. Из Ранпура даже приезжал владелец кинокомпании, угрожая судом за нарушение контракта, на что в ответ молодой режиссер — поборник реализма — тоже показал норов и заявил, что место для съемок не годится.
Съемочная группа уложила вещи и убралась восвояси.
* * *
Ровно неделю назад, в понедельник, Слоник и мистер Булабой со смехом говорили о тех днях. И сейчас, вспоминая ту беседу, мистер Булабой улыбался. Под окном появилась Мина с протянутой рукой. Явилась за Уведомлением. Мистер Булабой кивнул на пишущую машинку с листком бумаги и показал на пальцах что ему нужно еще четыре минуты. Часы показывали восемь тридцать.
Пять минут спустя он понес письмо жене — больше тянуть было нельзя. А еще через пять минут вернулся в «кабинет» и вставил в машинку чистые листы: Уведомление придется переписать, Лайле оно не показалось. Начал он немного иначе; «многоуважаемого полковника Смолли» урезал до «уважаемого» и закончил по-другому: Лайла Булабой из «искренне Вашей» превратилась во «владелицу гостиницы Л. Булабой с приветом». Заискивающе-стыдливые три абзаца меж началом и концом пришлось урезать до одного, сурового. Несколько раз мистер Булабой перепечатывал письмо, наконец решил: в таком виде ей должно понравиться. В начале десятого суровое Уведомление было написано.
Он вновь понес его жене. Прочитав, она простерла руку, мистер Булабой вложил в нее авторучку («Паркер-61»), помог болящей приподняться, чтобы подписать документ.
— Я сейчас же его и отнесу, — предложил он.
— Позови Мину. Пусть она сходит.
Мистер Булабой не посмел ослушаться. Вложил Уведомление в конверт. Пришла Мина. Миссис Булабой лично сунула ей в руку конверт.
— Отнесешь полковнику Смолли. Сейчас же!
Мина молча взяла письмо. Мистер Булабой направился было следом за ней, но его остановил властный окрик супруги:
— Сделай-ка мне массаж шеи!
Даже в этом занятии мистер Булабой углядел нечто эротическое; минут через пять он уже преисполнился было надеждами, но супруга постановила:
— Хватит! Возвращайся в кабинет. Может, скоро придет полковник Смолли. Объясняться с ним тебе!
* * *
Мистер Булабой вышел из комнаты Лайлы, а из номера 7 показался мистер Панди с портфелем в одной руке, со стаканом апельсинового сока — в чем состоял весь его завтрак — в другой. Завтракал он, по обыкновению, в будке, где некогда помещалась контора авиакомпании. Мистер Булабой дошел следом за ним до веранды, посмотрел, как тот устраивается «на завтрак», послушал, не взвоет ли опять радио. Но до него донесся лишь щелчок, другой. Он постоял еще немного, опершись о спинку кресла, на котором сиживал вечерами по понедельникам Слоник.
— И почему мне выпадает всегда самая дерьмовая работа? — спрашивал себя мистер Булабой и сам себе отвечал: — Да потому, что я в этой гостинице нечто вроде балки, или стены, или двери.
А балки да стены в гостинице и впрямь уже гроша ломаного не стоили. Осыпалась штукатурка, двор запущен. В отличие от своего предшественника, господина Пилаи, миссис Булабой отводила делам по хозяйству далеко не первое место. А что у нее на первом — оставалось для ее супруга загадкой. Мистер Панди куда более осведомлен о ее делах. Мистер Булабой метнул на маленького господинчика испепеляющий взгляд и в который раз задумался: а не чрезмерно ли дарит жена мистера Панди своим расположением?
— Эй, Дирекция!
— Что случилось, Мина?
— Вам, Дирекция, похоже, сейчас же надо идти в «Сторожку» и приструнить их, чтоб не шумели.
— А кто шумит?
— Ихняя собака.
— Никакой собаки не слышу. — Он повернул голову: и впрямь воет.
По мнению хозяйки, сказала Мина, собаку снова заперли в гараже — либо мистер и миссис Смолли в очередной раз поругались, выясняя, чья же это собака и кому с ней гулять, либо полковник не в духе из-за Уведомления.
— Ты передала его в руки полковнику?
Мина ответила, что отдала слуге, Ибрагиму.
— А полковник был дома?
Да, Мина видела его, он сидел на веранде и завтракал.
— А жена?
По словам Ибрагима, госпожа ушла в парикмахерскую. А еще он сказал Мине, что, когда госпожа вернется, будет страшный скандал, так как господин уже в который раз уволил Ибрагима, и хотя он, Ибрагим, больше не служит у полковника, Уведомление все же передаст, когда будет уходить, то есть незамедлительно, ибо сахиб приказал «выметаться» тотчас же. В этом году Ибрагима увольняли (то господин, то госпожа) уже трижды; но на этот раз сахиб даже выдал ему месячное жалованье. Ибрагим собирался уложить вещи и расположиться с ними у «Шираза». Выйдет из парикмахерской его голубоволосая госпожа, увидит Ибрагима, спросит, почему без дела сидит. А в парикмахерскую госпожа пошла затем, чтобы подкрасить волосы. Как объяснил Ибрагим Мине, мистер и миссис Смолли со дня на день ждут гостя.
— Англичанина! — добавила Мина, сложила руки на груди и ухватила себя за локти.
Мистер Булабой поднялся с места.
— Так мне надо пойти приготовить номер.
В «Сторожке» у полковника свободной комнаты не было. И в тех редких случаях, когда к Смолли приезжали гости, они останавливались в гостинице.
— Сначала уладьте с собакой! — напомнила Мина. — Номер успеете приготовить.
— К черту собаку! — отмахнулся было мистер Булабой, но тут Блохса завыла громче, уже с отчаянием. Из комнаты миссис Булабой донесся вопль, и Мина поспешила к хозяйке. Мистер Булабой немного постоял в нерешительности, затем сбежал вниз по лестнице и направился к «Сторожке». Из двух зол нужно выбирать меньшее: Слоник не так гневлив, как миссис Булабой. К тому же, вдруг Ибрагим не передал Уведомление лично полковнику, а положил куда-нибудь в неприметное местечко, где Слоник не скоро его и обнаружит.
Как бы там ни было, однако мистер Булабой сразу увидел, что письмо без конверта — значит, прочитано. Его сжимал в правой руке полковник Смолли, лежавший на клумбе пламенеющих канн.
Глава вторая
Умер полковник Смолли все-таки в половине десятого, а, скажем, не двадцатью минутами позже — тогда-то Блохса (так индийцы выговаривали ее истинную кличку, Блакшо, по фамилии прежних хозяев) перестала скулить и принялась выть, отчего взвыла у себя в комнате и миссис Булабой. Все считали собаку глупой, вряд ли она почувствовала, когда душа хозяина простилась с телом. Да и доктор Митра, пользовавший полковника, установил, что смерть наступила мгновенно, так как инфаркт был чрезвычайно обширным.
А за двадцать минут до этого, примерно в 9 часов 10 минут, Слоник втащил Блохсу в гараж и запер, потом заявил Ибрагиму, что тот уволен и чтобы выметался тотчас же. Полковник сразу и рассчитал его. Было это в 9.15.
Ибрагим запомнил время, так как, получив деньги, взглянул на часы: долго ли еще Люси-мем пробудет в парикмахерской, долго ли еще ему ждать, когда она начнет с хозяином переговоры о том, чтобы вернуть его, Ибрагима. А вдруг она и слова за него не замолвит? Ведь хозяин дал расчет — это могло быть зловещей вариацией на привычную тему «Пошел вон!».
Ибрагим еще несколько минут послонялся по двору, небось сейчас хозяин заорет:
— Где яйцо к завтраку?
Но слышались лишь частые удары в гаражную дверь: ее, точно боксер «грушу», молотила лапами Блохса. Потом Ибрагим пошел на задний двор разыскивать садовника-мали. Некогда его привел Ибрагим, сейчас он же и уведет. Мали, конечно, важный козырь для Ибрагима. Однако он встретил не работника, а Мину, служанку госпожи Булабой. Та, видать, искала именно его, а увидев, сунула ему письмо.
— Ох, беда! — только и сказала она, указав на конверт.
— Тем лучше! — воскликнул Ибрагим. Он рассказал, что его уволили, Мина, прикрывая рот ладошкой, посмеялась вместе с ним над причудами судьбы и ушла. Ибрагим сразу же понес письмо сахибу, ожидая всякого: могут и чашкой запустить, могут и тепло улыбнуться. Слоник всегда был непредсказуем, а после болезни и подавно, но уж лучше получать расчет от него, чем от госпожи. Мем-сахиб, рассчитав Ибрагима, несколько дней не видела и не слышала его, не замечала вовсе, словно одного ее приказа было достаточно, чтобы Ибрагим исчез бесследно. И самые долгие периоды «вынужденного простоя» выпадали тогда, когда его увольняла госпожа полковница. Полковник, хоть и угрожал «расправой», был сущим агнцем по сравнению с женой: он нападал всегда открыто, а госпожа брала измором. Даже когда ей случалось защищать Ибрагима от нападок полковника, сам Ибрагим принимал ее покровительство опасливо.
— Вам, сахиб, письмо, — объявил он, — только что доставили.
— Я же приказал тебе убираться! Получил деньги и проваливай! Живо!
— Письмо от Дирекции, — добавил Ибрагим и положил письмо на стол, за которым завтракал полковник. — Больше беспокоить не буду. Так уж, как последний долг исполняю. Видно, и впрямь разверзаются небеса и грядет конец света. Так написано. Прощайте, салам алейкум.
Он ушел в дом, прислушиваясь. Вот сейчас с веранды донесется шелест бумаги: полковник вскроет конверт. Ибрагим догадывался, о чем письмо. Уже с месяц прислуга в «Ширазе» и «У Смита» судачила, что станется со «Сторожкой», да и со всей маленькой гостиницей. Поначалу шли слухи, что консорциум, владеющий «Ширазом», намеревается купить гостиницу у миссис Булабой и «модифицировать» ее. Потом слухи переменились: будто миссис Булабой удалось посеять раздор меж хозяевами «Шираза» с тем, чтобы самой войти в число совладельцев гостиничного объединения. Кроме «Шираза» туда входили и новые гостиницы в Ранпуре, и в Майапуре, и еще одна — в Мирате («Миратский озерный дворец»). Консорциуму также принадлежало несколько ресторанов пенджабской кухни. Все члены консорциума перебрались в Индию в сорок седьмом из Западного Пенджаба, отошедшего после провозглашения независимости к Пакистану. По их словам, в Индии они оказались без гроша в кармане. Кажется, и первый муж миссис Булабой приехал из тех краев, потеряв все — после столкновений между мусульманами и индусами. Прислуга «У Смита» и «Шираза» сошлась во мнении, что ныне уже не сыскать западного пенджабца «без гроша в кармане». Былая голь изрядно разбогатела. «Проклятые иммигранты» — так их порой называл Ибрагим.
Но шороха бумаги Ибрагим так и не услышал. Блохса завыла, не прекращая бить лапами в дверь. Еще Ибрагим услышал, как полковник крикнул: «Сука! Сучье отродье!» — заскрипело плетеное кресло, полковник поднялся. Ну, сейчас он разнесет миссис Булабой в пух и прах.
Ибрагим улыбнулся. Он больше в этом доме не служит, какое ему дело до того, что «Сторожка» осталась пустой: полковник вышел парадным ходом, а он, Ибрагим, — черным. На заднем дворе, где находились помещения для прислуги, он увидел мальчишку-мали, тот чинил прохудившийся бак.
— Бросай работу, — приказал он. — Нас уволили. Мы с тобой одной веревочкой связаны.
— А когда нас снова примут?
Этот мали еще и месяца не проработал, но систему уже знал: Ибрагим объяснил, что к чему.
— Может, и вовсе на этот раз не примут. Пошли. Поможешь мне вещи уложить, да и свои соберешь.
— Мне тоже уходить?
— Конечно.
— А куда же мы пойдем?
— К «Ширазу».
— Наниматься на работу?
— Нет. Мы сядем около входа, мем-сахиб выйдет, мы с ней поговорим.
Мали отодвинул бак, но с земли не поднялся. Карие глаза потемнели — видно, парень крепко задумался.
— Ибрагим, а почему, когда гонят тебя, и мне нужно уходить?
— Я уже объяснял. Сейчас некогда повторять.
— А как насчет денег?
— А что — «насчет денег»? Разве я сказал, что увольняю тебя? Ты еще у меня на службе. По крайней мере до конца месяца. Тогда о деньгах и поговорим.
— Если нас выгнули, где ж мы жить будем? Что будем есть?
— Не «выгнули», а «выгнали». Ты должен хорошо по-английски говорить, если хочешь за границу поехать. И не задавай вопросов, что будет, то и будет. Аллах милостив.
Хижина, где жил Ибрагим, помещалась за железным гаражом — постройкой сравнительно недавней. «Сторожка» всегда считалась жилищем скромным и тесным, соответствовали ей и помещения прислуги: где во времена раджей поселили бы лишь одного холостяка, теперь ютилось шесть семейств. Во дворе некогда стояло несколько хижин, в одной помещалась кухня. Приличнее других выглядела сейчас хижина Ибрагима, остальные завалились, а о кухне напоминала лишь кучка почерневших кирпичей, С тех пор как «Сторожка» стала частью гостиницы, в ней устроили современную кухню, однако чета Смолли редко ею пользовалась, разве что когда приезжали гости. Обычно они столовались в самой гостинице или посылали Ибрагима за обедами в ресторан.
Порой сахибу приходила блажь, он отправлялся на базар за снедью и готовил сам несусветные блюда, картошка у него вечно подгорала, жаркое получалось переперченным и пересоленным. Ибрагим выучился заваривать чай, поджаривать гренки, делать яичницу, выжимать из фруктов сок, следить, чтобы в холодильнике не переводилось масло и молоко, а зимой по утрам ему доверялось варить кашу, чтобы согреть своих престарелых хозяев. Случись кому из них занемочь, Ибрагим, не жалея сил, выхаживал больного, исполнял любые поручения. Хотя он и был много моложе супругов Смолли, но относился к ним как любящий и заботливый (хотя и строгий временами) отец к капризным, несмышленым детям: их разумнее ублажать, а не ругать.
Три месяца назад он окончательно избаловал стариков: тогда впервые за свои семьдесят с лишком лет сахиб серьезно заболел, и доктор Митра велел лежать в постели либо дома, либо — что было б лучше всего — в больнице.
— Дерьмо ваша больница! Да и постель дерьмо! — горячился Слоник. — Ибрагим присмотрит за мной, да и Люси, если, конечно, удосужится оторвать задницу от стула.
На сахиба приятно работать еще и потому, что изо дня в день все глубже проникаешь в чарующее многообразие английского языка. Изысканность его покоряла Ибрагима с юности, даже с детства, прошедшего в Мирате. Лишь месяц-другой, проведенные в Лондоне (Северный район, Финсбери-парк), несколько умерили его восторг: там английский звучал как-то по-иному. Впрочем, там было полным-полно греков.
Слоника уложили в постель, а Ибрагим несколько дней кряду бормотал, словно заклинание: «Постель — дерьмо, оторви задницу от стула». Несколько дней им с Люси-мем то вместе, то порознь приходилось ходить за продуктами для Слоника, выбирая те, которые быстрее вернут больному силы и никоим образом не скажутся на кровяном давлении. Так же то вместе, то порознь колдовали они над электрической печкой в «Сторожке», которой раньше почти не пользовались, и приноровиться к ней оказалось очень трудно, внутри словно сидел злой джинн; как ни бились Ибрагим с Люси-мем (неважно, вместе ли, порознь ли), печка то изрыгала дым и пламя, то оставалась холодна, как гробница Акбара. Сахиб лежал либо в спальне, либо на веранде. Он бывал то необъяснимо тих и покорен (по разумению Ибрагима, очевидно, господин понял, что паломничества в Мекку ему уже не совершить), то буен и пуглив: проклинал бульон, жену, Ибрагима, доктора Митру, гостиницу «Шираз» — по утрам эта пятиэтажная уродина загораживает солнце, а днем от нее пышет жаром, и редкий полуденный свежий ветерок не достигает маленькой соседки «Шираза». В основном гневные речи Слоника обращались к миссис Булабой; ее старший мали должен был ухаживать за садом при «Сторожке», за огородом и за чахлыми цветами в вазонах на гостиничном дворе. Ибрагим был, так сказать, личным слугой Слоника и Люси, а подметать двор и следить за садом вменялось в обязанность гостиничной прислуге, это входило в плату за жилье.
Пока Слоник болел, хозяйский мали ни разу не появился в «Сторожке». Пришел в запустение газон, увяли канны. Вот-вот поглотят «Сторожку» джунгли.
— За кого миссис Булабой меня принимает? — кипятился Слоник. — За спящую красавицу? Придет, разбудит через сто лет, прорубив себе путь сквозь чащобу? Что она, мнит себя волшебным принцем, черт ее дери! Вот вернется ее Билли-бой, я им обоим кишки выпущу!
— О чем это сахиб говорит? — спросил Ибрагим у мем-сахиб.
— Ни о чем. Он бредит, — ответила та. — Но насчет мали нужно что-то решить. Пока сад запущен, полковник-сахиб не поправится.
Ибрагим держался другого мнения. Он служил у Смолли на протяжении многих, весьма любопытных и беспокойных лет, и потерять хозяев сейчас посчитал бы преждевременным. Ведь он служил в последней из английских семей в Панкоте, да и сам побывал в Англии, поэтому несколько выделялся среди прочих слуг. Случись Слонику сейчас умереть, Люси-мем, конечно же, поедет на родину. Поэтому Ибрагим рассудил, что запущенный сад — единственное, что разжигает в Слонике гнев, а следовательно, и жизнь. Слоник из тех, кому как воздух всегда нужен повод для недовольства. Частенько он эти поводы придумывал сам. А сейчас и придумывать не надо: повод тут как тут — ругайся на здоровье! Окажись сейчас под окном мали, начни он стричь газон да поливать канны, кругом тишь-благодать, тоска зеленая, не ровен час — помрет Слоник.
Иногда, испытывая унижение и одновременно умиляясь душой, Ибрагим выливал на канны ведро воды, даже собирал для полковника букетик ноготков и ставил в вазу у постели. Но к косилке он не прикоснется! Он все-таки главный слуга в доме, а не садовник. И конечно, прав Слоник, что заниматься газоном — дело мали да его помощника, который таскает на веревках старую косилку.
— Садовник нам полагается по договору! — возопил в один прекрасный день Слоник. И Люси-мем, выйдя из себя, пренебрегла советом Ибрагима подождать, пока вернется из своей таинственной поездки в Ранпур мистер Булабой, отправилась на битву с миссис Булабой — такого Ибрагим за все время службы припомнить не мог.
— Я никогда не вмешиваюсь в хозяйственные дела, — как-то раз сказала ему мем-сахиб тоненьким смирненьким голоском. — Ума для этого не хватает.
Ибрагим лишь иронически усмехнулся. Мем-сахиб бывала дьявольски дотошна, когда ей приходилось проверять цены и считать принесенную Ибрагимом сдачу. А если миссис Булабой в чем и шла на уступки Слонику, заслуга в этом принадлежала «жалкому умишку» Люси-мем — так самокритично она себя оценивала. Благодаря «жалкому умишку» два года назад в «Сторожке» появился новый холодильник, тогда же починили гаражную дверь, на двух унитазах, царственно возвышавшихся на постаменте в ванной, сменили сиденья, мошенник-дворник даже клялся, что не раз видел, как полковник с супругой восседали на этих тронах бок о бок. Каков враль, а?!
Поэтому, когда Люси-мем отправилась к миссис Булабой выговаривать себе садовника, Ибрагим не сомневался, что она вернется с трофеем — слугой-мали.
Однако Люси-мем сказала, что старый мали ушел и служит теперь в «Ширазе». И что теперь делать — ума не приложу. Придется, видно, подождать.
Ибрагим ожидал упрека, дескать, мог бы и нас предупредить, что мали больше нет. Но Люси-мем его не упрекнула, и, поразмыслив, Ибрагим понял, что он и сам-то не очень ожидал упрека. Удивительные люди сахиб и мем-сахиб! Полностью, как и многие старики, поглощены собой. Живут в мире своих представлений, им и дела нет, что случилось со старым мали, а спроси они, Ибрагим бы рассказал. Однако сахиб только ворчал, что мали как не было, так и нет, а мем-сахиб только слушала вполуха его воркотню, пока не решила, что ему вредно волноваться.
Конечно, старый мали ушел не по доброй воле, его рассчитали. По сути, из «соображений экономии», как называла перестройку своего хозяйства миссис Булабой, объяснила же его отставку тем, что мали, дескать, продает часть урожая, отчего «У Смита» случаются непредвиденные перебои с овощами и ничего не ведающему мистеру Булабою приходится покупать свои же овощи на базаре. Доказать виновность мали миссис Булабой не могла, она руководствовалась лишь внутренним убеждением. А ее внутреннее убеждение должно и для окружающих стать мерилом истинности. Ее приговор всегда окончателен, обжалованию не подлежит. И повинен-то старый мали был лишь в том, что посягнул на законную часть им же самим в поте лица выращенного и собранного урожая. Мали копался на огороде с утра до вечера, а выпадала свободная минута, и он, к неудовольствию миссис Булабой, «прохлаждался», постригая газон у «Сторожки», теперь же при гостинице остался лишь помощник мали, хромоногий и кривой на правый глаз парень. Он едва-едва управлялся, пропалывая клумбы меж выложенных камнем дорожек. Впрочем, от клумб осталось одно название. Похоже, миссис Булабой только и ждала удобного случая, чтобы рассчитать и этого беднягу. Вечно она так, думал Ибрагим: сама людей гонит, а Люси-мем говорит, что они по своей воле уходят.
* * *
Старого мали рассчитали как раз в тот день, когда заболел сахиб, а накануне его приятель и собутыльник мистер Булабой уехал в Ранпур якобы по поручению жены. Слугам выпала редкая возможность посудачить: а не рассчитали ли самого мистера Булабоя? Или, может, он ушел к другой женщине? Например, к танцовщице-певице из ранпурского ресторана Изюминке Чичанье; поговаривали, что мать у нее русская, а отец — афганец. Старший слуга «У Смита» видел газетную вырезку с фотографией Изюминки Чичаньи на двери кабинета (изнутри, конечно), и каждый из мужской половины прислуги заглядывал в отсутствие хозяина в кабинет, чтобы вдоволь налюбоваться красоткой.
Симпатия мистера Булабоя к Изюминке пробудилась еще с той поры, когда она приезжала с программой в самое первое в Панкоте кабаре — «Горный зал» гостиницы «Шираз». Злые языки, правда, утверждали, что Чичанья осталась весьма недовольной («Зал с гулькин нос, а гор нет и в помине»). Прислуга «Шираза» не очень лестно отозвалась о голосе Изюминки («лягушку и ту приятнее слушать»), зато по достоинству оценила роскошные формы Чичаньи («груди ровно дыни»). Даже плохая газетная фотография не смогла скрыть это неоспоримое достоинство певицы.
Прислуга «Шираза» поведала также коллегам «У Смита», что Изюминка поистине ненасытна в любви, и у нее в постели всегда лежит иллюстрированное издание «Кама Сутры», дабы разжечь затухающую к утру страсть ее любовников. Частенько постояльцы гостиницы жаловались, что их часа в три утра будил стук каблуков и щелканье кнута, который обычно актриса использовала в танце «казачок». Особенно бывали недовольны родители, навещавшие своих сыновей-студентов Чакраварти-колледжа, заведения благонравного и по-английски пуританского; помещалось оно в бывшей «Летней резиденции».
Жалобы, однако, не подействовали. Изюминке Чичанье очень благоволили двое молодых людей — племянники влиятельнейшего в консорциуме человека. Чичанья, как утверждали слухи, любила худых мужчин, чем худее — тем лучше, а возраст не помеха. Поэтому и мистера Булабоя нельзя вычеркнуть из списка соискателей. В кабаре «Шираза» он побывал дважды. А теперь он был в Ранпуре, где Изюминка выходила на сцену каждый вечер.
— Бедный хозяин, — вздохнул повар, когда наконец до него дошло, что побудило мистера Булабоя отправиться в Ранпур. — Да откуда ж у него столько сил?
Три недели спустя мистер Булабой вернулся. Был он молчалив, но в глазах довольство. Видать, добился своего, заметил повар. В первое после приезда воскресенье он не появился в церкви святого Иоанна, столпом которой считался. Фрэнсис Булабой был христианином с пеленок. Какой веры держалась его жена, никто не знал. Она столько раз меняла мужей, что ее девичья фамилия канула в Лету. Какой бы то ни было религией она не интересовалась, равно как и жизнью вечной, предпочитая жизнь сегодняшнюю и заботясь лишь о том, как бы устроиться в ней получше.
Сразу по приезде мистер Булабой на два часа заперся в комнате супруги, и, судя по несмолкающим голосам, говорили скорее всего о делах, вряд ли мистер Булабой изливал свою любовь к жене или покаянно рассказывал о своем грехопадении. Выйдя от супруги, он принялся за привычные дела с присущей ему сдержанной деловитостью. Разница лишь в том, что, сев за машинку печатать, он тихо выругал кого-то за разбитую тарелку, взор же при этом был рассеян.
— Ну, кажется, пронесло, — пожилой старший слуга употребил любимое словечко Ибрагима, — значит, и нам не страшно.
Перебирая грязные носки, рубашки, трусы мистера Булабоя, посыльный от дхоби принюхивался: нет ли чужого запаха, окончательно подтвердившего бы, сколь бурные ночи проводил мистер Булабой с танцовщицей. От своего отца мальчик-посыльный узнал, что дхоби испокон веков первыми чуют измену в любой семье. Но лишь однажды уловил он непривычный запах: на запах любимого хозяином мыла не похоже. Тонкий-тонкий аромат исходил от красивых узеньких трусов, — может, правда, просто пахло новым, незаношенным бельем. Очевидно, трусы эти мистер Булабой купил в Ранпуре и еще не стирал. Стоит ли из этого делать далеко идущие выводы?
Лишь вечером мистер Булабой показал, что знает об увольнении мали и о болезни сахиба. Никто из прислуги и словом не обмолвился об этом, пусть лучше хозяин сам обо всем узнает. В пять часов он прошел на задний двор, осмотрел огород, затем, будто направляясь навестить больного, подошел к пролому в стене, откуда был виден двор «Сторожки», постоял, заложив руки за спину, посмотрел на заросший газон — так смотрят на следы недавней катастрофы, о которой знали лишь понаслышке, и теперь любопытно увидеть все воочию, сознавая свою непричастность.
Ибрагима он не заметил: тот стоял затаившись, не спуская с мистера Булабоя глаз. О его приезде Ибрагим знал с самого утра, но своим хозяевам ничего не сказал, ибо в тот день без видимых причин оба вдруг перестали разговаривать с окружающими, лишь отдавая самые необходимые распоряжения. Такое случалось редко; чаще супруги Смолли не разговаривали друг с другом и общались только через Ибрагима; случалось, что кто-то из них обижался на Ибрагима, тогда другому выпадала роль посредника. Тройственное молчание воцарялось без какой-либо видимости причины и повода.
Итак, Ибрагим не оповестил хозяев о возвращении мистера Булабоя, но с нетерпением дожидался, когда тот появится сам, прослышав, что друг его еще толком не оправился после серьезной болезни. А еще Ибрагиму не терпелось присутствовать при непременном скандале из-за сада. Он прямо расстроился, увидев, что мистер Булабой повернулся и пошел прочь от пролома в стене.
— Трус! — сплюнул он и поднялся с земли. Мем-сахиб еще отдыхает. Сахиб заснул на веранде над документами, которые он извлек из обшарпанной черной шкатулки, — за последние дни оттуда словно из ящика Пандоры вылетел целый сонм бед.
* * *
— Садовник нам полагается по договору! — завопил Слоник, как только его перевели из спальни на веранду и взору его предстало трехнедельное садовое запустение. — Неси сюда шкатулку!
— Не все ли равно, дорогой, полагается или нет, — успокаивала жена, поглаживая его по лысеющей голове и одновременно потчуя бульоном, — главное — не волноваться. Подожди, вот приедет Билли-бой. Узнает, что старый мали ушел, и тут же наймет другого. Вот увидишь. Какой толк беспокоиться о саде, если из-за этого тебе хуже? Сад тебя еще порадует, дай срок, встань сначала на ноги, а за это время, глядишь, и с садовником все уладится.
— Какую чушь ты несешь! Как дурой была, так дурой и осталась!
— Хорошо, Слоник, пусть я дура, пусть я несу чушь — меня уж не переделаешь.
— Ты принесешь мне эту чертову шкатулку или нет?
— Сначала доешь бульон, потом поговорим о чертовой шкатулке. А будешь пай-мальчиком, съешь все без остатка, а потом баиньки, тогда, может, получишь к чаю вкусненького печеньица. Верно, Ибрагим?
— Вкусненького не осталось, мем-сахиб. Только диетические галеты.
— Ну, значит, Слоник, получишь к чаю вкусненькую галетку.
— С ума сойти!
— От чего же?
— Да от того, что семидесятилетняя старуха лепечет, как семилетняя кроха.
В пять часов Ибрагим отнес чай и тарелочку с диетическими галетами в спальню, где после завтрака уединился разобиженный Слоник. Для Люси-мем — чай на веранду: она сидела, скрестив ноги, покойно сложив руки на коленях и задумчиво глядя на некошеный газон.
— Спасибо, Ибрагим, — сказала она, не отрываясь от своих дум. На одном чулке у нее спустилась петля, туфли, хотя и начищены им, Ибрагимом, до блеска, старенькие, поношенные. Люси-мем смотрела вдаль: по каким только дорогам не хаживали эти туфли в былые времена.
* * *
На следующий день после того, как Слоник назвал Люси-мем семилетней крохой, она с Ибрагимом перенесла мужа на веранду и все-таки дала ему шкатулку с документами и даже ключ от нее, сама же отправилась в гарнизонный магазин.
— Ишь паскуда! — крикнул минут десять спустя Слоник. Ибрагим толком не понимал, кто такая паскуда, но звучало слово красиво.
— Что угодно сахибу? — Он подошел к старому, изъеденному жучком тростниковому шезлонгу, на котором возлежал заботливо укутанный Слоник. Хотя февраль в Панкоте теплый и солнечный, по утрам бывает холодно.
— Что угодно? Да ничего не угодно. Просто я нашел, понимаешь, нашел! — И он торжествующе помахал листком. — Посмотрим, посмотрим. Засужу стерву, повертится она у меня, как карась на сковороде.
Ибрагим лишь одобрительно кивнул. Уже с месяц сахиб не угрожал никому участью карася на сковороде. Угроза, правда, никогда не исполнялась. Сколько раз, образно говоря, побывал на сковороде и сам Ибрагим, однако остался цел и невредим. Раз хозяин ругается — значит идет на поправку. Снова в старом, немощном теле возгорелись искры сильных чувств. Хотя сейчас Слоник совсем не тот, что раньше. С фотографий на стене смотрел плотный, осанистый мужчина в красивой форме или совсем юный невысокий офицер под руку с малышкой мем-сахиб На фотографиях лицо Слоника всегда получалось круглым, если не сказать пухлым и — как представлялось Ибрагиму — непременно румяным. Взгляд суров, губы плотно сжаты. Теперь же сахиб порой (и даже подолгу) смеялся, частенько неодобрительно покрякивая: бывало и так, что он сидел, похрустывая костяшками пальцев, и улыбался чему-то сокровенному. Лицо у него теперь поблекло, пошло дряблыми складками. На руках и плечах появились коричневые крапины. Англичане даже дряхлели со свойственной им обстоятельностью, словно заранее готовили свои тела к небытию, старались встретить его во всеоружии. Пустая трата времени — теперь ведь умерших кремируют. От этого нововведения Ибрагимова мусульманская душа (или то, что от нее осталось) полнилась ужасом. А виноваты во всем индусы: за долгие годы они и англичан испортили.
— Что творится на белом свете, — недоумевал Ибрагим, — если жаднющая пенджабская баба может причинить христианину-сахибу хотя бы минутное беспокойство!
Ибрагим хотел было так и сказать Слонику, но тут появился доктор Митра проведать пациента, и Ибрагима услали сварить гостю кофе. Ибрагим, ухмыляясь, вскипятил воду, снял с огня, вскипятил еще раз, чтобы кофе окончательно потерял вкус — только таким и потчевать доктора Митру. Ибрагим его терпеть не мог; доктор разговаривал с ним свысока. Многие из индийцев, выбившиеся «из грязи в князи», обращались со своими и чужими слугами точно с навязчивыми кули на вокзале.
Разница между доктором Митрой, который видел в Ибрагиме лишь прислужника, к тому же безликого и безымянного, и Слоником, который ругал его на чем свет стоит, была для Ибрагима весьма существенной: Слоник — истинный господин, сахиб, а доктор Митра — его жалкая тень. Точно так же он проводил грань безусловную и очевидную между Люси-мем и выскочкой миссис Булабой.
Как тосковал Ибрагим по временам раджей; слугу тогда привечали в господской семье как родного, считались с его настроениями: слуга мог и косо посмотреть, и слово резкое сказать, если не в духе. Ему прощалось, если он задирал нос (кто, в конце концов, истинный хозяин!), ему помогали устроиться на новом месте, когда прежние господа отправлялись восвояси, в Англию. В такой-то семье и служил прежде отец Ибрагима, там вырос и сам Ибрагим. По сей день хранил он рекомендательное письмо, выданное отцу полковником Моксон-Грифом, и фотографию, изображавшую мистера и миссис Моксон-Гриф с гирляндами на шее перед отъездом на родину в 1947 году. Сохранил Ибрагим и два письма, которые полковник прислал своему бывшему слуге уже из Англии. Не забыл Ибрагим и другое: письма отца, в которых тот спрашивал, не найдется ли в Англии работенка для сына (Ибрагиму шел уже двадцатый год), остались без ответа.
— Вот кофе, сахиб, — нарочно стукнув подносом о стол, сказал Ибрагим. Доктор Митра не удостоил его ответом, зато Слоник обласкал словцом:
— Какого черта так долго возился! Ладно, наливай свои помои!
Что Ибрагим с радостью и исполнил, сперва почтительно поклонившись доктору Митре и пробормотав в нос, на французский манер (чему он научился у одного из приятелей-слуг):
— Дерьмосье, сахиб!
Доктор Митра не понял, но кивнул. Ибрагим добавил ему в чашку козьего молока, которое нарочно недокипятил: пусть останется побольше микробов, туберкулезных палочек и дизентерийных бактерий.
Вернувшись на кухню, принялся греметь сковородками и кастрюлями. Да, такой, как Митра, и в Англию проберется, куда-нибудь в Лондон, в Финсбери-парк, и начнет людей калечить, вместо аппендикса желчный пузырь удалит. Доктора Митру выбрал себе сам полковник-сахиб. Ибрагим же не доверял ни одному врачу-индусу: откуда им знать, как лечить белых? Уж в крайнем случае можно к врачу-мусульманину обратиться, но уж к индусу — ни за что! А доктора-европейца поблизости нет, лишь в Нансере практикует один австриец, да и то католик, а католики еще похлеще индусов: они говорят, что надо страдать во искупление грехов и что самый страшный грех — ограничение рождаемости. А индусы так те каждому мужчине, согласившемуся на стерилизацию, даже транзистор бесплатно дают. Неспроста парни враз перестали появляться на улице с транзистором. Один только Панди, тот, что юристом «У Смита» служит, огромный транзистор таскает. Наверное, беднягу совсем оскопили.
* * *
Скоро вернулась и Люси-мем, Ибрагим испугался, как бы она не оставила доктора Митру отобедать с ними. Старики любили гостей. Но доктор Митра откланялся, и Люси-мем проводила его до ворот. Вернувшись, зашла к Ибрагиму на кухню и сказала:
— Не надо бы давать сахибу шкатулку с документами. Ему это вредно.
— Нет, мем-сахиб, полезно.
— А доктор Митра говорит — вредно. У сахиба повышается кровяное давление.
— Доктор Митра не понимает душу полковника-сахиба. Ведь сахиб не Дева, как госпожа.
— То есть как?
— Так — не Дева. Его знак — Овен. Значит, характер беспокойный, въедливый. Овен любит верховодить, создавать мнимые трудности, доказывать свою правоту, такая вот у него звезда.
— Это все астрономия, Ибрагим.
— Не астрономия, мем-сахиб, а астрология.
— Ну не все ли равно. Одним словом, шкатулку с документами сахибу не давать. Вечером я ее спрячу. А завтра, если он спросит, скажешь: знать не знаю, где она.
— Сахиб меня и так за дурака держит, а тут скажет — полный идиот! Нет уж, мем-сахиб. Шкатулка сахибу поправиться поможет. Получит он ее — у него сил прибавится, а без нее совсем зачахнет. И ему конец тогда, да и нам тоже.
— Не получит он шкатулки, — повторила Люси, и маленькое, немощное тело ее содрогнулось. Глаза у нее сделались ярко-голубыми, на белой с желтизной коже резче обозначились морщинки — точно трещинки на костяном фарфоре.
Утром глаза вновь были блекло-серые, под стать седым волосам — пора подсинивать. Без улыбки тоненьким-претоненьким голосом сказала она Ибрагиму:
— Ты, пожалуй, прав насчет шкатулки. Если попросит, дай. А я в аптеку за лекарствами.
Не прошло и десяти минут, как Слоник потребовал шкатулку и ключ. Этот приказ Ибрагим тотчас исполнил. Потом на радостях до блеска начистил выходные туфли Люси-мем на высоком каблуке и надел их на металлические колодки-штыри. Потом смазал жиром ее крепкие башмаки; последний раз она надевала их, когда ходила со Слоником в поход. Они одевались в шерстяные костюмы, брали толстые палки и собаку, доставшуюся им по наследству от соседской семьи Блакшо. Хозяева, служившие некогда в чайной компании, уйдя на пенсию, решили было остаться в Индии, но решимости их хватило ненадолго, и они уехали в Англию.
Помыв руки, Ибрагим положил меж кофт и жилетов в гардеробе свежие комочки нафталина. Внимательно осмотрев все шерстяные вещи (в том числе и белье), отложил то, что нуждалось в штопке: либо поорудует иглой Мина, либо сам проявит свое незаурядное мастерство. Добрался он и до шкатулки с драгоценностями, достал хозяйкин перстень и брошку с бриллиантами — Люси-мем носила их очень редко, лишь на вечер офицерских жен Панкотского стрелкового полка. Ибрагим налил в мензурку джина, бросил туда перстень и брошь — пусть очищаются.
Минут через десять вытащил, тщательно вытер и поместил обратно в бархатные футлярчики, а джин выпил. И враз солнце затмила укоризненная тень пророка Мухаммеда.
Мотовство до нужды доведет, вслух оправдал себя Ибрагим, и солнце засияло вновь, а по телу разлилось тепло. Он вышел на веранду и застыл на месте: сахиб сидел бледный как смерть. В трясущейся руке он зажал документ, губы беззвучно шевелились.
— Не желает ли чего сахиб? — начал было Ибрагим, но Слоник не обратил на него внимания. Так и держал в дрожащей руке документ и шевелил губами. Встревоженный Ибрагим спустился во двор, оттуда лучше видно и Слоника, и тропинку от калитки. Вот появилась и Люси-мем. Ибрагим бегом бросился к ней.
— Мем-сахиб, ваша правда, от шкатулки сахибу плохо.
— Вот как! — только и сказала она, застыв на месте. Разве настоящая госпожа начнет охать да ахать? — Что ж, на своих ошибках учимся. Очень плохо сахибу? — Ибрагим лишь пожал плечами. — Пойдем вместе, увидим. — И первой направилась к веранде.
Подойдя к Слонику, Ибрагим подумал, что сахиб мертв: тело обмякло, глаза закрыты, челюсть отвисла. Но вдруг Слоник приоткрыл один глаз.
— Дорогой мой, ты, никак, собирался баиньки, а я тебя разбудила.
— Не, мы не собирались баиньки. Твоему пай-мальчику пришли в головулечку разные мыслишечки и соображеньица.
— О чем, дорогой?
— Об убийстве!
— И кто же несчастная жертва?
Вместо ответа он протянул ей документ — точнее, письмо, написанное на одной страничке.
— Без очков мне не разобрать, — вздохнула Люси.
— Ага! Тогда все ясно! Потому-то и не поняла ни черта, когда в прошлый раз читала.
— В прошлый раз?
— Ну да. Читала да лепетала: «Вот и чудненько», «Ну и слава Богу» — или еще какую несусветицу.
— Раз я что-то говорила о письме, значит, читала. А раз читала, то непременно была в очках. Так что успокойся и напомни, о чем оно. — Едва мем-сахиб протянула руку, всю в шишках и узлах от артрита и взяла письмо, как Слоник вырвал его и стал читать.
— «Уважаемый полковник Смолли! — возопил он, видно вообразив, что жена так же плохо слышит, как и видит. — Мистер Булабой довел до моего сведения, что вы не согласны с повышением платы за жилье. Тем не менее мы считаем возможным оставить за вами аренду „Сторожки“ на следующий год (с 1.8.71 по 30.7.72) на прежних условиях, изложенных в пункте 2 договора, срок коего истекает. Просим подписать и вернуть копию настоящего письма, оно будет приложено к договору и, таким образом, избавит обе стороны от дальнейших формальностей, связанных с арендой на ближайший год. Подпись: миссис Булабой, влад.».
— Значит, все в порядке? — спросила Люси.
— В порядке? С чего ты взяла?
— Но ты же был тогда доволен. Прямо пузыри пускал.
— Пузыри пускал? Это еще что за идиотское выражение?
— Ты сам так всегда говоришь, когда сильно радуются.
— Не всегда! — Слоник по-прежнему орал что есть мочи. — Например, сейчас. Прочитала б это письмо повнимательнее. Кто ж знал, что ты ни шиша не разглядела! Откуда мне догадаться, что там написано, если ты прочитала и сказала, помнится: «Чудненько, Слоник».
Произведения