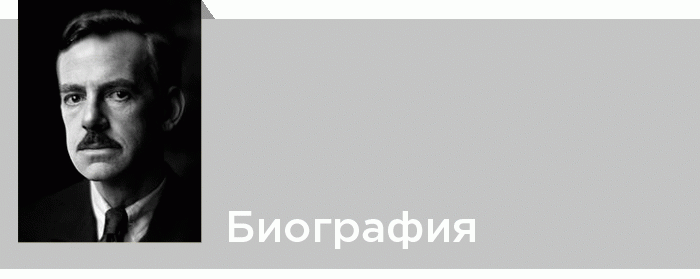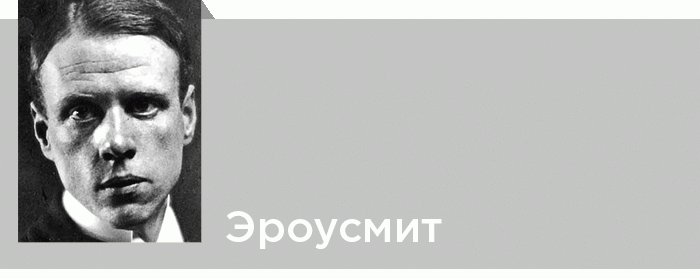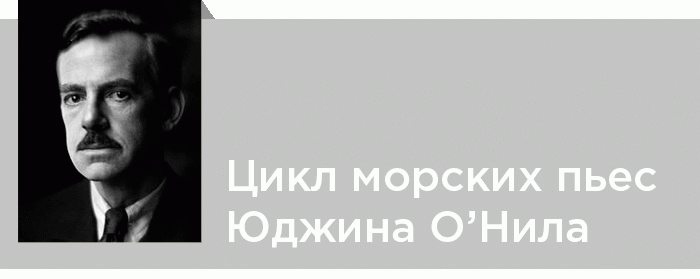Трагическая символика Юджина О’Нила

С.М. Пинаев
Творчество Ю. О’Нила отмечено своеобразным парадоксом: с одной стороны, его пьесы — общепризнанная вершина в развитии американского театра XX в., следы его влияния находят ныне у всех видных драматургов США, с другой стороны, «отец американской драмы» уже при жизни многим казался старомодным, не соответствующим духу времени — с его склонностью к глобальным философским умозаключениям, мрачным пафосом неприятия «материалистической» американской цивилизации, которую он назвал «величайшей в мире неудачей», тяжеловесностью стиля, отсутствием чувства юмора, способности подвергнуть ироническому осмеянию «абсурдность» современного мира. Трагизм мировосприятия, проявившийся в лучших произведениях американской литературы 20-30-х годов, в послевоенные годы все чаще уступал место сардоническому всеотрицанию, «черному юмору», сглаживанию социальных углов, тенденции судить о самых серьезных вещах легковесно, не затрагивая сферы чувств. «Мы так искусно замаскировали от самих себя интенсивность наших собственных чувств, ранимость наших сердец, что пьесы в трагедийной традиции стали казаться нам ложными», — говорил младший современник О’Нила Т. Уильямс.
Расцвет творчества О’Нила совпадает с высшими достижениями американской литературы 20-х годов, и этим многое сказано. Подлинную силу его драмам сообщает именно трагический ракурс, изображение жизни американского общества как «трагедии, самой потрясающей из всех написанных и ненаписанных» Не случайно немецкий критик Ю. Бэб уже в начале 30-х годов усматривал сходство о’ниловского «Императора Джонса» с «Макбетом», Р.Д. Скиннер возводил «Желание под вязами» к еврипидовской «Медее», а Б. Гэскойн — к расиновской «Федре»; Л. Триллинг в
Однако подлинного понимания противоречивой природы трагического как важнейшего компонента о’ниловского мировосприятия мы, как правило, не находим в работах западных исследователей. Чаще всего они впадают в крайности, полагая, что трагизм драм О’Нила — это не более чем выражение трагизма и неустроенности его внутреннего мира, оторванного от окружающей реальности (Ф. Карпентер), следствие разрыва с католицизмом и тщетных попыток устранить этот разрыв (Р.Д. Скиннер, Л. Триллинг), художественная трансформация ницшеанских (Д. Алексендер, Л. Чэброу) или фрейдистско-юнгианских (Д. Фальк, К. Боуэн) концепций. Для некоторых отечественных литературоведов, напротив, характерна чрезмерная «социологизация» художественного метода драматурга, некоторое выпрямление, упрощение его эстетических принципов.
В чем же источник «трагического видения» писателя? Известно, что О’Нил неоднократно заявлял о том значительном влиянии, которое оказали на его творчество древнегреческие драматурги. Свой долг художника он видел в восстановлении духа античной трагедии в современной жизни и воплощении его в творчестве. Америка, считал писатель, потеряла собственную душу, погрязла в «мелочной жадности повседневного существования». Возможность глубокого «духовного восприятия вещей» дает лишь античная трагедия, искусство, мечта, заставляющая «бороться, желать жить», но действительность США не оставляет человеку никаких перспектив. Отображая острые общественные коллизии (точнее, их психологические последствия), драматург не мог до конца понять суть описываемых им явлений, увидеть логику исторических процессов. Отсюда ощущение некоего Фатума, Судьбы (что во многом идет и от увлечения античной трагедией), влияющего на ход событий и жизнь людей — «Рока, Бога, нашего биологического прошлого — как ни назови, во всяком случае — Тайны». В таких пьесах, как «Жажда», «Фонтан», «Лазарь смеялся», «Дни без конца», акцентируется отношение человека к некоему независимому от него абстрактному, даже мистическому началу. «Я — убежденный мистик, — писал драматург в
С античной трагедией пьесы О’Нила сближает и удивительное сочетание фатализма и прославления неукротимости человеческого духа. Его персонажи сознают, что ввергнуты в непостижимую «паутину обстоятельств», но вместе с тем никто из них не смиряется. «Человек в борьбе с собственной судьбой», по мнению писателя, «навсегда останется единственной темой драмы». Причем в этой борьбе всегда «побеждает смелый индивидуум», поскольку «судьба никогда не может сломить его... духа». В этом столкновении, в словосочетании «безнадежная надежда» (hopeless hope), которое художник употреблял применительно к греческой трагедии, — один из ключей к пониманию драматургии О’Нила.
Трагическая коллизия в драмах писателя обусловлена столкновением человека с тем, что мешает его естественным жизнепроявлениям. В ранних одноактных миниатюрах враждебное человеку «состояние мира» еще лишено конкретных очертаний. Конфликт носит абстрактно-философский характер. Неблагосклонная к человеку судьба выступает здесь под видом «непостижимых жизненных сил» (inscrutable living forces). Герой О’Нила противостоит Универсуму, косной враждебной Природе. Но природа не всегда выступает у американского писателя в роли бога, изначально враждебного человеку, как, например, в «Жажде», «Китовом жире» или «Анне Кристи». В ряде случаев она выражает «скрытую силу» «Жизни», карающую того, кто нарушил ее основные неписаные законы, изменил своему предназначению («Там, где помечено крестом», «Золото»). В «Луне над Карибским морем», как и в других пьесах из цикла о матросах «Гленкэйрна», главным героем сам автор называл «дух моря». «Вечная истина моря» является здесь своеобразной точкой отсчета, помогающей установить факт «выпадения» человека из жизни, из природы, трагическую дисгармонию существования. В этой же связи поминается море в пьесах «За горизонтом», «Крылья даны всем божьим детям», «Электре подобает траур». О’ниловские символы — вязы, море, солнце — полноправные участники его драм, полномочные «карать» или «поддерживать» персонажей. В поздних своих пьесах писатель дешифрует понятие судьбы. «Трагедия развивается подобно классической греческой драме, — пишет о пьесе “Долгий дневной путь в ночь” С. Финкелстайн, — только вместо “рока” и “богов” выступает живой общественный строй, при котором деньги играют роль всемогущего существа».
В античной трагедии она подчеркивала расхождение между надеждами, намерениями персонажей и результатами их действий, причиной чему было вмешательство рока в жизнь людей. А что же в произведениях О’Нила?
Капитан Бартлет («Золото») рассчитывает найти сокровище и разбогатеть, но в результате способствует убийству, превращается в маньяка, утрачивает чувство реальности и отравляет сознание собственного сына. Кристина Мэннон («Электре подобает траур»), убивая мужа, надеется обрести счастье со своим любовником, но, узнав о его гибели от руки ее сына, кончает с собой. Кон Мелоди («Печать поэта»), намереваясь защитить свою честь, подвергается в доме Харфорда унизительному избиению.
Источником трагической вины о’ниловского героя является его дезориентация в мире, враждебном человеку, поэзии, красоте. Он обрекает себя на катастрофу, когда, идя наперекор самому себе, совершает ошибку, начинает жить по законам этого мира, исполнять чужую роль, изменяя своему природному предназначению или высшим законам нравственности. В «Волосатой обезьяне» это клетка, предметы из стали, в «Золоте» — карта, в «Печати поэта» — конь Мелоди. Внешним разрешением конфликта и является определенное воздействие на такого рода объект. Капитан Бартлет рвет карту, Янк выпускает из клетки гориллу, Мелоди убивает коня. Эти символические акты свидетельствуют о том, что человек вернулся к самому себе, но уже в новом качестве, перерожденный в страдании. Это особенно характерно для ранних пьес писателя, герои которых «возвращаются к себе» только в преддверии смерти.
В пьесе «К востоку, на Кардифф» воспроизведены последние минуты жизни простого матроса Янка, который во время шторма упал и получил смертельную травму. Драматург уже в декорациях стремится выразить диссонанс между жизнью сегодняшней, тяжелой и той, которая существует лишь в мечтах умирающего: он создает макет замкнутого пространства, внутри которого заключен страдающий одинокий человек, потерянный в чужом и враждебном мире. Чтобы зримо выразить физические и духовные страдания героя, создать ощущение своеобразного заточения в жизненной клетке, художник помещает Янка в самую узкую часть комнаты-треугольника, отделенную от места, где спят его товарищи. Он как бы ощущает больной спиной катастрофическую замкнутость жизненного пространства, его тупик. Закрытость помещения отчетливо контрастирует с необъятной распахнутостью звездного неба.
Трагическая ирония находит здесь выражение в емких драматургических символах. Матросу Дрисколлу игра на расстроенном аккордионе напоминает завывания бэнши, духа смерти в ирландской мифологии. Он требует прекратить игру, но в наступившей тишине еще слышней становится вой сирены, предупреждающий об опасности столкновения в тумане — ироническая констатация того, что дух смерти по-прежнему преследует героев О’Нила. Вся пьеса проникнута подобными ироническими сопряжениями. Дрисколл советует Янку не думать о смерти, но в это время раздаются удары судового колокола и слышится крик вахтенных: «Aaall’s welll» (все в порядке). Столкновение обнадеживающей реплики Дрисколла с отпевающим звуком колокола как бы находит продолжение в звуковой метафоре: «all’s well» — словосочетание, информирующее о благополучии. «Aaall’s welll» — звукосочетание, напоминающее заунывный сигнал колокола. Целостный семантико-фонетический образ способствует созданию трагического настроения пьесы.
В ранних произведениях О’Нила преследующее героев зло, как правило, еще лишено социальной конкретности. Их герои, подобно древним грекам, ощущают себя игрушкой в руках немилостивой судьбы. «Туман, туман, туман, хоть глаз выколи — один туман... и не знаешь, куда тебя несет... Один только старый бес знает. Море», — эти слова завершают пьесу «Анна Кристи». Человек ничего не может знать о своей судьбе, о собственном будущем. Об этом знают Море, Природа, Жизнь. Но уже тогда, в первых своих драматургических опытах, художнику удавалось иногда связать понятие судьбы с конкретными фактами истории. События пьесы «В зоне» происходят во время Первой мировой войны. В атмосфере всеобщей подозрительности и страха матросы хватают и связывают своего товарища, приняв за немецкую бомбу пачку любовных писем, хранящуюся у него под подушкой. Антивоенный пафос пьесы «Снайпер» сводится к выразительной драматургической детали: неизбывная красота природы воспринимается сквозь брешь, оставленную артиллерийским снарядом. Разрушение, смерть «очуждаются» вечной истиной природы, естества. Преступление, зло, война не могут убить надежду на возрождение.
Излюбленной темой американской литературы и искусства 20-х годов становится утрата человеком души, его отторжения от самого себя как результат собственнических отношений в обществе и как следствие «машинизации» общества. Многие писатели видели в науке и технике новую религию, подчиняющую и подавляющую человека, а в машине — «требовательный и неумолимый фетиш», поклонение которому приняло видимость подлинного богослужения». Немецкий драматург-экспрессионист Г. Кайзер соотнес науку с богом в своей пьесе «Газ», а виднейший американский писатель С. Льюис в
Уже в 1-й сцене герой, заблуждающийся относительно своего могущества, называет себя сталью: «Да, я сталь, сталь, сталь! Я — мускулы стали! Я — сила стали!» При этом он ударяет кулаком по стальным брусьям, так что его голос заглушается звучанием металла. Делая человеческий голос и металлический звук нерасторжимыми, О’Нил с самого начала подчеркивает, что главенствующий компонент этого единства — сталь, а не человек. Заглушаемый грохотом металла, голос Янка уподобляется мычанию животного, а сам персонаж соотносится со зверем в клетке (вновь образ клетки, тема трагического порабощения человека жизнью). Эта ассоциация станет отчетливее впоследствии, когда Янк будет трясти решетку в тюремной камере.
Конфликт между человеком, ощущающим себя главным звеном «механизированного» общества, а потому сравнивающим себя со сталью, и самим этим обществом, символом которого является сталь, принимает отчетливые очертания в 3-й сцене. В обобщающей звуковой картине слышится скрежет «стали о сталь», предваряющий столкновение Янка и Милдред. Оскорбленный дочерью «стального короля», Янк швыряет ей вслед лопату, которая «с лязгом ударяется о стальную переборку» и с грохотом падает на пол. Это последнее в пьесе столкновение стали со сталью. Считавший себя центром вселенной, Янк после встречи с Милдред низвергается с воображаемого пьедестала. Но и героиня — не повелительница и не олицетворение могущества стали, а, по ее словам, «отброс от закалки и получающихся от этого миллионов». О’Нил делает вывод: «механический бог» современности поработил Янка, подчинил и физически выхолостил Милдред — представителей низшего и высшего сословий общества. Герои пьесы оказываются не столько антиподами, сколько жертвами общества. Не столкновение представителей разных общественных сословий создает трагическую коллизию, а противопоставление в сознании Янка «древности», когда человек был «на месте», и «современности», когда он ощущает себя в клетке. «Принадлежать» современным бездуховным «джунглям» может только горилла, а человек лишь в далеком прошлом мог ощущать гармонию с жизнью.
В пьесе «Крылья даны всем божьим детям» кажущиеся антиподы ведут борьбу не столько друг с другом, сколько с общим врагом: глубокими общественными пережитками, сконцентрированными в их сознании. Негр Джим Хэррис и белая девушка Элла Дауни оказываются париями в современном обществе: соблазненная и покинутая боксером Микки, Элла становится женщиной легкого поведения; Джим мечтает стать адвокатом, чтобы приносить пользу своему народу, но не заинтересованная в этом белая Америка чинит ему препятствия.
Как и в «Желании под вязами», О’Нил с удивительной психологической достоверностью показывает, как истинные человеческие чувства борются с извращенным представлением о мире, с традиционной системой ценностей. Внутреннее столкновение подлинно человеческого со стереотипом общественного мировосприятия вызывает у героини душевную болезнь, приводит к раздвоению личности. Элла понимает, что ее муж — самый «белый» из всех, кого она знает; но в то же время не может допустить, чтобы он стал адвокатом, его «возвышения» — ведь тогда он, негр, «возвысится» и над ней, «падшей», потерпевшей в жизни фиаско. Важная драматургическая деталь — конголезская маска, которая висит в доме Хэррисов. Для Джима и его сестры Хетти это произведение искусства, выражение народного самосознания, а для Эллы — напоминание о том кажущемся ей унижении, на которое обрекло ее общество. Пронзая маску ножом, она убивает «дьявола», свое больное сознание и возвращается в исконное, «невинное» состояние.
Если в «Волосатой обезьяне» образ клетки-тюрьмы возникает в самом начале и в дальнейшем только меняет формы, то в этой пьесе все движение предметно-сценической обстановки постепенно формирует образ. Стены в доме, где живут Джим и Элла, оседают, потолок нависает, в то время как мебель кажется все более громоздкой для комнаты, которая постепенно превращается в тюремную клетку. Общество окончательно уничтожило человека: Джим теряет надежду стать адвокатом, а Элла в своем безумии доходит до крайности — покушается на жизнь мужа.
Немалую роль в разрешении конфликта играют здесь световые эффекты. В 1-й картине сумерки опускаются как раз в то время, когда негр Джим и белая девочка Элла признаются друг другу в любви. Дети так же равны в своих чувствах, их отношения столь же гармоничны, как день и ночь (белое и черное), слившиеся в сумеречном свете. В дальнейшем события преимущественно развертываются при «бледном» и «безжалостном» свете уличного фонаря. И только в последней сцене, когда Элла через безумие как бы вновь возвращается в детство и герои вторично обретают утраченную гармонию, белый и черный — цвета дня и ночи — снова сливаются в сумеречном свете. Ужасна та эпоха, как бы говорит драматург, в которой люди могут соединиться и успокоиться лишь сойдя с ума.
В «Желании под вязами» трагическая коллизия проявляет себя наиболее интенсивно, ибо здесь природа человеческих отношений подавляется собственническими инстинктами, сложными психологическими комплексами, а также пуританской моралью, отрицающей жизнь в ее органических проявлениях. Противоестественные с точки зрения высшей нравственности желания (обладать, иметь) коверкают и извращают естественные чувства: любовь сосуществует с ненавистью, предательство — с высокой жертвенностью. В этом мире извращенных ценностей даже убийство ребенка служит подтверждением любви и верности. Мы наблюдаем как бы два взаимодействующих процесса: борьбу персонажей за обладание фермой и зарождение чувства любви молодых людей, зреющей подспудно и, наконец, прорывающейся бурным всплеском. Почвой для трагического является в данном случае состояние объективной действительности, при котором «всякое прекрасное явление в жизни должно сделаться жертвой своего достоинства». Сказанное относится и к пьесе «Крылья даны всем божьим детям».
Столкновение двух противоборствующих в пьесе стихий приобретает символические формы выражения. Желая остаться единственным претендентом на ферму, Эбин «откупается» от братьев. Получив деньги и почувствовав, наконец, свободу, Симеон и Питер «затевают вокруг Кэбота дикий танец индейцев...» В последнем действии уже сам Кэбот, устроив пир по случаю рождения «своего» ребенка, выкидывает «невероятные коленца» «в каком-то диком индейском танце». Наказанный Эбином, Кэбот, танцуя, напоминает, с одной стороны, людей, побежденных им (индейцев, убитых им в юности), а с другой — сыновей, притесняемых им долгое время. Убийство Кэботом индейцев можно рассматривать в свете основной темы как одну из попыток подавления им языческого, жизнеутверждающего начала. Но это начало присутствует и в нем самом: когда он уверен, что его плоть способствовала новому рождению, старый фермер раскрепощается, его жизненные токи, так долго сдерживаемые, высвобождаются, и он, опьяненный радостью, кружится в неистовом танце, совсем как его сыновья, получившие возможность уйти на золотые прииски Калифорнии. В декорациях к пьесе симптоматично сочетание мрачного дома и зеленых вязов, каменной стены и деревянных ворот. Стена — алтарь, воздвигнутый Кэботом для поклонения богу, который, по его словам, «в камнях», воплощение силы и бессердечия. Около деревянных ворот (дерево — жизнь) останавливаются полюбоваться красками неба (небо — антитеза фермы) Эбин, его братья. Этим словно подготавливается последний трагико-поэтический эпизод пьесы, когда Эбин и Абби, окончательно обретшие друг друга в любви, отрешенные от всего земного и корыстного, останавливаются у ворот, «благоговейно и восхищенно смотрят на небо».
Эбин Кэбот подобно тому, как это было в трагедии эпохи Возрождения и классицизма, становится жертвой заблуждения, «запоздалого узнавания». Его поведение обусловлено не столько внутренней коллизией между любовью и непреоборимым духом стяжательства, а (как, например, в трагедии Шекспира) разочарованием в только что обретенном и, как ему кажется, утраченном человеческом идеале. Здесь не просто разочарование алчного претендента, которого ловко обошел более удачливый конкурент, а трагедия другого, высшего порядка. Молодых персонажей уводят на смерть, но настроение финала нельзя назвать безысходным. Эбин перерождается, вновь обретает веру в любовь как цельное и единственно существующее, по-настоящему находит Абби, находит себя. В этом — очистительный эффект трагедии. Но пьеса еще не кончается. О’Нил вводит в действие шерифа, который произносит одну-единственную реплику: «Прекрасная ферма... Не отказался бы от нее». Того и гляди начнется новый трагический цикл, в котором человечность вновь будет принесена в жертву.
Мечтая о возрождении трагедии в современных условиях, пытаясь вернуть театр к «своему высшему... назначению — служить храмом, в котором религия поэтической интерпретации и символического прославления жизни передавалась бы всем присутствующим», О’Нил обращается к работе Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». Его привлекает концепция взаимодействия «дионисийского» и «аполлонического» начал, культ Диониса как умирающего и возрождающегося божества. Наиболее отчетливо эта концепция, преломленная сквозь призму оригинального о’ниловского мироощущения, проявилась в пьесах «Великий Бог Браун» и «Лазарь смеялся». Главному герою первой из них дано символическое имя — Дайон Энтони, и этим подчеркивается, что в его душе столкнулись две силы: «созидательное языческое восприятие жизни» (дионисийское начало) и «мазохистский, отвергающий жизнь дух христианства, олицетворенный святым Антонием». Но, по мысли автора, ни одна из этих сил не может взять верх, поскольку в современном обществе человек утратил и радостное, гармоническое ощущение жизни, и христианскую веру в бога. На смену им пришел «невидимый полубог нашего нового материалистического мифа» — успех, выразителем которого в пьесе предстает Билли Браун. Настоящий художник выглядит в этом обществе аномалией и может существовать в нем лишь проституируя своим искусством. Отсюда его мучительный разлад с самим собой и ощущение трагической неустроенности жизни. Однако О’Нил прибегает здесь к своего рода дублированию. Подлинный трагизм — следствие несовместимости творческой личности с буржуазным обществом — писатель дополняет мнимым трагизмом, вытекающим из природы художественной натуры как таковой. Маска Пана, которую Дайон надевает на себя еще ребенком, не только служит средством защиты от общества «для сверхчувствительного художника-поэта», но и, по мысли автора, является «неотъемлемой частью его артистической натуры». Именно внутренняя раздвоенность Дайона, противоречие между лицом и маской делает его художником, истинно «живым», в то время как внутреннее равновесие Брауна означает духовную неполноценность, творческую бесплодность «типичного американца».
Философия этой пьесы выходит за пределы «игры масок» и сводится к двум основным идеям. «Великий Бог Браун», подобно «Волосатой обезьяне», является «комедией древности и современности», в которой современность ощущается как регресс, тупик на пути человечества, что подчеркивается образами сгущающейся тьмы. Темноту и холод — вот что в первую очередь ощущает современный человек. Но основной пафос драмы не сводится к этой пессимистической концепции. Безысходный мрак современности — лишь ступень в вечном обновлении жизни, природы, мира. Ницшеанскую идею вечного повторения, циклического возрождения жизни писатель вкладывает в уста Сайбель, которая в философско-аллегорическом плане воспринимается как Кибела, «языческая Земная Матерь». Эта же идея вечного повторения выражена и в композиции произведения, когда эпилог практически повторяет пролог по времени, месту действия и ключевым моментам содержания.
Стремление О’Нила возродить дух трагедии было взаимосвязано с его интересом к мифу как особому вневременному ракурсу восприятия действительности. Показательна в этом плане трилогия «Электре подобает траур», перекликающаяся с эсхиловской «Орестеей». Драматург, который постоянно задумывался над тем, что является ныне эквивалентом античному року, находит его в генах, в биологических, родовых связях. Источник драматургического конфликта вновь заключен в столкновении стихии любви, стремления к жизни с миром пуританской нетерпимости к чувству, в котором смерть и убийства являются нормой.
Действие в «Электре...» происходит в период окончания Гражданской войны в США (аналогия с Троянской войной в античном варианте), однако персонажи О’Нила как бы выхвачены из истории. В сюжете об Атридах американского художника привлекает идея наследственного проклятия. Трагический клубок отношений начинает разматываться с того момента, когда предок действующих лиц Эйб Мэннон впервые совершил преступление против любви и воздвиг свой «храм ненависти». С тех пор каждый из его потомков пытается так или иначе освободиться от тяготеющего над ним проклятия, но не может этого сделать — судьба («internal psychological fate») воздействует на человека изнутри. Если древнегреческий автор не расставался с надеждой, что изначально справедливый порядок вещей будет восстановлен, а поступки людей согласованы с мудрой волей богов, то американский драматург не видит для современного человека возможности достижения гармонии с жизнью.
В этом произведении трагический конфликт проявляет себя на всех уровнях драматургической поэтики. «Мрачная серость камня» противопоставляется в ремарках «яркой зелени» лужайки и кустарника, ассоциирующейся с зеленым платьем Кристины, чем подчеркивается ее слияние с духом природы. Ствол сосны, «напоминающий черную колонну», соотносится с черным платьем ее дочери Лавинии. Вечнозеленая сосна, контрастирующая со всеми окружающими растениями, проходящими обычные жизненные фазы, ее траурно-черный ствол выражают мэнноновскую изолированность и вырождение. Белый греческий портик диссонирует с тусклой серой стеной дома. В этом сочетании заключен иронический подтекст. История Мэннонов воспринимается как подавление «греческого», языческого начала в их взаимоотношениях. Несуразное сочетание греческого портика с общей архитектурой дома воспринимается как насмешка над тщетными попытками Кристины, а позднее Лавинии преодолеть тяготеющее над ними проклятие и отстоять свои права на любовь. Действие пьесы только в одном эпизоде протекает вне дома Мэннонов. Особняк, как и ферма Кэботов, ассоциируется с неотвратимой судьбой. В его стенах находят смерть все основные персонажи трилогии. Характерно, что и действие последних произведений О’Нила также развивается в пределах одной предметно-сценической обстановки (салун Гарри Хоупа, таверна Мелоди, гостиная Тайронов, ферма Фила Хогена), что способствует нагнетанию внутреннего драматизма, косвенно усугубляет трагическую безвыходность положения действующих лиц, невозможность для них покинуть «темницу собственной души».
Если трагическая вина ранних протагонистов О’Нила заключалась в их отступлении от своей природы, предназначения, среды, естественных человеческих взаимоотношений, и во искупление вины они нередко приносили в жертву собственную жизнь, то теперь писатель смещает акценты. Трагическое — в самопостижении, в соприкосновении больного, отягощенного ощущением собственной вины сознания с реальной действительностью, которая, по словам Эдмунда Тайрона, «все три Горгоны вместе. Взглянешь им в лицо и окаменеешь». Но и в смерти как средстве искупления вины и достижения высшей гармонии за пределами жизни драматург отказывает своим поздним персонажам. Обязательный для О’Нила внутренний, психологический конфликт сводится к столкновению иллюзорного восприятия действительности с катастрофической реальностью. Причем драматург уже, как правило, не прибегает к его внешнему разрешению — трагически значимому поступку персонажа.
Воздействуя своим «лекарством» на обитателей салуна («Разносчик льда грядет»), Хикки только усугубляет трагическую ситуацию. Каждый из героев этой пьесы (за исключением Дона Пэррита) совершает поступок, который не ведет к каким-либо переменам. В драме «Долгий дневной путь в ночь» писатель окончательно отказывает своим персонажам в поступке, внешнем действии как форме трагической антитезы, отчаянного вызова судьбе. Все уже произошло, и этот последний день — вершина сходящихся линий, момент обнажения трагических, уже достигнутых итогов. Действие пьесы развивается как ряд параллельных внутренних коллизий, основываясь на противоборстве в душах людей чувства вины и самооправдания, обиды и любви, презрения и жалости, прошлого и настоящего.
В этом произведении, как и в ранней пьесе «К востоку, на Кардифф», О’Нил вводит сирену, оповещающую о появлении тумана. Но в «Долгом дне» художник прибегает к более общей и безысходной аллегории. Если в первом случае действие происходит на корабле, плывущем сквозь ненастную ночь, то теперь границы «особой» ситуации стираются. В «Кардиффе» сирена, напоминающая завывания бэнши, ассоциируется с умирающим человеком; в поздней пьесе, где персонажи еще сравнительно далеки от смерти, она выступает как более прозорливый и мрачный ясновидец — деталь, весьма красноречиво характеризующая мироощущение писателя в последние годы жизни. О’Нил использует также прием повторения или параллелизма, с помощью которого выявляется обобщающий, философский смысл произведения. Персонажи «Долгого дня» говорят как будто о посторонних событиях и людях, но мы не можем не чувствовать постоянных ассоциаций между судьбами упоминаемых в разговоре поэтов, родственников, знакомых и положением членов семьи Тайронов. Это создает своеобразный фон пьесы, раздвигает границы обобщения, позволяет увидеть в семейной драме Тайронов трагедию гораздо большего масштаба. В параллелизме символов, ситуаций, поступков героев отражено фаталистическое восприятие жизни, свойственное драматургу. Слова Мэри Тайрон о том, что «прошлое это и есть настоящее. Оно же и будущее», находят воплощение не только в содержании, но и в форме пьес О’Нила. Этот аспект был особенно важен для писателя, стремящегося выразить «греческое чувство судьбы в современном понимании».
Трагическое у О’Нила не сводится к пессимистическим итогам, к безысходному. В большинстве его пьес герои, проигрывая в реальных жизненных коллизиях, не достигая того, к чему они стремились с самого начала, находят то, что не входило в их намерения, но что, в сущности, оказывается значительнее их первоначальных желаний и целей. Брутус Джонс теряет власть над себе подобными, но причащается судьбе своего народа, своим исконным корням. Джим и Элла, утратив, казалось бы, последние жизненные позиции, приходят «у самых врат царства небесного» к духовной гармонии. Эбин и Абби, забыв о своих притязаниях на ферму, на исходе жизни по-настоящему обретают друг друга. Даже в «Разносчике льда», самой мрачной пьесе О’Нила, критик Э. Паркс справедливо усматривает «отрицательное утверждение», имея в виду поэтическую возвышенность (хотя и не без доли иронии) образа Ларри Слэйда, а также глубокое сострадание автора к своим героям. В одной из монографий О’Нил назван «одаренным поэтом», чья поэзия выражается не в словах, а в общем восприятии жизни, в том «созидающем духе», который знаменует все виды подлинного искусства.
Л-ра: Филологические науки. – 1989. – № 6. – С. 30-38.
Произведения
Критика