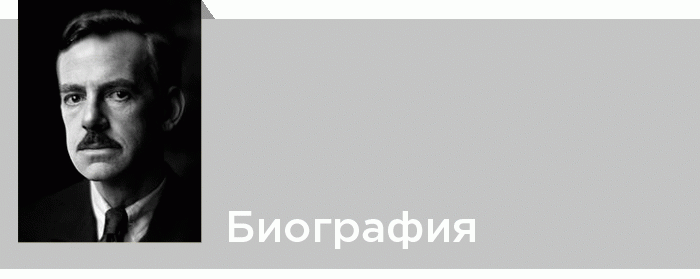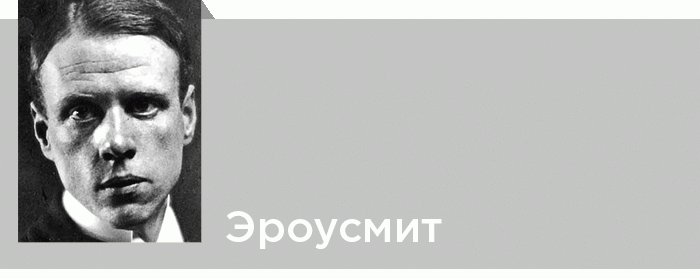Цикл «морских» пьес Юджина О’Нила
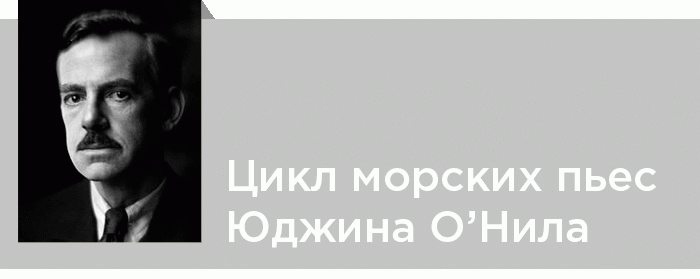
Ю.И. Сохряков
Среди одноактных пьес, написанных выдающимся американским драматургом Юджином О’Нилом в 10-х годах нашего века, выделяется цикл так называемых «морских» пьес. В основу их легли впечатления, полученные драматургом за годы скитаний простым матросом на английских и американских судах. Зарубежные исследователи, высоко оценивая цикл «морских» пьес, отмечали необыкновенно быстрый рост художественного мастерства молодого драматурга. Так, американский критик Д.Г. Лоусон писал: «...развитие любого искусства означает расширение его интеллектуального диапазона, увеличение эмоциональной проникновенности, поэтической яркости, разнообразия технических средств изящества в построении. Единственные современные американские пьесы, которые в какой-то мере обладают перечисленными качествами, — это ранние пьесы Юджина О’Нила...»
Цикл «морских» пьес состоит из четырех одноактных миниатюр. В одном из своих интервью О’Нил говорил: «Мой цикл, который ставит «Провинстаун» (одно из объединений любителей-актеров), состоит из отдельных законченных вещей, и все-таки в них фигурирует команда одного и того же корабля, как бы сплавляя четыре одноактные пьесы в одну большую драму. Я не претендую на оригинальность, ведь то же самое сделал Шницлер в своем «Анатоле». И бесспорно, не только он».
Почти все действующие лица в цикле «морских» пьес подсказаны автору реальными людьми, которых он успел встретить за долгие месяцы нелегких морских странствий. «Это моя территория, — с гордостью говорил драматург о море. — Я жил там, и я знаю, что это такое. Я был там, и я один могу показать, на что это похоже».
Пьеса «Восточнее Кардифа» (в русском переводе «На пути в Кардиф»), которой открывается цикл, была первой поставленной на сцене драмой О’Нила. Именно в ней автор впервые нашел себя, свою неповторимую творческую манеру. Удивление по поводу быстрого роста художественного мастерства драматурга объясняется тем, что пьеса написана в
Как указывает американский театровед Ал. Доунер, первое представление пьесы «Восточнее Кардифа» было знаменательным явлением в истории театра США. «После того как опустился занавес, наиболее восприимчивая часть публики поздравила себя: в Юджине О’Ниле Америка, наконец, обрела драматурга, способного встать рядом с самыми знаменитыми европейскими».
В драме, действие которой развертывается на палубе торгового судна «Кленкерн», идущего из Нью-Йорка в Кардиф, в строго традиционном смысле слова нет драматического действия. На сцене — умирающий матрос Янк, который, оступившись в тумане, упал в трюм. На протяжении всей пьесы он лежит в матросском кубрике и изредка, когда сознание возвращается к нему, разговаривает со своим другом матросом Дрисколлом. Здесь же, в кубрике, смеются, поют, спят, курят остальные члены судовой команды, матросы самых различных национальностей. В финале пьесы Янк умирает. Но творческая смелость драматурга, замечает Ал. Доунер, в том, что «он не сомневается, что неизвестный матрос, которого мы никогда раньше не видели, заслуживает нашего внимания и нашей симпатии».
Стремление к правдивому изображению действительности, отсутствие каких бы то ни было элементов пресловутой морской романтики — отличительные особенности этого произведения. Подчеркнутая установка на реалистическое изображение жизни и будней простых матросов противоречила всем канонам, более того, бросала вызов традиционному развлекательному американскому театру конца XIX — начала XX в. Даже в самой первой ремарке, которой открывается пьеса, чувствуется стремление автора к суровой правде во всей ее неприглядной наготе. «Неправильной формы помещение, стены которого почти сходятся в глубине, образуя треугольник. По стенам, в три яруса, на расстоянии трех футов одна от другой расположены койки длиной около шести футов. Справа под потолком видны три или четыре иллюминатора. Перед койками расставлены простые деревянные скамьи... Рядом на полу ведро с жестяным ковшом. Несколько клеёнчатых плащей висят на крюке у двери... Под койками нагромождены в беспорядке сундучки, ящики, морские сапоги и т. п. На скамьях сидят, разговаривают пятеро матросов. На них грязные, заплатанные штаны из грубой ткани и фланелевые рубахи. Все они в одних носках без башмаков. Четверо курят трубки, и воздух в кубрике наполнен едким табачным дымом».
Пьеса начинается с хвастливого рассказа о любовных похождениях в Новой Гвинее моряка Кокки, «приземистого, похожего на высохшего сморчка», как сказано в авторской ремарке. Среди остальных моряков Кокки играет роль шута, над которым все потешаются, но без которого не обходится ни одна корабельная команда. Сочиняя свои небылицы, Кокки словно освобождается от комплекса неполноценности и в фантазиях обретает то, чем обделила его жизнь. «Так и повисла на шее, — захлебывается он. — Лопни мои глаза, если вру! Вот харя черномазая! Вся с ног до головы в кокосовом масле. Ах, чтоб тебе, меня чуть не стошнило! Кляча ты старая, говорю ей, и как хвачу по уху, — тут она и вовсе обалдела...».
С уверенностью можно сказать, что подобным образом не начиналась ни одна пьеса в истории американской драмы. Нужна была творческая смелость молодого драматурга, чтобы отважиться вывести на сцену таких героев с их откровенным и грубым матросским жаргоном.
Мотив потерянности, заброшенности человека во враждебном ему мире — один из основных в пьесе «Восточнее Кардифа». Моряк Янк и его друг Дрисколл — два простых, многое повидавших в жизни парня — это в сущности два несчастных человека, у которых в жизни не было не только счастья, но даже собственного дома.
С печальной обреченностью говорит Янк о матросской жизни, в которой он не видел ничего, кроме адской работы, мизерного жалованья и диких пьянок, кончавшихся поножовщиной. «В нашей матросской жизни о чем жалеть? Сегодня один корабль, завтра другой, тяжелый труд, грошевая оплата и тухлый харч; приходишь, наконец, в порт, — пьянка, драка, а там, смотришь, денежки все пролетели, и опять на корабль. Никогда порядочного человека не встретишь; шагу не ступишь дальше портового квартала; колесишь по всему свету, а света не видишь. И никому нет дела до тебя, жив ты или умер».
И Дрисколл, забыв о том, что он обязан утешать умирающего друга, соглашается: «Жизнь на море — собачья жизнь».
Мотивами социального критицизма проникнута в пьесе каждая реплика, каждая конкретная психологическая деталь. И в том, что матросская жизнь хуже собачьей доли, мы убеждаемся на каждой странице. Не столько недовольство слышится в словах матроса Дэвиса, который, словно подводя итоги возмущения судовой команды своим положением на корабле, заявляет: «Побольше работы, поменьше жратвы, — а хозяева разъезжают на собственных машинах». В этих словах слышится ничем не прикрытый мотив классовой ненависти, чувствуются увлечения молодого О’Нила социалистическими идеалами.
И хотя смертельное увечье Янк получает совершенно случайно, он, как и его друг Дрисколл, предстают перед нами типичнейшими жертвами социальной жестокости и несправедливости. Безнадежность как лейтмотив драмы проистекает именно от сознания несбыточности всех их надежд в той социальной действительности, в которой они живут.
Подобно своему великому предшественнику Чехову, О’Нил совершенно не интересуется фабулой, лихо закрученным сюжетом, эффектными сценическими коллизиями, т. е. теми атрибутами, которые были присущи традиционной, «хорошо сделанной пьесе». Его интересует совсем другое, а именно создание определенной атмосферы лирической взволнованности и особой одухотворенности. «В ранних реалистических пьесах О’Нейла, — пишет американский театровед Дж. Гасснер, — посвященных темам моря, наиболее привлекательная черта — царящая в них атмосфера грусти. Из писателей нашего времени символическая эмоциональность характерна для творчества Т. Уильямса».
Эту характерную особенность творческой манеры О'Нила, проявляющуюся уже в первой самостоятельной пьесе, подметила и Чармиан фон Виганд: «Примитивные звуки и краски джунглей в «Императоре Джонсе», зловещий чувственно-пуританский конфликт в «Любви под вязами», болезненная атмосфера разложения в пьесе «Траур идет Электре», — здесь его пьесы нередко поднимаются до лирической поэзии».
В драме «Восточнее Кардифа» поражает какая-то необыкновенная скомпанованность, цельность, как будто пьеса вылилась у драматурга на едином дыхании, без каких бы то ни было исправлений и переделок, что, как известно, служит признаком подлинного вдохновения. Каждый образ, каждая конкретная деталь подчинены одной цели — созданию определенной психологической атмосферы.
Этому же служит и звуковое оформление: мерно отбивающий время судовой колокол, протяжные и периодические крики вахтенного «Все спокойно», звуки разбитой гармоники, на которой играет норвежский матрос Пауль, отчетливый и назойливый вой сирены и т. д.
Особо необходимо отметить зловещий и мрачный образ тумана, который впоследствии будет неоднократно появляться в драмах О’Нила, даже в тех, содержание которых далеко от морской тематики (например, в драме «Долгий дневной путь в ночь»). В пьесе «Восточнее Кардифа» туман воплощает стихию, враждебную людям. Именно в тумане споткнулся при исполнении своих обязанностей Янк, именно туман заставляет корабль «Кленкерн» носиться по морю и мешает добраться до пункта назначения Кардифа, где Янку могла быть оказана медицинская помощь. Туман, по словам Дрисколла, — причина самого ужасного бедствия, какое может случиться с моряком: «Вот в такую ночь пошел ко дну старый «Дувр». В это самое время сидели мы тоже в кубрике, Янк и я, и еще другие ребята, как вдруг послышался страшный треск, и корабль дал такой сильный крен, что мы свалились в кучу на одну сторону. Что было потом, я даже не помню в точности».
Однако в драме образ тумана еще не приобретает того символического значения, как в последующих пьесах: здесь туман — стихийное явление, враждебное намерениям людей и выполняющее роль одной из конкретных деталей, которые создают определенное психологическое настроение.
Многочисленные исследователи творчества О'Нила единодушно считают драму «Восточнее Кардифа» лучшей не только в цикле «морских» пьес, но из всех ранних одноактных пьес этого периода. Сам драматург впоследствии так отзывался об этой первой самостоятельной работе: «Очень важная с моей точки зрения... В ней можно увидеть или почувствовать в зародыше дух, жизненное отношение и т. п. всех моих позднейших главных работ».
Клейтон Гамильтон, американский драматург и критик, прочитав первые одноактные мелодрамы О’Нила и среди них пьесу «Восточнее Кардифа», сказал ему: «Пишите о том, что вы знаете, о море и о людях, с которыми вы плавали прежде. Это уже сделано в романе, это сделано в новелле, но этого не было еще в драме. Не спускайте глаз с жизни, с той самой жизни, которую вы знаете, и к черту все остальное».
Начинающий драматург, вдохновленный дружеской поддержкой, продолжал писать о том, что ему было так хорошо знакомо — о море и моряках. Вторую пьесу этого цикла под названием «Карибская луна» исследователи считают наравне с драмой «Восточнее Кардифа» значительным художественным достижением О’Нила раннего периода его творчества. Как и в первой пьесе цикла, здесь нет того драматического конфликта, который вызывается столкновением и борьбой противостоящих друг другу сил. Отсутствие традиционного динамического действия позволяет драматургу сосредоточить внимание на анализе переживаний героев, на создании особой поэтической атмосферы.
События в пьесе происходят на палубе того же самого корабля «Кленкерн», стоящего на якоре у одного из островов Западной Индии.
Уже в самой первой ремарке О’Нил создает поэтическую атмосферу теплой тропической ночи, когда полная луна заливает мерцающим светом море, неподвижный корабль, коралловый берег и кокосовые пальмы, верхушки которых четко выделяются на горизонте. Далекое и печальное негритянское пение исходит откуда-то с берега и тихо, приглушенно стелется над водой. Этим грустным пением наслаждается лишь один матрос, светлоусый англичанин Смит, который сидит па краю палубы, глядя в воду и подперев подбородок руками. В первой реплике, открывающей пьесу, Смит пытается поделиться с матросами своими чувствами и впечатлением от музыки, но в ответ слышит скабрезную и затасканную остроту от штатного балагура и весельчака Кокки.
Унылая атмосфера томительного ожидания прерывается явившимися на корабль негритянскими женщинами, долгожданной попойкой, плясками и внезапно разгоревшейся жестокой дракой, в результате которой от удара ножом гибнет человек. Замечательно, что именно в этот момент ритмическая структура пьесы резко меняется. Темп реплик становится живым, динамичным, а в конце приобретает какую-то неестественную лихорадочность и пьяную бесшабашность.
После выдворения женщин поднявшимся на шум офицером на палубе снова воцаряется прежняя унылая атмосфера, и реплики вновь приобретают вялую текучесть. Опять звучит с берега далекое и печальное пение, сопровождаемое странной и едва слышной музыкой. Именно на этом фоне продолжает разыгрываться духовная драма Смита, который не потерял способности воспринимать красоту окружающей природы, любоваться лунным светом, мечтать об иной, более светлой жизни. «Музыка заставляет тебя думать о вещах, которые надо забыть», — говорит он и добавляет, что дело даже не столько в музыке, сколько в собственной памяти, которая не дает покоя.
Чувствуя себя потерянным и заброшенным, Смит печально говорит собеседнику, старому Донкману: «Мы жалкие, бедные овцы, потерявшие свой путь... Проклятые отныне и во веки веков. Боже, будь милостив к нам. Не так ли, Донк?». И он, следуя совету Донкмана, удаляется на полубак, чтобы не слышать пения, которое доносится с берега, и не видеть лунного света, который по-прежнему заливает все вокруг.
Противоречие между красотой окружающего мира, романтическим стремлением человека к лучшей жизни и вульгарной, жестокой действительностью — вот смысловая сущность драмы «Карибская луна».
Мотив потерянности и неприкаянности человека в мире пронизывает всю пьесу. Однако мотив этот не является следствием экзистенциалистского или христианского понимания положения человека в мире. Несмотря на то что главного героя мучают довольно неясная тоска и меланхолия и сам он четко не представляет себе, чего ему хочется, тем не менее можно ясно увидеть, что его тонкая, легко ранимая: натура не может смириться с грубостью матросов, вульгарностью продажных женщин, с той черствостью и равнодушием, которые охватывают человека в суровых, полных лишений условиях.
Этот мотив потерянности и отчужденности человека в современном мире будет сопровождать в дальнейшем все творчество О’Нила, претерпевая в различных драмах своеобразные модификации.
Как и в первой пьесе «морского» цикла, художественная структура «Карибской луны» отличается емкостью и компактностью. Крайняя скупость и удивительная экономность средств выражения станут с этих пор самой характерной чертой художественного мастерства О’Нила. Читателя здесь поражает прежде всего органическая обоснованность деталей, их функциональная подчиненность общей цели. Любая, на первый взгляд казалось бы незначительная деталь, любая реплика, не говоря уже о ремарках, служит общей цели — созданию поэтической атмосферы тропической ночи и резко контрастирующей на этом фоне грубой и жестокой человеческой реальности.
Подчеркивая реалистическую достоверность пьесы, Баррет Кларк писал: «В этой драме чувствуется влияние атмосферы на людей: на палубе корабля, зашедшего в тропический порт, моряки, туземные девушки, пьянство, пляски, пение. Над всем этим светит желтая луна. В драке зарезан человек. И это все. Но в продолжение получаса вы находились в тропиках, чувствовали гнетущую духоту туманной летней ночи, вдыхали испарения рома».
Духовная драма матроса Смита на этом фоне также изображена чрезвычайно лаконичными средствами. На протяжении всего действия он произносит лишь несколько фраз, но перед нами живой человек с тонкой, чувствительной душой, тяжело переживающий грубость и черствость своих сослуживцев по судовой команде. В разговоре с Донкманом, который о жестокости и зверстве по отношению к женщинам говорит как о самом обычном, Смит только замечает: «Джентльмены не бьют женщин». Однако в этой реплике раскрывается весь человек, мягкий и деликатный, не утративший свежести и непосредственности чувств, какой-то особой романтической настроенности.
Внутренняя музыкальность пьесы составляет неповторимую особенность ее драматической структуры. Гибкость и разнообразие ритмов служат выражению самых противоположных психологических настроений. Даже минуты молчания, отдельные паузы в пьесе обладают какой-то внутренней насыщенностью и эмоциональной значимостью. И в этом, как нам кажется, американский драматург многому научился у А.П. Чехова, чьи пьесы явились для него образцом новой драмы, наполненной поэтической атмосферой, большим лирическим дыханием, в которой повседневная будничная жизнь обыкновенных людей освещалась внутренним светом, особой одухотворенностью.
«Тоска о лучшей жизни» — так определял основную устремленность чеховских пьес В.И. Немирович-Данченко. Эти слова в полной мере применимы и к драме О’Нила «Карибская луна».
Сам О’Нил, считая «Карибскую луну» попыткой создания более высоких художественных ценностей, говорил, что основной герой его пьесы — это «дух моря». И действительно, эта пьеса, если можно так выразиться, самая «морская» из всего цикла. Называя ее одним из своих лучших ранних произведений, драматург с гордостью писал, что она разбила традиционную рутину американского коммерческого театра и вывела американскую драму на новый путь.
Третья пьеса этого цикла — «Долгий путь домой» — также повествование о неудавшейся жизни, о разбитых мечтах, превратившихся в иллюзии, об обстоятельствах, которые сильнее людей. Действие ее происходит в баре одного из захудалых кабаков портового Лондона, в грязной запущенной комнате, тускло освещаемой керосиновыми лампами. Перед нами знакомые герои: порывистый и благородный ирландец Дрисколл, шут и забияка Кокки, неповоротливый и сонный Иван — матросы «Кленкерна», вернувшегося после длительного плавания на стоянку.
В центре внимания автора — судьба одного из членов команды, матроса Олсона, шведа по национальности. Подобно Янку в пьесе «Восточнее Кардифа», Олсон мечтает поселиться на берегу, работать на ферме, жить просто, спокойно и никогда не ступать ногой на проклятую палубу. Однако и его надеждам не суждено сбыться. В то время как Дрисколл и Кокки провожают пьяного Ивана в гостиницу, хозяин кабачка Джо и проститутка Фреда разбавляют имбирное питье Олсона и очищают его карманы. Судьба Олсона, таким образом, решена, как, впрочем, предрешено будущее и его товарищей, которые, прокутив жалованье, вынуждены снова вербоваться матросами на корабль «Аминдру», судно, хуже которого, по словам Олсона, не сыщешь на свете.
Отдельные буржуазные критики, стараясь не замечать социально-критической направленности «морского» цикла О’Нила, главными темами его пьес объявляют «смерть, религию и вечный «туман», который наглухо скрывает от человека истину», а самого драматурга — певцом «иллюзий, пьянства и смерти». Таким образом, эти критики демонстрируют полное непонимание внутренней сущности «морских» пьес О’Нила. Игнорируя становление реализма писателя, они не замечают глубокого гуманистического пафоса, которым проникнута каждая пьеса этого цикла.
Драма «Долгий путь домой», как и предыдущие «морские» пьесы, представляет собой небольшой, но удивительно правдивый эпизод жизни. Подчеркивая фрагментарный характер этих пьес, Б. Кларк писал: «В них есть только отрывок рассказа, лишь несколько комментариев и немного философских размышлений. Как будто автор хочет сказать: „Вот вам обрывки человеческой жизни. Я не виновен в том, что они не веселы и не поучительны, и не в моих силах сделать их радостными. Вы вправе принять или отвергнуть их“».
Высоко оценивая драму «Долгий путь домой», тот же критик замечал: «Я могу на пальцах одной руки пересчитать те многоактные пьесы, которые мне довелось видеть на сцене в течение прошлых двух сезонов и которые были бы такими подлинно драматическими».
Подлинное мастерство в изображении психологической атмосферы, определяющей стихию человеческих отношений, проявляет О’Нил и в одноактной пьесе «морского» цикла «В зоне». Это была вторая пьеса (первая — одноактная миниатюра «Снайпер»), в которой отразились трагические последствия катастрофы, разразившейся в
События в драме происходят осенней ночью
Постепенно из отдельных реплик, скупых диалогов создается в пьесе напряженная атмосфера боязни и истерической шпиономании, в которой даже самый безобидный поступок кажется подозрительным. Такой поступок и совершает Смит. Опасаясь в случае встречи с подводной лодкой потерять самое дорогое, что у него осталось, Смит встает ночью с постели, когда все еще спят, вытаскивает из чемодана небольшую жестяную коробку и прячет ее к себе под матрац, чтобы в случае беды либо потонуть с ней, либо спастись. Этот поступок, в другое время не вызвавший бы ничего, кроме добродушных и чуть завистливых насмешек со стороны команды, сейчас вызывает трагические последствия. Моряки хватают ничего не подозревающего Смита, связывают его и с чрезвычайной опаской принимаются раскупоривать ту самую жестянку, которая хранилась у Смита под матрацем. И что же они находят в этой жестянке, в которой ожидали увидеть ни больше ни меньше, как добрую порцию динамита? Письма возлюбленной, которая бросила Смита, узнав о его пристрастии к элю и виски. Матросы читают вслух и обсуждают письма той, которая осталась в жизни героя самым светлым пятном. Это повергает Смита в прострацию. И когда сконфуженные и обескураженные члены команды прячут содержимое назад в жестянку, и Дрисколл, мягко ступая, подходит к Смиту и разрезает матросским ножом веревки, стягивающие ему руки и ноги, развязывает платок, придерживающий кляп, Смит не оборачивается, он закрывает лицо руками и прижимается головой к переборке. Плечи его судорожно вздрагивают. Насилие над человеческой личностью, унижение человеческого достоинства — вот подлинная тема пьесы «В зоне».
Интересно сравнить эту драму О’Нила с двумя другими пьесами на военную тему, появившимися в это же время на сценах американского театра. В первой из них — «Inside the Lines» Э.Д. Биггера традиционный драматический злодей, взятый напрокат из старой мелодрамы, в финале оказывается немецким шпионом, а предполагаемый шпион в свою очередь предстает подлинным воплощением добродетели — агентом английской секретной службы. В другой пьесе «Under Fire» Р.С. Мегрю, также типичной мелодраме, наличествуют все атрибуты этого жанра: динамично развивающееся действие, банальная запутанная интрига, отсутствуют живые убедительные характеры. В центре внимания автора — ловкий и вездесущий немецкий шпион, который, как полагается к концу пьесы, разоблачен, а традиционный герой, будучи ранен, попадает в госпиталь, где и встречается со своей возлюбленной — сестрой милосердия.
Драма О’Нила не имеет ничего общего с этими коммерческими пьесами. Незначительный как будто инцидент (кстати сказать, нечто подобное произошло с самим О’Нилом, который, будучи однажды арестован как предполагаемый немецкий шпион, вынужден был пробыть некоторое время в полицейском участке) под пером драматурга превращается в социальную трагедию, а главный герой предстает в финале как жертва антигуманной сущности Первой мировой войны, как жертва тех враждебных и могущественных обстоятельств, которые неподвластны человеку.
Все средства художественного изображения в пьесе подчинены задаче создания неповторимо индивидуальных характеров, передаче того своеобразного колорита, который сам драматург называл «духом моря». Причем все эти средства используются автором в высшей степени скупо, экономно и точно.
Однако нельзя не отметить в пьесе «В зоне», как, впрочем, и в других драмах цикла, определенного влияния мелодраматической эстетики. Сентиментально-мелодраматичен стиль последнего письма возлюбленной Смита. Здесь и случайная встреча, и «горькая правда», которую Смит «низко, подло» пытался скрыть от своей возлюбленной, здесь и традиционное «между нами все кончено», «пусть останутся одни воспоминания» и т. д.
Сам О’Нил, отзываясь об этой драме, говорил: «Любопытная вещь эта «Зона», без трех других пьес этого цикла она кажется не такой правдивой и эффектной. В то же время не менее любопытно, что «Карибская луна», «Восточнее Кардифа» и «Долгий путь домой» без «Зоны» кажутся незавершенными, не такими правдивыми и эффективными ни как драмы, ни как картины жизни полубака».
Цикл «морских» пьес является большим художественным достижением Юджина О’Нила в одноактной форме. Спустя недолгое время он оставил ее. «Меня теперь уже не привлекает одноактная пьеса, — говорил драматург. Эта форма недостаточна, тут не развернешься. Правда, одноактная пьеса — прекрасное средство для чего-нибудь одухотворенного, поэтического, для того настроения, которое трудно сохранить в большой пьесе».
О’Нил впервые в истории европейской и американской драмы решительно развенчал пресловутую морскую романтику, снял тот слой флера, который прикрывал позолоченным блеском море в псевдоромантической литературе. Правдиво изобразил он в «морском» цикле изнурительный труд моряков, которые под его пером из морских «волков» превращаются в обыкновенных морских пролетариев.
Характерной особенностью пьес «морского» цикла является поразительная жизненность, необыкновенная правдивость языка действующих лиц. В каждой реплике, в каждом диалоге отражается и своеобразие морской профессии героя, и невысокий интеллектуальный уровень, и их эмоциональное состояние. Ничего подобного до О’Нила в американской драматургии не существовало. В американском коммерческом театре десятки лет звучала выхолощенная, далекая от жизни речь, которая прежде всего должна была выполнять функции развития сюжета и создания драматической динамики. В пьесах О’Нила впервые в американской драматургии зазвучала повседневная, бытовая речь (более того — морской жаргон!), лишенная каких бы то ни было театральных условностей, трафаретных штампов и т. п.
Своим циклом «морских» пьес О’Нил создал в американской драматургии по сути дела новую традицию, основанную на неограниченных возможностях раскрытия психологической стихии, традицию изображения трагизма судьбы героев как типического явления для американской действительности XX в. Однако трагизм и безысходность человеческого существования не носят у О’Нила метафизического, вневременного характера, не выступают как абсолютные и неизменные черты универсума. Напротив, трагизм и безысходность в «морских» пьесах — это социально детерминированные черты существования человека в конкретных общественных условиях. Более того, в драме «Долгий путь домой» прямо и недвусмысленно изображаются конкретные виновники социального зла, превращающие мечты людей о лучшей жизни в иллюзии.
Высоко оценивая цикл «морских» пьес, один из исследователей американского театра Томас Диккинсон писал: «Я не поколеблюсь заявить, что появление «Карибской луны» в компании с другими «морскими» пьесами — это наиболее важное событие в истории нашего театра. Они ввели на сцену нового гения и прозвучали залогом новых обещаний».
Л-ра: Вестник МГУ. Серия 9: Филология. – 1971. – № 2. – С. 25-34.
Произведения
Критика