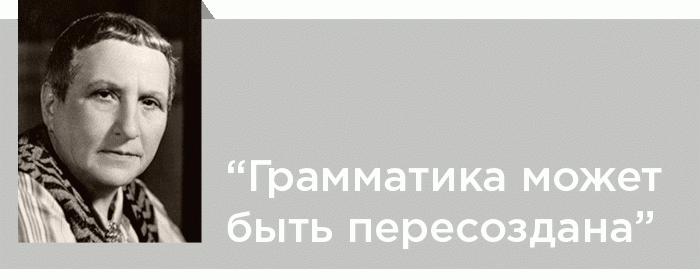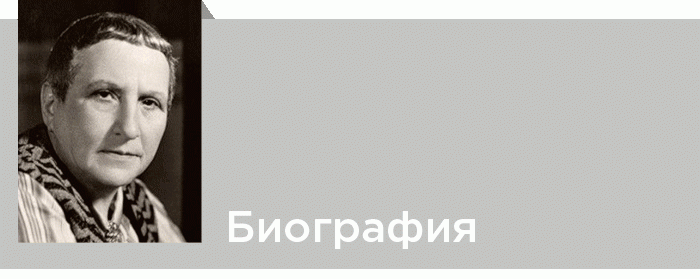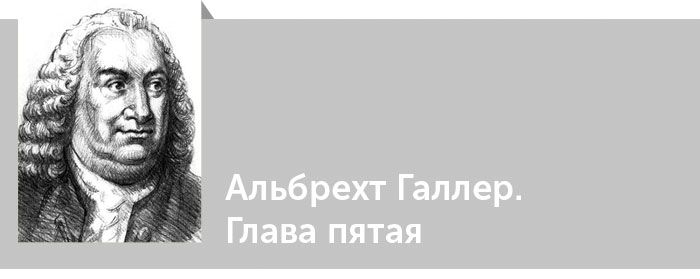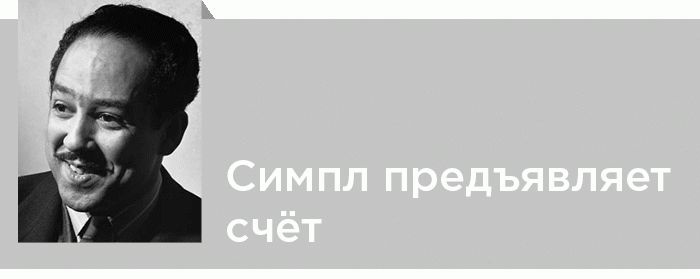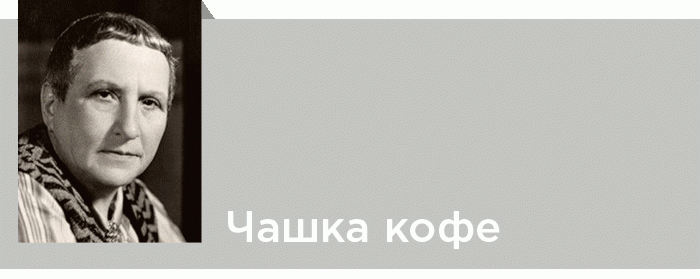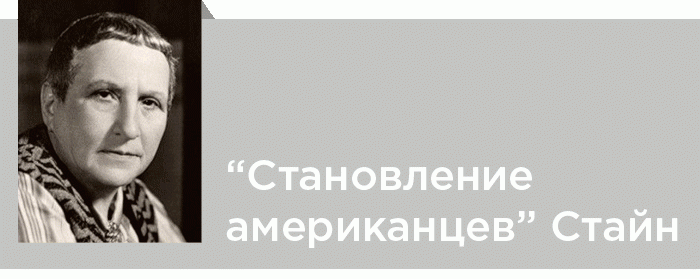«Вид из аэроплана»: американский примитив Гертруды Стайн

О.Ю. Панова
Гертруда Стайн, «крестная мать» американского авангарда и модернизма, литературный наставник Шервуда Андерсона и Эрнеста Хемингуэя, для американского культурного сознания - своего рода «двуликий Янус»: экспатриантка и патриотка, «перебежчик» и культуртрегер. Ее открытия получали у соотечественников, американских модернистов, противоречивые оценки. Например, Уильям Карлос Уильямс полагает, что Гертруда Стайн «описывает, а не изобретает», отличаясь «буквализмом мышления»; ее стихия - монотонная повседневность, «разнообразие без центра». Этот хаос, бесконечное распыление Уильямс считает главной опасностью для «демократического американского искусства». В цикле «Три жизни», пишет Уильямс, письмо Стайн «похоже на вид Соединенных Штатов из аэроплана - бессмысленные повторы, бесконечное умножение немелодичных слов... Бегство в Париж для Стайн бесполезно. Она повсюду везет с собой Соединенные Штаты. Безмерная глупость и утомительная скука демократии, безграничное и вызывающее невежество, унылое однообразие - от всего этого нельзя спастись, просто сев на корабль, идущий за океан».
Шервуд Андерсон ставит в заслугу Гертруде Стайн как раз то, в чем ее упрекает Уильямс. В очерке «Творчество Гертруды Стайн» Андерсон вспоминает, что в 1913-1915 годах в среде чикагской интеллектуальной богемы ее сочинения «произвели переполох», на литературных вечерах их читали вслух, и чтение «через каждые несколько предложений прерывалось дружным хохотом <...> В общем, все считали, что писательница, как говорится, «выпендривается»: ее странные причуды привлекли внимание, вот о ней и стали писать в газетах». Сам Андерсон не смеялся над «причудами» модной экспатриантки: ему понравился цикл «Три жизни», и он счел великим достижением писательницы умение создавать целые миры из мелочей, «из маленьких слов - слов-домохозяек, слов-уличных хулиганов, слов-честных трудяг, которыми так долго пренебрегали, забывая об их существовании».
Андерсон убежден: внимание к повседневности, к мелочам - великое начинание, ибо среди обыденного и рутинного пролегает путь, ведущий к новому, подлинному открытию Америки. Писатель, отважившийся отбросить стереотипы, перенесенные из Европы, и обратиться к настоящей американской жизни и американскому языку, - истинный пионер, продолжатель колумбовых открытий: «Стайн - великий писатель, потому что она освободитель талантов. Она первопроходец. Она оказывает огромное, колоссальное влияние на литературу, потому что, вопреки насмешкам и непониманию, пытается пробудить у нас, писателей, новое чувство слова».
Гертруда Стайн «открывает Америку» не только для самих американцев, но и для европейцев. Обладавшая поразительной интуицией во всем, что касалось литературной моды и конъюнктуры, она задолго угадывала появление нового «тренда» и всегда оказывалась на шаг впереди своих современников. Когда в Европе возникает интерес к африканскому искусству, в американских авангардистских кружках У. Аренсберга, А. Штиглица также начинают увлекаться чужеземным примитивом - африканской скульптурой и масками. Стайн сразу понимает, что соревноваться с Пикассо или Сандраром было бы нелепостью. Гораздо выигрышнее обращение к исконно американскому негритянскому примитиву - что она и делает задолго до начала «эры джаза». Пройдет полтора десятка лет, и Париж будет рукоплескать джазовым музыкантам, а США займут в контексте модернистского увлечения «примитивным искусством» особое положение, как страна, обладающая собственным расовым, черным примитивом.
Прославивший Гертруду Стайн цикл «Три жизни» (Three Lives, 1909) построен на повторяющихся лейтмотивах, восходящих к репетитивным структурам негритянского фольклора; принцип «тема-импровизация» заимствуется из негритянской музыки, набиравшей популярность в 1900-1910-е годы (блюз, рэгтайм, затем джаз). Не случайно самым известным произведением цикла стала «негритянская повесть» «Меланкта» (Mdanctha, 1906). Здесь уже оформлен концепт, который станет модным в 1920-е годы, в период Гарлемского ренессанса, - жизнерадостный примитив, полный витальных сил, первозданной энергии, идеал сексуальной и эмоциональной раскрепощенности. Однако появились эти темы у Стайн еще раньше - начиная с первых литературных опытов. Самая удачная из ее ранних вещей, повесть «Q.E.D.» (Quod erat demostrandum (лат.) - «Что и требовалось доказать» - 1903, опубл. 1971) откровенно автобиографична: здесь рассказывается о странной дружбе-вражде двух студенток университета Джона Хопкинса-Адели (Гертруды Стайн) и Хелен (Мэй Букстейвер). Конфликт основан на столкновении противоположных типов: рациональной, консервативной Адели и страстной, импульсивной Хелен. Адель, носитель «пуританского комплекса», на протяжении всего повествования предается рефлексии и самоанализу, полагая, что моральные принципы зиждятся на рациональных основаниях: «Я разумна, потому что я знаю разницу между пониманием и непониманием, и я справедлива, потому что у меня нет мнения о том, чего я не понимаю». Хелен в раздражении говорит ей: «Ты не пробовала как-нибудь перестать думать, чтобы успеть хоть что-нибудь почувствовать?» Страстное увлечение подругой побуждает Адель на время отбросить рациональный контроль, но вскоре она возвращается к своим принципам и выносит Хелен строгий приговор, заклеймив ее как распущенную, аморальную особу.
Совершенно очевидна прямая связь между ранней «пробой пера» и знаменитой «Меланктой»: как указывают исследователи, в обеих повестях Стайн разрабатывает тот же конфликт - столкновение «страсти» и «пуританских инстинктов». В «Меланкте» прямое упоминание пуританства отсутствует, что не меняет сути дела. В молодом негритянском докторе Джеффе Кэмпбелле (как и в Адель) обычно усматривают автопортрет самой Гертруды Стайн. Действительно, сходство бросается в глаза: интеллектуализм, тяга к книжному знанию, боязнь страсти и сексуальности, недоверие к чувствам, медицинская профессия. Джефф встречает Меланкту с готовым набором ценностей, присущих американскому среднему классу: «Не нужно мне этого, чтобы все время сплошные развлечения, и новый опыт, и все такое... я живу нормальной тихой жизнью, со своей семьей, и делаю свою работу, и помогаю людям. Не понимаю я, когда люди все суетятся и суетятся, и не хочу, чтобы цветные так делали». Все тот же «пуританский инстинкт» обнаруживается на сей раз в среде благополучных цветных, принявших белые стандарты. С точки зрения Меланкты, «это все были глупости», которые говорят от «незнания жизни», от отсутствия «настоящей жизненной мудрости».
Как и Хелен, Меланкта - страстная натура, которая рано «начала понимать, какая в ней живет сила» и «всю свою жизнь ничего так высоко не ценила, как настоящий жизненный опыт». Она ставит на вид Джеффу его лицемерие - характерный порок пуритан: «Сдается мне, доктор Кэмпбелл, что вам хотелось бы хорошо проводить время ничуть не меньше, чем нам, всем прочим, но вслух вы говорите правильные вещи, что нужно жить правильно и не искать развлечений, а сами в глубине души вовсе и не хотите так жить...».
Однако сходство между «Меланктой» и «Q.E.D.» на этом заканчивается. Различия же начинаются с иной «расовой» и «половой» аранжировки. Любовная история разыгрывается между мужчиной и женщиной, действие происходит в красочном и экзотическом для белого американца (и европейца) мире негритянского гетто Бриджпойнт. Что касается особенностей письма, то для университетской повести «Q.E.D.» характерны абстрактные существительные, выражающие отвлеченные понятия, а для «негритянской повести» - герундиальные формы, составляющие две группы лейтмотивов и характеризующие две противоположные ценностные системы - Джеффа и Меланкты: «вести размеренную жизнь» (living regular) - «искать развлечений» (getting excited), «трудиться» (working) - «бродить в поисках жизненной мудрости» (wandering after wisdom). Разнится и логика развития сюжета. В отличие от несгибаемой Адели, Джефф - натура восприимчивая. В нем подспудно совершаются перемены: прежняя ригидная система оценок расшатывается, слова «хорошо» и «плохо» становятся проблематичными, начинается «путаница». «Славный и спокойный» Джефф оказывается способен на «настоящее жаркое чувство», которое изменяет его, делая душевно более богатым: «Джефф всей душой чувствовал ту новую красоту, которую однажды открыла ему Меланкта Херберт, и это все больше и больше помогало ему в работе и над собой, и на благо всех цветных мужчин и женщин».
Меланкта, бросившая вызов «пуританскому инстинкту» Джеффа, выросла в неблагополучной бедной негритянской семье. Но, несмотря на свое происхождение, она предстает как существо отнюдь не примитивное. Героиня, взыскующая «жизненной мудрости», подвержена приступам меланхолии, страдает от раздвоенности - ее «слишком сильно раздирают желания и чувства». «Жизненная мудрость» - любовный и сексуальный опыт, эмоциональная зрелость - приносит ей одни страдания. «Сложная, жаждущая» Меланкта тяготеет к цельным, простым типам (Джем Ричардс, Роз Джонсон). Такой цельной личностью кажется ей вначале и Джефф, но по мере того, как в нем нарастает внутренний конфликт, Меланкта теряет к нему интерес.
Совершенно очевидно, что комплекс тем, присутствующий в «Меланкте», прямо связан с начавшейся в первые десятилетия XX в. в США резкой критикой секуляризованного «пуританского духа» с его рационализмом и меркантильностью, с апологией свободного искусства, творцов и богемы, с которой выступила новая генерация писателей и критиков, заявивших о себе в 1910-1920-е годы - Ван Вик Брукс, автор книги «Вино пуритан» (The Wine of the Puritans, 1909), Г.Л. Менкен, Р. Борн, У. Франк и др. Однако произведения Стайн воспринимались даже на этом фоне как нечто новое и странное. С момента выхода «Трех жизней» и статей Стайн «Пикассо» и «Матисс», которые А. Штиглиц в
Характерно, что в обоих отзывах - и критическом, и комплиментарном - произведению приписывается «реализм» и даже натуралистичность. Смысл упоминания «французских методов», видимо, не сводится к обидному намеку на статус писателя-эмигранта, оторвавшегося от родной почвы. Стайн действительно начинала писать «Три жизни» под влиянием Г. Флобера, переводами которого она в то время занималась. В повести о служанке («Добрая Анна») воздействие флоберовской «Простой души» особенно ощутимо. Первое название цикла было «флоберовским» - «Три истории» («Three Histories»); впоследствии автор изменила его по просьбе издательства «Grafton Press», согласившегося напечатать книгу. На появление книги откликнулись несколько американских критиков (Генри Макбрайд, Роджер Фрай, Карл Ван Вехтен и др.): все единодушно отмечали ее оригинальность, жизненность и правдивость, а также искусную стилизацию диалекта и иностранного акцента. В «Меланкте», например, автор имитирует Black English - и это именно имитация, поскольку эффект диалектной речи создается не столько за счет грамматических форм, характерных для негритянского английского, сколько благодаря стилистике и лексике:
«И им обоим все это нравилось все сильнее и сильнее, эти новые для них чувства и эти летние дни, такие долгие и такие теплые... и летние вечера, когда они гуляли по городу, и шум людных улиц, и музыка шарманок, и танцы, и теплый запах людей, и лошадей, и собак, и все это огромное радостное чувство от могучего, томительного, пряного, грязного, влажного, теплого, негритянского южного лета».
В других повестях цикла «Три жизни» - «Добрая Анна» (Good Anna) и «Тихая Лена» (Gentle Lena) воспроизводится неправильный английский немецкоязычных иммигрантов. В связи с этим в момент подготовки рукописи к печати возникла анекдотическая ситуация: из «Grafton press» домой к Стайн явились редакторы. Они предложили автору, который, «будучи иностранцем, очевидно, не вполне овладел английским языком», поправить «ошибки» и привести текст в соответствие с литературной нормой.
Вскоре после выхода «Трех жизней» Стайн пишет письмо своей знакомой Мейбел Уикс, содержащее пространную ламентацию: «Боюсь, мне никогда не написать великого американского романа... мне придется ограничиться черномазыми, служанками и эмигрантами. Вот Лео (брат писательницы Лео Стайн (1872-1947). - О.П.) сказал, что книга Ловетта (роман американского писателя, ученого, издателя, политического деятеля Роберта Морса Ловетта (1870-1956) «Крылатая победа» (A Winged Victory, 1907). - О.П.) - это не искусство и потом был недобр ко мне и не сказал мне, что моя книга - это искусство, и я ушла спать расстроенная, ну и пусть это не «Патетическая симфония» Чайковского, и не Омар Хайям, и не Вагнер, и не Уистлер, и не «бремя белого человека»... Это очень просто и очень низменно, и я так думаю, это не заинтересует великую американскую публику».
Обращение к повседневности, рутинным мелочам, к разного рода маргиналии (расовой, этнической, социальной) действительно носит у Стайн программный характер и дает ключ к пониманию ее концепции примитива. «Примитивный» здесь вовсе не значит «простой». В очерке «Пикассо» она подчеркивает, что африканское примитивное искусство - это сложнейший феномен: «...африканская скульптура отнюдь не наивна, отнюдь, это очень и очень условное искусство... Арабы создали для негров и культуру и цивилизацию, и потому африканское искусство, для Матисса примитивное и экзотическое, для Пикассо, испанца, было естественным, непосредственным и цивилизованным. Потому естественно, что оно придало силу его видению».
Пикассо, уроженец Испании, страны, где перемешаны разные «расы» - европейцы, мавры, цыгане, смотрит на африканский примитив как на свое естественное наследие. Американка Гертруда Стайн, уроженка Нового Света, где идет великое смешение рас, тоже обращается к собственному примитиву - «повседневности» иммигрантов и американских негров. Это искусство кажется европейцам экзотическим примитивом, но для американца оно «естественное, непосредственное и цивилизованное», но отнюдь не простое и не наивное. Не случайно Дж.Р. Меллоу отмечает: «Меланкта» остается открытием белого американского писателя — он представляет негра как личность сложную, охваченную переживаниями, которые непросто понять».
Коротко идею «стайновско-пикассовского» примитива можно сформулировать так: нет ничего более сложного, чем самое простое. Как психолог, Стайн знает: нет ничего проще, чем простейший акт восприятия; однако для цивилизованного человека очистить этот акт, отделив перцепцию от работы сознания, - задача сверхсложная. Наш мозг, обрабатывая данные восприятия, использует предшествующий опыт и включает новые данные в уже созданные сознанием ряды ассоциаций, хранящиеся в памяти: «...мы привыкли восполнять целое нашим предыдущим знанием, но если Пикассо видел один глаз, то второго для него не существовало... он был прав, человек видит то, что он видит, остальное реконструкция по памяти, а художнику нет дела до реконструкции». Пикассо — настоящий художник-примитивист (при этом отнюдь не наивный), который снова и снова «начинал борьбу за то, чтобы выразить на полотне вещи, увиденные без всяких ассоциаций, а просто увиденные».
В «Меланкте» традиционалист Джефф обвиняет свою возлюбленную в «беспамятстве»: «...именно потому, потому что ты такая, ты и не можешь как следует вспомнить, что ты сама чувствовала какое-то время назад, не говоря уж о чувствах другого человека». Возражая ему, Меланкта высказывает программный тезис Стайн: «Я считаю, Джефф Кэмпбелл, что человек по-настоящему запоминает только то, что он чувствует в тот момент, когда все происходит <...> помнить нужно только себя, только то, что чувствуешь каждый миг, и когда это чувство к месту». Надо заметить, что этот диалог вовсе не походит на беседу «примитивов», несмотря на простоту лексики. Меланкта - необычное существо, потому что она обладает главным свойством «творцов» - умением позабыть весь предыдущий опыт во имя актуального переживания и жить в «длящемся настоящем».
Одним из лейтмотивов очерка становится фраза: «Пикассо всегда был одержим необходимостью опустошать себя, опустошать себя окончательно». Под «опустошением» художника Стайн имеет в виду его способность отбросить данные опыта, памяти, усомниться в том, что видит мозг, и всецело довериться глазу. Это сравнимо со взглядом младенца-существа, чей мозг еще не сформировал концепты на основе перцептов: «Младенец смотрит на лицо матери, он видит его совсем иначе, чем видят его другие люди... и на свой лад Пикассо знает лица как дитя и так же он знает голову и тело».
Общепринятые каноны, которые Стайн презрительно называет «видимостью», удовлетворяют европейских художников, но не Пикассо и не ее: «...испанцы и американцы не похожи на европейцев... у них есть что-то общее, а именно им не нужна религия или мистицизм, чтобы не верить в реальность, какой ее знает весь свет... По сути реальность для них нереальна, потому и существуют небоскребы и американская литература, и испанская живопись и литература».
Общность между испанцами и американцами Стайн объясняет «неевропейскостью» их ландшафта и «повседневной жизни», а также необходимостью покорять первозданную дикую природу: «В Испании природа и человек противостоят друг другу, во Франции они находятся в согласии, и в этом и состоит различие между французским кубизмом и кубизмом испанским» - т.е. между истинным примитивом и «простым усложнением». В Испании, как и в Новом Свете, нет согласия между природой и рукотворными объектами, между ними сохраняется напряжение. Это и есть импульс для примитивистского творчества. Пикассо требуется всего лишь описывать «испанскую повседневность», например, «кубистические» испанские деревни, где «нет согласия» между домами и пейзажем. Стайн утверждает, что она «делала то же самое в литературе» - то есть описывала «кубистическую повседневность» Нового Света. Для Стайн Испания, Латинская Америка и США - единая культура, радикально отличная от европейской. Именно ей предстоит занять лидирующее положение в новом веке: «Пока остальные европейцы еще находились в девятнадцатом веке, испанцы из-за недостаточной организованности и американцы из-за организованности чрезмерной оказались естественными основоположниками двадцатого века. <...> Это и есть то общее, что существует у Америки и Испании, поэтому Испания открыла Америку, а Америка Испанию, именно поэтому обе они нашли свое место в двадцатом веке».
Размышления Стайн о «кубистической реальности» Нового Света характерны для умонастроений 1920-х годов: они перекликаются с утопическим «новосветным» индихенизмом У. Карлоса Уильямса, с андерсоновской апологией американской «незрелости» и примитивного американского эдема, с духом Гарлемского ренессанса, утверждавшего мощь гения черной неевропейской расы, наделявшего самобытностью становящуюся американскую цивилизацию. Все они постулируют единство культуры Нового Света - США и Испанской Америки, и отличие ее от европейской традиции. Именно новосветная культура, отринувшая европейские каноны, сумеет создать в искусстве новую, «грандиозную» реальность» XX века: «Двадцатый век грандиознее века девятнадцатого, намного грандиознее. <...> Это время, когда все трещит, все разрушено, все разделено, все само по себе, и это гораздо грандиознее, чем времена, когда все идет своим порядком. <...> Разве можно не помнить, что вид земли из аэроплана грандиознее, чем из окна автомобиля. Автомобиль - это конец прогресса на земле... но пейзажи, увиденные из окна автомобиля, - это те же пейзажи, которые видишь, когда едешь в карете, в поезде, в повозке или просто идешь пешком. Но земля из аэроплана это нечто совсем иное.. И потому двадцатый век совсем не то же, что век девятнадцатый. <...> Когда я была в Америке, я впервые довольно много летала самолетами, и когда я смотрела на землю, я видела, что вся она кубистична, а кубизм был создан, когда еще ни один художник не видел ее из аэроплана. <...> Двадцатый век стал веком, который видит ее так...».
Эта цитата звучит ироническим откликом на суровую отповедь У. Карлоса Уильямса, сравнившего «бессмысленное, немелодичное, однообразное» письмо Стайн с видом Соединенных Штатов из аэроплана. Очевидно, что, несмотря на ссоры и споры, американские модернисты с их культурным национализмом и верой в новосветную культурную утопию представляют собой единую генерацию. Их единство существенно, их разногласия - частность. Именно общее видение, «взгляд из аэроплана» создает, говоря словами Стайн, «композицию каждого поколения».
Л-ра: Филологические науки. – 2011. – № 2. – С. 25-35.
Произведения
Критика