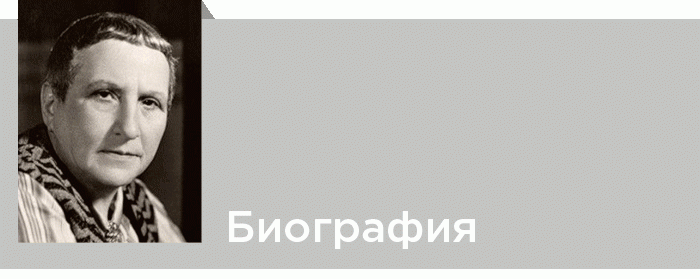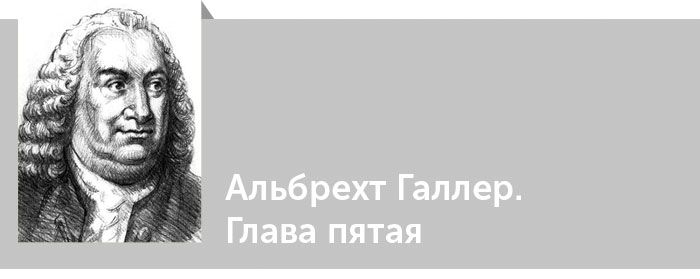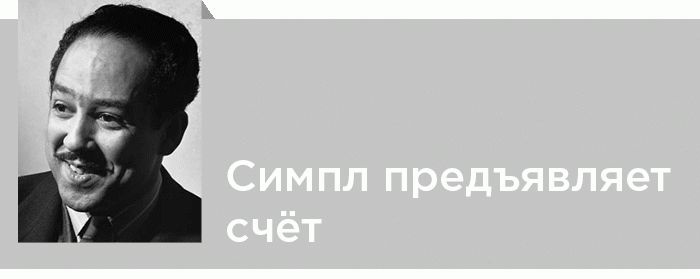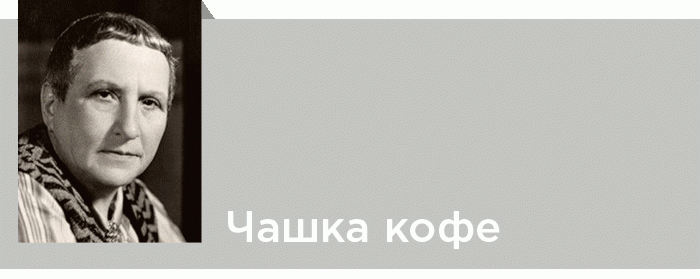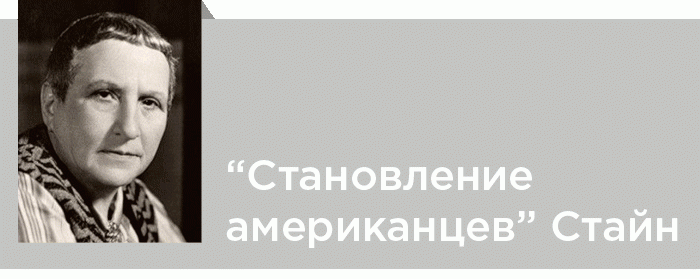«Грамматика может быть пересоздана...»: экспериментальная поэтика Гертруды Стайн (1920-1930-е гг.)

В.В. Фещенко-Такович
Язык в его поэтической (эстетической) функции традиционно входит в сферу исследований теоретической лингвистики как науки и одновременно является тем материалом, который используют в своей практике поэты, писатели и философы.
Поэтический язык, или язык художественной литературы, представляет собой «систему правил, лежащих в основе художественных текстов, как прозаических, так и стихотворных, их создания и прочтения». Под поэтикой мы понимаем двоякое явление: систему художественных средств, характерных для поэта-экспериментатора и одновременно теоретическое исследование поэтического языка и художественной речи, предпринимаемое творцом-экспериментатором. Правила и законы поэтической речи «всегда отличны от соответствующих правил обыденного языка», и в указанном смысле язык художественной литературы, «выражая эстетическую функцию национального языка, является предметом поэтики ... а также семиотики, именно - семиотики художественной литературы». Но и в самой художественной литературе присутствуют различные степени реализации эстетической функции; степень определяется теми отношениями, которые выстраивает идиостиль автора с господствующим в его историческую эпоху языковым каноном (от педантичного следования канону до полного его отрицания).
Сосредоточенность писателя на эстетических возможностях языка позволяет говорить о понятии эксперимента в поэтике, или о поэтике экспериментальной литературы. Эти явления все больше привлекают к себе внимание исследователей, главным образом семиотиков, литературоведов и поэтологов. Мы же, со своей стороны, хотели бы внести в рассмотрение этих явлений нечто, что возвращает их в лоно конкретного языкознания, т.е. грамматику, а именно в том ее авторском облике, который выражен в заголовке этой статьи.
Грамматика понимается нами традиционно - как «строй языка, т.е. система морфологических категорий и форм, синтаксических категорий и конструкций, способов словопроизводства» (статья Н.Ю. Шведовой). Однако, как пишет В.А. Звегинцев в предисловии к «Словарю американской лингвистической терминологии», американская лингвистическая школа «отнюдь не обладает качествами законченности и согласованности хотя бы основных своих понятий», она «находится в стремительном движении, и возникающие при этом понятия (и термины) не всегда получают общее признание и прочное место в системе лингвистических знаний, но часто в своем свободном и быстром чередовании приобретают характер «окказиональности»». Так, «грамматика» в данном словаре определяется следующим образом: «Осмысленные упорядочения форм в языке образуют его грамматику. Вообще говоря, кажется, что возможны четыре способа упорядочения языковых форм: 1) Порядок... 2) Модуляция... 3) Фонетическая модификация... 4) Избирательность». Мы попытаемся показать, что поэтическая теория грамматики Гертруды Стайн во многом близка данному определению.
Эксперимент как метод и принцип
Предметом нашего исследования в данной статье будет выступать поэтика экспериментальной литературы, то есть того типа формальных текстовых образований, которые Р. Барт именует «нулевой степенью письма», включая в это определение опыты авангардистской поэзии, прозы, эссеистики, порывающие с классическими традициями языка, знака и стиля, одновременно стремящиеся обосновать взгляд на свой поэтический язык как не имеющий традиций.
Такое «экспериментальное письмо не только устанавливает «новую семантическую систему», но и задается целью исследовать процессы и основы своего собственного функционирования. Оно сосредотачивается на «сообщении как таковом» (Р. Якобсон), на «эстетическом сообщении», и идет дальше, революционизируя сами средства, по которым это сообщение передается, т.е. языковые средства. Средства, в результате, становятся самим сообщением (в 1960-х гг. американский философ Маршалл Маклюэн выведет формулу «The medium is the message»), информацию несут теперь даже минимальные единицы языка.
В произведениях такого характера имеет место двунаправленный процесс экспериментации, при котором опытному преобразованию подвергаются как язык в его поэтической функции, так и его теоретическое осмысление. Определение языковых форм ведется как бы одновременно в двух «координатах»: практико-языкотворческом, и научно-теоретическом.
Эксперимент, как «процесс изучения возможностей», будучи применен в качестве метода в поэтических и других творческих практиках, вскрывает саму суть поэтического высказывания, предлагая альтернативные способы означивания, и тем самым преобразует фундаментальные основы языка как семиотической системы.
Любая, сколь бы то ни было «революционная», радикальная поэтическая система, как правило, остается в поле конкретного национального языка, а точнее - исследует границы этого поля изнутри. (Мы не рассматриваем здесь опыты так называемых «философских грамматик», которые основаны на универсальных и чисто формальных принципах, и, по Павлу Флоренскому, находятся на другом «полюсе» языка, противоположном экспериментально-поэтическому). Автор-авангардист творит свой новый язык, но азбукой его писания является именно национальный литературный язык, от которого он неизбежно отталкивается и чьими глубокими ресурсами он пользуется, воплощая свою собственную «утопию языка».
Опыт языка и опыты над языком: общая парадигма эксперимента
Говоря о представителях разных национальных литературных языков, чья лингвопоэтическая стратегия оказывалась для своего времени наиболее радикальной и в то же время «самосознающей», автопоэтической в области слова, следует упомянуть таких авторов, как Гертруда Стайн, Джеймс Джойс, Луи Зукофски, среди русских - Велимир Хлебников, Андрей Белый, Александр Туфанов и Александр Введенский. Все перечисленные авторы отмечены общим, хотя и независимым друг от друга, стремлением максимально и в полном масштабе расширить диапазон «возможностей языка» (П. Валери), претворить слово, «поначалу укорененное и замкнутое в пределах абсолютно нейтральной языковой природы» в «самовитый» знак. Автор-экспериментатор, которым является каждый из перечисленных, действует при этом «за пределами установлений, диктующих им нормы и константы... стиля».
Следует подчеркнуть, что многие авторы, о которых идет речь, творили, совершенно не зная о существовании друг друга, подчас принадлежали разным художественным традициям и «измам». К тому же часто случалось, что многие идеи художников слова пересекались с чисто научными исследованиями филологов (здесь можно провести аналогию между американскими «поэтами-объективистами», такими, как Зукофски, У.К. Уильямс и Дж. Оппен, и русским формализмом, с одной стороны, и с раннесоветским литературным конструктивизмом 1924-1929 гг., с другой).
Пользуясь терминологией Р. Якобсона, который находился «в авангарде» русской научной поэтики в 20-е гг., развитие идей происходило конвергентно. Следовательно, можно говорить о единой творческой и научной парадигме экспериментализма. Т. Кун понимал единую парадигму в науке как «ряд повторяющихся и типичных (quasistandard) иллюстраций научных теорий в их концептуальном, исследовательском и инструментальном применении», существующий в данный конкретный момент времени. Но, учитывая то, что зачастую области науки и искусства переплетались и творчески взаимодополняли друг друга, имеет смысл рассматривать эстетику (искусство) и эпистемологию (наука) как две равноправные парадигмообразующие области. Основанием же исследования в данном случае будет выступать сама личность - художник и/или ученый, экспериментирующий с языком. Человек является носителем частей общенаучной парадигмы как образца мысли примерно так, как грамматическая форма является носителем только части значения в рамках языковой парадигмы. Еще одной аналогией может являться музыкальная серия, состоящая из элементов - звуков, пауз, а в нашем случае - из творческих личностей - объединенных цельностью этой серии (ср. у В. Хлебникова: «звуколюди»). Это дает нам возможность исследовать экспериментальную поэтику 1920-30-х гг. как структурное явление, при этом следуя известному якобсоновскому принципу («проекции с оси селекции на ось комбинации»), выделяя исследуемых авторов «по сходству», то есть парадигматически, и выстраивая их в последовательный ряд рассмотрения, в своеобразную «синтагму». Гертруда Стайн занимает в этой «синтагме», несомненно, одну из первых позиций.
Гертруда Стайн как «испытатель» языка
«Грамматика родила виноград.
Грамматика родила винограда знание» Г. Стайн. Как писать.
Творчество Г. Стайн относят к литературе американского авангарда, хотя большую часть жизни она провела в Париже (с
В качестве писателя она подошла к английскому языку как к механизму для построения нового, синтетического языка на фундаменте строгих правил английской грамматики (как известно, характеризующейся выраженным аналитическим строем). Показательно, что автор одной из монографий об экспериментальном творчестве Гертруды Стайн назвала свою работу «A Different Language», то есть «иной язык»; это можно понимать как минимум в двух важных для нас смыслах: 1) лингвофилософском - как еще один, альтернативный способ описания (точнее, автоописания) художественной композиции, что соответствует в целом поэтике и метапоэтике Г. Стайн; и 2) в чисто языковедческом плане - как язык с новыми системами связей.
Антикоммуникативность, автореферентность поэтического символа (или иначе, чрезвычайно усложненная коммуникативность и референтность), его полный разрыв с означаемым в текстах авангардного характера подчеркивается в лингвистической теории начиная с Р. Якобсона и В. Шкловского, развивается в исследованиях Ж. Женетта, Ю. Кристевой, Ю. Лотмана и в современной лингвопоэтической теории, такими учеными, как В. Григорьев, С. Золян, Н. Фатеева в России, У. Эко, Е. Фарино, П. Квотермен, Д. Олбрайт в Европе и Америке. В этих исследованиях отмечается, что вместе с резким отрицанием денотата в экспериментально-поэтической практике происходит своеобразное «нагнетание» семантики (ср. В. Хлебников: «Слово растит смыслы»), имеет место так называемый «интровертивный семиозис».
Творчество Гертруды Стайн (1874-1946) относится к литературе авангарда, которая неустанно задается вопросом о своем материале, то есть о своих лингвистических основаниях и возможностях. Такая литература прежде всего творит собственную грамматику и, что более важно, постоянно об этой грамматике ведет речь. Этот тип поэзии и прозы, называемый иногда лингвистической, особенно ярко представлен в англосаксонской литературе (от Л. Кэррола и Э. Паунда до Ч. Олсона и «поэтов языковой школы»), однако и русская культура знает таких «покорителей языка», как А. Белый, В. Маяковский, Г. Айги.
В 1920-30-е гг. в поэтике возникает явление эксперимента со словом, происходит «лингвистический переворот» в литературе. В эти годы Г. Стайн читает лекции в Америке («Lectures in America», 1935), выпускает книгу трактатов «Как писать» («How to write», 1931) и свой роман-эпопею «Становление американцев» («The Making of Americans», 1925), а также пишет такие новаторские художественные произведения, как «Ида. Роман», «Патриархальная поэзия», «Стансы в медитации», «Дни рождения» и книгу драматургических опытов «География и пьесы». Все упомянутые произведения являют собой квинтэссенцию новой «грамматики авангарда».
Языковая деятельность Г. Стайн (выраженная в ее поэтике) выставляет в качестве своего объекта язык, во всей совокупности его структурных, внеструктурных и «инфраструктурных» элементов. Эта деятельность самоописательна, в том смысле, что она описывает состав собственного языка, а не реальные объекты. В наше время, в ситуации новых наук о системах, в частности, синергетики, можно применить такие характеристики, как «самоорганизующаяся», или «аутопоэтическая» система, каковой по многим параметрам является поэтическая система Г. Стайн. Например, применяя здесь рассуждения Е. Фарино о поэтике Маяковского, можно сказать, что для синтаксиса авангардной поэзии характерна «сегментация, а вернее - ауточленение, приводящее к метаморфозам и порождающее новые формы вещей, способные в свою очередь к новому ауточленению и порождению». Поэтому мир авангардиста - «мир рождающийся и порождающий».
В сфере авангарда, к которому традиционно, впрочем, порой в другом контексте, причисляют Гертруду Стайн, целью любой поэтической и рефлексивной деятельности является «воссоздание «объекта» таким образом, чтобы в подобной реконструкции обнаружились правила функционирования («функции») этого объекта». Авангардный текст в этих новых условиях «превращается в воображаемый диалог с автометаописанием». В конкретных текстах данное явление реализуется в совпадении, как бы «напластовании» практического и теоретического дискурса. Констатация намерений писателя облекается в поэтическую форму, манифест становится поэмой (и наоборот - любое поэтическое творение содержит в себе свою собственную программу). Американский поэт Луи Зукофски, поэтика которого очень близка Г. Стайн, задаваясь в 20-х гг. вопросом: «Что конкретно является хорошей поэзией?», - отвечал: «Эта та поэзия, которая несет в себе информацию об истоках своего существования, но также и о собственном существе, заключенном в движении слов».
Грамматика грамматики Г. Стайн
«Что значит грамматика» Г. Стайн. Артур грамматика.
Одновременно будучи поэтом и теоретиком поэтического языка, Г. Стайн на протяжении своего довольно долгого творческого пути (1900-1940-е гг.) целенаправленно и неукоснительно следует упомянутой логике «конструирования» языка в качестве объекта, или точнее, мета-объекта, называя эту процедуру «композицией» (см. название ее эссе «Composition as explanation»). Следуя этой технике, она выстраивает свою «грамматику поэзии» (Р. Якобсон) со всеми присущими ей составляющими: грамматическими категориями, грамматическими единицами и грамматическими формами, моделируя особую индивидуальную «надкоммуникативную» поэтическую систему морфологических и синтаксических конструкций, способов словопроизводства и метафоризации.
В одной из своих программных книг, «Как писать», Г. Стайн заявляет о своем проекте реорганизовать строй языка («A grammar may be reconstituted»), найти основания для построения на базе английской грамматики новой художественной системы. Сочетая в себе функции поэта-практика и теоретика-лингвиста, Стайн предпринимает эксперимент над возможностями грамматики как аспекта языка («A grammar may carry opportunities»), вдохновляясь самой «тканью» английской поэтической речи («Grammar fills me with delight»).
По мысли и согласно конкретным словесным опытам писателя, «поэтическое» неразрывно связано с разрушением «общей» грамматики. Грамматические значения, употребляемые в конвенциональном общении, оказываются в остраненно-художественном воплощении максимально освобожденными от привносимых смыслов и ассоциаций. Грамматико-ритмические возможности языка исследуются Г. Стайн несколькими путями. Среди них можно выделить эквивалентные повторы:
«A type oh oh new new not no not knealer knealer of old show beefsteak neither neither» («Tender Buttons»)
Также имеет место синтаксически неправомерное сочетание слов и звуковые повторы. Так, в следующем примере повторяются звуки «w», «l», «r»:
«It is so a noise to be is it a least remain to rest is it a so old say to be, is it a leading are been... Eel us eal us with no no pea no pea cool, no pea pea cooler with a land a land cost in, with a land cost in stretches... Will leap beat, willie well all. The rest rest oxen occasion occasion to be so purred, so purred how» («Tender Buttons»).
В этом же примере встречаются случаи морфемных, или квазиморфемных повторов («Eal us eal us with no pea»), повторы слов как связок (полужирным шрифтом). С помощью повторов достигаются грамматические и смысловые перебои. Также может происходить изоляция отдельного слова или неполного словосочетания, что приводит к фрагментации фразы и всего текста:
«Not so far.
Constantly as seen.
Not as far as to mean.
I mean I mean.
Constantly.
As far.
So far.
Forbore.
He forbore.
To forbear.
Their forbears» («New»)
В совокупности все эти средства являются деталями того языкового проекта, который стремится воплотить Г. Стайн. Заметим, что приблизительно в те же годы в Америке подобными методами работы над языком начинают пользоваться представители лингвистической науки - дескриптивисты (Л. Блумфилд, Э. Сепир, З. Харрис и др.). Дескриптивная лингвистика возникла в 20-е гг. и получила свое особенное развитие в 40-50-е гг. Этот же период (с 20-х по 40-е гг.) является самым активным в творчестве Г. Стайн. Основу дескриптивного метода составляет понятие дистрибуции языкового элемента, т.е. «совокупность окружений, состоящих также из элементов, в которых данный элемент может встретиться в речи: для фонемы - это предшествующие и последующие фонемы, для морфемы - предшествующие и последующие морфемы, для слов - предшествующие и последующие слова». Последовательность слов и звуков - это и предмет поэтического эксперимента Г. Стайн. И хотя цели и результаты дескриптивистов отличались от таковых у Г. Стайн (у первых - установление грамматической структуры данного языка, у второй - поиск структуры нового, поэтического языка), исходная точка была общей - это поток речи, который прежде всего - звучит, и только потом обнаруживает смысл. В частности, многие из вышеперечисленных базовых типов в текстах Г. Стайн являются и типами исследования в научных трудах американских лингвистов (в нашу задачу не входит их детальное сопоставление). Во многих аспектах это - признаки единой парадигмы эксперимента.
Эксперименты Гертруды Стайн затрагивают материальные основы языка как системы, задаваясь целью его «пересоздания» («the recreation of language»). Творимое слово создает свою собственную этимологию, морфологию и фонологические оппозиции («recapturing the word»). Изменяется сам предмет литературы: на месте стилистических канонов и законов следования им (предпосылка «классической эстетики») возникает установка на выражение (Einstellung, в терминологии Якобсона) и эксперимент. Вместе с тем открывается новое измерение литературы: литература творится языковым «сгущением». Имеет место особая - двойная авторская установка: на внешний облик слова (его звучание, графическое отображение) и на его «внутреннюю форму» одновременно. Попытка «привнесения двойной концентрации наделяет язык напряженностью и энергией».
Рекуррентность языка как поэтическая установка
«Я грамматик. Я верю в копии» Г. Стайн. Как писать.
Язык в своем поэтическом состоянии имеет свойство рекуррентности. Это значит, что части речи, слова и другие языковые единицы в экспериментальной поэзии являются отражением целостного идиостиля автора, и наоборот - в любом отдельно взятом слове, словосочетании, тексте содержится весь концептуальный макромир художника. Важно то, что такое рекуррентное или рекурсивное взаимоотражение представляет собой не детерминированную структуру, а непредсказуемый процесс.
Грамматический повтор нарушает господство нормы, которая призвана обеспечивать коммуникативную связность текста. «Движением мыслей и слов бесконечно одинаковых и бесконечно несхожих» утверждается своеобразный «новый грамматизм». Центр тяжести текста переносится на грамматику поэтического высказывания: части речи, глагольные времена, синтаксис и даже знаки препинания; так что, говоря словами Шарля Бодлера, «грамматика, самая сухая грамматика становится колдовским заклинанием».
Происходящее при этом «разрушение» конвенционального синтаксиса приводит к остранению грамматической формы и отдельного слова. Каждая следующая языковая единица в речевой цепи реализуется в качестве нового элемента языковой серии («Грамматика образует серийные препятствия»). Выставляя одни части речи в не свойственной им функции других, Г. Стайн манифестирует язык, лишенный какой-либо ассоциации с действительным порядком вещей («А grammar in disassociation»), но зато открывает возможности для «поливалентной сигнификации» (русский лингвист Б. Ларин предпочитал говорить о «семантической кратности»), интертекстовой игры («Best and most in interplay»).
Отмечая серии, возникающие в языке Г. Стайн, следует остановиться на двух её излюбленных фразах: «Грамматика образует серийные препятствия», «Грамматика в повторе». Учитывая их поэтический смысл и то значение, которое Г. Стайн придавала категории времени в языке и мышлении (см. специальную монографию «Время, язык и Гертруда Стайн» американской исследовательницы К. Коупленд), можно вспомнить в качестве аналогии идею «серийного мироздания» английского философа Д.У. Данна. Его книга с названием вполне в духе исканий Г. Стайн - «Эксперимент со временем» - появилась как раз в 20-е гг. на английском языке.
Теория Данна в ее приложении к поэтике Г. Стайн сводится к тому, что физическое время (Данн) и языковой синтаксис (Стайн) организованы серийно. Конструктивную роль при этом играет так называемая итерация (Данн), или повтор элементов серии (в поэтике - повтор языковых элементов). Так возникает новый порядок времени и новый порядок языка. Рекуррентность и серийность становятся поэтической установкой.
Явление рекуррентности поэтического языка, конечно, встречается в художественной литературе и до Г. Стайн, например, «сказки» Льюиса Кэррола; и примерно в то же время - во французской прозе, например, романы Раймона Русселя. Однако наиболее выраженным и «продуманным» это явление становится именно у американской писательницы. Выстраивая грамматические формы в бесконечные (ограниченные только форматом книги или страницы) серии (самый яркий пример - роман «Становление американцев»), Г. Стайн конструирует языковой ритм. Приведем пример из «Становления американцев»:
«How anything coming into that one comes out of that one, how some things coming into that one hardly are coming out of that one, how much the things coming out of that one are different from the things going into that one, how quickly and how slowly, how completely, how gradually, how intermittently, how noisily, how silently, how happily, how drearily, how difficultly, how gaily, how complicatedly, how simply, how joyously, how boisterously, how despondingly, how fragmentarily, how delicately, how roughly, how excitedly, how energetically, how persistently, how repeatedly, how repeatingly, how drily, how startingly, how funnily, how certainly, how hesitatingly...».
Каждый новый элемент серии образует препятствие (hamper) в сознании читающего, как бы «высвечивая» вертикальный порядок языка, целостную парадигму формы (в данном случае - парадигму наречий на «-ly», выражающих образ перехода одних вещей в другие). Весь ряд наречий, которые в обычном языке отделены друг от друга контекстным употреблением, здесь, на поэтиеской «оси селекции» прекрасно уживаются, образуя при этом оригинальную знаковую систему.
«Случайная» грамматика, или Grammar in use
Г. Стайн увлечена порядком слов на строке («Порядок слов так прекрасно согласован»), ее синтаксис - это продукт ее индивидуального поэтического ритма. Она повторяет одни и те же слова как «двойчатки» (например: «You can duplicate a duplicate», «They duplicate or duplicated this»), но тавтология - цель поэзии, а поэтический язык всегда избыточен («Start Startle Startled abundance»), ведь он стремится к красоте, а не к передаче сообщений. Поэтическая грамматика - это грамматика настоящих открытий в языке («Suppose grammar uses invention»). Новый строй языка становится альтернативой «большой грамматики», поэтический эксперимент на грамматическом уровне также «динамизирует» иные уровни (семантический, звуковой).
Назначение грамматики, по мысли Г. Стайн, в том, чтобы сколь угодно сложную художественную мысль сделать максимально простой для восприятия, то есть вложить максимум смысла в минимум языковых средств. Любая «чрезмерная усложненность» имеет в поэзии свою «конечную простоту». Это не простой язык, а язык, обладающий неясностью (obscurity), запутанным порядком. Эта «запутанность», сложность образуется с помощью многообразных ритмических перебивок, или смысловых сдвигов. Это - конструктивная «запутанность», в ней заложена потенциальная множественность смыслов, событий: «Как я уже сказала вещь кажущаяся очень ясной может легко оказаться вовсе не ясной, вещь кажущаяся запутанной может быть очень ясной»; «Каждое слово из тех что я использую когда пишу имеет какую-то удивительную природу <...> Мне нравится слово я увлечена словом словом имеющим много значений много употреблений придающих каждому слову много различных значений».
«Динамическая» грамматика Гертруды Стайн позволяет «случаться» тому, что обычным языком не схватывается: «Грамматика облегчает переход от фабрики к огороду», «Грамматика делает масло рыбой» (по законам логики превратить масло в рыбу, а завод - во фруктовый сад невозможно, а на грамматическом уровне - легко). Так грамматика открывает места для новых, неожиданных смыслов, или, выражаясь языком русских формалистов, здесь синтагматический порядок текста не определяется парадигматическим, а напротив - «этот самый парадигматический порядок демонстрируется как синтагматическая или конструктивная организация».
Проводя свои грамматические опыты, Г. Стайн следует особой поэтике грамматической ошибки («Всегда когда слова открываются сознанию возникает ошибка»). Теперь, как только слово предстает перед читателем, читатель должен осознать значимость той ошибки, которая была совершена. Только тогда он сможет войти в языковую лабораторию автора и воспользоваться всеми преимуществами нового поэтического языка. Об этом же, по-видимому, говорил Ю.Н. Тынянов в статье
В одном из словесных экзерсисов Г. Стайн, включенных в эссе «Предложения» («Sentences»), встречаем такой оборот:
«A lake is an article followed by a noun»
Первое, что приходит на ум при чтении данной фразы, - это фрагмент из урока английской грамматики, но, заметим мы, грамматики поэтической.
Действительно, слово «a lake» получает здесь грамматическое определение - как «существительное с артиклем». Однако, имея в виду, что «а lake» не закавычено и словарно не отделено от определения, мы (и сам автор) констатируем алогизм: озеро как таковое, очевидно, совсем не часть речи, а часть окружающего ландшафта. Так на отдельной поэтической строке происходит процесс бифуркации, или в терминах лингвистической философии - парадокса, языковой игры. Грамматическая семантика дробится и достигает новых уровней смысла. Поэтический язык обнаруживает глубокие возможности, заложенные в грамматических формах естественного (общелитературного) языка.
В самом деле, можно сказать, что Г. Стайн создает целые серии упражнений по грамматике, например:
«A sentence is made of an article a noun and a verb. The time to come is a sentence»
Необычность этой грамматики состоит в том, что она творится «здесь и сейчас», на поэтической строке. Такая грамматика получает в творческой концепции Г. Стайн определение «мгновенная» («This makes instant grammar»).
Ритм и ритмичность
«Я верю в абсолютный ритм» Э. Паунд
У Гертруды Стайн «регулярная» (regular) грамматика уступает место «нерегулярным» (irregular) грамматикам. Далее, употребляя определение «мгновенная грамматика», писатель подразумевает, что ее движущей, но одновременно и сдерживающей силой является поэтический ритм. Движущей - в том смысле, что нормативная грамматика перманентно разрушается, а сдерживающей - потому что при этом образуются новые формы и связи, как бы «мгновенные слепки» творимого языка. Ритм реализуется здесь не как однообразное повторение («принцип метронома»), а как «импульсы», как «ритм со случайными биениями». Это, говоря языком математики, - аритмия ритма, т.е. ритм в случайных числах (здесь нам близко геологическое понимание ритма А. Колмогоровым, как «ритма вулканов» в противоположность «ритму гейзеров»). Ритмичность поэтической речи заключается в колебании между использованием значений, закрепленных в языке, и значений, вкладываемых поэтом-авангардистом. У Г. Стайн это прежде всего выражается в сложнейшей комбинаторике языковых элементов («Много много случаев дистрибуции реконструкции и реставрации»), когда синтактика мгновенных, случайных форм определяет множественный, но цельный мир семантики:
«Reform the past and not the future this is what the past can teach her reform the past and not the future which can be left to be here now here now as it is made to be made to be here now here now.
Reform the future not the past as fast as last as first as third as had as hand it has it happened to be why they did. Did two too two were sent one at once and one afterwards» («Patriarchal Poetry»)
Интерпретируя данный отрывок в семиотическом ключе, можно сказать, что здесь цельность семантики (общие представления автора о времени, прошлом и будущем, первом и последнем, мгновенном и последующем) реализует себя посредством ограниченного числа комбинируемых грамматических форм («reform», «past», «future», «left», «to be», «here», «now», «made», «as», «two», «one») в множественности возможных смыслов (например, слово «now» в зависимости от положения в синтаксическом ряду - «to be here now», «left to be here now», «here now as», «here now here», «made to be here» и т.д. - будет обретать самые различные и неожиданные смыслы). Ритм как раз и состоит в этой заданности бесконечного мира семантики конечным числом языковых единиц и их сочетаний, а цельность, органичность придает ему замысел автора-экспериментатора.
Только у таких экспериментальных авторов, как Э. Паунд (ср. его «Я верю в абсолютный ритм»), Дж. Джойс (в «Улиссе» говоривший о «структурном ритме»), В. Маяковский («ритм - основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом», А. Белый и, конечно же, у Г. Стайн; только в ритмических текстах, по словам В. Налимова, «возможно прямое обращение к континуальному сознанию, когда в силу внутреннего семантического ритма несинонимичные слова сливаются в единые смысловые поля». Ритм - организация языка экспериментально-поэтическим способом.
Между тем, ритм также связан с восприятием текста читателем. В этом случае можно говорить о «ритмическом моменте», как раз нарушающем автоматизм восприятия. Е. Петровская, рассуждающая о стайновском «словаре раскрепощенных ритмов», употребляет применительно к рассматриваемой нами ситуации понятие «ритмический стык», определяя его как «опыт смысловой недостаточности». Имеется в виду, что при нарушении синтаксических связей в предложении, в уме читателя возникает ситуация бессмыслицы, семантического осложнения, и для адекватного восприятия текста требуются дополнительные (отсюда - «недостаточность») «раскодирующие» механизмы. Следовательно, осложненный ритм создает сложную (комплексную) знаковую систему, язык более высокого уровня. Рассмотрим пример:
«Eat ting, eating a grand old man said roof and never never re soluble burst, not a near ring not a bewildered neck, not really any such bay.
Is it so a noise to be is it a least remain to rest, is a so old say to be, is it a leading are been. Is it so, is it so, is it so, is it so is it so is it so» («Tender Buttons»)
Необычная расстановка знаков препинания; неправомерная с точки зрения нормативного синтаксиса сочетаемость слов («old man said roof’, «not a near ring», «so a noise», «a least remain to rest», «a leading are been»), морфемные разрывы («eat ting», «re soluble»), фразовые повторы («is it so is it so») - все это факторы поэтического ритма. Логико-грамматические сбои происходят одновременно на различных уровнях текста.
Грамматика «плюрализуется, появляются многие грамматики взамен одной «большой» - разные наборы правил применительно к каждому конкретному усилию письма и соответственно чтения». «Мгновенная грамматика» или «грамматика ad hoc» обнаруживает здесь принцип «многое в едином» (ср. «concrescence» Альфреда Уайтхеда). Единство (то, что позволяет говорить о новом языке) в данном случае обеспечивается индивидуальным поэтическим ритмом Г. Стайн, или тем, что сам автор называет «композицией» (см. ее эссе «Composition as explanation»).
Повтор как скелет ритма
В очерке «Портреты и повторы» Гертруда Стайн пишет: «Композиция в которой мы живем изменяется но по существу то что происходит не меняется. Мы внутри себя не меняемся но то как мы расставляем акценты и мгновение в которое мы живем изменяются. То есть каждое последующее мгновение существования это уже не то же
самое мгновение уже не тот же самый акцент. Так в чем же на самом деле состоит повтор. Об этом очень интересно спрашивать и знать эту вещь очень интересно».
Ритм - это порядок из хаоса, или скорее, серия таких порядков, а значит - ритма не может существовать без того, что повторяется (элементы серии). Язык Г. Стайн, как и всех остальных авангардистов, - это не хаос, как может казаться на первый взгляд, это так или иначе система повторов. (На самом деле абсолютный хаос в языке невозможен - его наличие означало бы, что ни одна буква, фонема, морфема не повторялась бы, что трудно вообразить. Так же и математики говорят, что получить абсолютно случайное число невозможно.)
Повтор в произведениях исследуемого автора составляет важную часть и даже обусловливает ее грамматику. Вооружившись верой в цикличность («Я верю в повторение. Да. Всегда и всю жизнь нужно сочинять гимн повторению»), Г. Стайн выстраивает свою «поэтику повтора» («<...> иметь любить повторять и тем самым стремиться глубоко понимать»). Повтор того или иного элемента (фонологического, графического, морфологического, лексического) не является механическим. Повторяющийся элемент серии всегда оказывается в особом синтаксическом положении, как раз неповторимом. По замечанию Ю.М. Лотмана, «одинаковые (то есть «повторяющиеся») элементы функционально не одинаковы, если занимают различные в структурном отношении позиции». Проиллюстрируем этот феномен на примере:
«The spider says
Listen to me I, I am a spider, you must not mistake me for the sky, the sky red at night is a sailor’s delight, the sky red in the morning is a sailor’s warning, you must not mistake me for the sky, I am I, I am a spider and in the morning any morning I bring sadness and mourning and at night I bring them delight...» («Ида. Роман»)
Слово «morning» в этом абзаце повторяется в чистом виде три раза, а также два раза в видоизмененной форме (омофонической «mourning» и паронимической «warning»), но в каждой отдельной позиции подразумевает новый смысл; а то, что здесь повторяется, - это лишь знаки ритма (звуковые, графические, морфологические и т.д.). Если бы мы продолжили цитату, мы бы увидели те же самые слова снова и снова, но ритмическое их повторение никогда бы не отменило случайности их окружения, т.е. смысла (ср. название знаменитой поэмы С. Малларме «Как бы ни выпали кости, случая все равно не избежать»). Ведь «поскольку именно одинаковые элементы обнажают структурное различие частей поэтического текста, делают его более явным, постольку бесспорно, что увеличение повторов приводит к увеличению семантического разнообразия, а не однообразия текста».
Рассуждая о повторении, сама Г. Стайн предпочитала говорить не о чистом повторе (repetition), а об особой его разновидности, названной ею словом «insistence». Этим словом-термином подразумевается, что повторяемый элемент претерпевает с каждой новой серией минимальное, но значащее различие («slightest change»): происходит структурный сдвиг. Например, в следующем примере из книги «Как писать», сдвиг происходит на фонологическом уровне:
«Opium den opium then opium when»
Русский перевод этой строки-серии мог бы звучать так: «Опий притон опий притом опий потом». И здесь подобным же образом обнажается фонологическая структура, при этом общий смысл английского варианта сохраняется.
В обыденном языке, а также в языке так называемой «классической» поэзии, грамматические и фонологические единицы повторяются, как правило, «в чистом виде», по предсказуемой схеме (в этом залог коммуникации, будь то бытовой, или эмоционально-стилистической). В языке Г. Стайн эти единицы «переформируются» с каждым новым повтором (ср. «повтор с вариациями» А. Белого), вот почему можно говорить о грамматике, которая «может быть пересоздана» (см. название статьи).
Г. Стайн спрашивает: «Если произведен звук который нарастает а затем прекращается сколько раз он может повториться». Учитывая последние два приведенные примера (а по существу весь корпус текстов автора), ответ мог бы быть таким: до тех пор, пока не исчерпают себя структурные запасы английского языка. В данном случае важна не сумма этих структур (как в грамматическом справочнике), а их частное - то есть их динамическая взаимосоотнесенность, процессуальность. Не случайно Г. Стайн так увлечена перечислением слов, впрочем не совсем обычным перечислением: «Один плюс один плюс один плюс один плюс один. Вот естественный способ продолжать подсчет <...> Это имеет теснейшее отношение к поэзии». Добавим, что такое бесконечное перечисление - это начало фрактала (одно из его свойств - оказываемое им гипнотическое воздействие). Условно поэтику Г. Стайн можно было бы назвать фрактальной поэтикой, по аналогии с существующими названиями «фрактальная геометрия», «фрактальная логика». Заметим, что фрактал - графическая иллюстрация бесконечных процессов самоподобия. Дать определение фракталу невозможно, но так же невозможно однозначно определить поэтику Г. Стайн.
Еще одно ключевое слово Г. Стайн - «incantation», то есть поэзия как заклинание (прежде всего заклинание самого языка). Здесь несомненна связь поэтического слова с ритуалом: таким способом современное экспериментальное слово смыкается со словом архаическим, становясь по-новому синкретичным. Эндрю Уэлш, автор книги «Корни лирики» имеет в виду именно это, когда говорит о «языке чарующего мелоса». Это язык сил, и эти силы исходят не из конкретных лексических значений, архаических либо обыденных, но от несколько иных значений, тех, что запрятаны глубоко в структуре звука и ритма. М. Дековен, автор исследования о Г. Стайн, называет эти «иные значения» досимволической сигнификацией, а эти силы, магические силы, и есть силы экспериментального письма.
Процесс как истинный объект описания в языке
Гертруда Стайн постоянно подчеркивает процессуальность языка, бесконечное, неравновесное движение смысла от слова к слову: «Что-то завершить, то есть продолжать что-то завершать, то есть быть тем кто не прекращает что-то завершать так что это что-то это такая вещь о которой любой может сказать что это завершенная вещь это уже кое-что»; «Это звучит так как если бы это могло быть завершением чего-то что характерно для ответа на вопрос но это не так это было всего лишь тем что продолжается».
Как видно из данных примеров, слова Г. Стайн говорят сами за себя (и о самих себе в том числе). Ритуальность поэтического слова основана на процессе, конкретно - на процессе производства значений и смыслов. Сущность формы в экспериментальной поэтике - не структура, а процесс. Упор в грамматике Г. Стайн делается на категорию длительности (continuity), продолженного времени. В общефилософском плане эти идеи были созвучны теориям Альфреда Уайтхеда, которого сама писательница считала своим единомышленником, наряду с Бертраном Расселом.
Уайтхед провозгласил «принцип процесса» в своей книге «Процесс и реальность» (1929): «Каждое действительное существование можно описать только как органический процесс». Если же задаться вопросом «что описывает язык Г. Стайн?», ответ будет таков: «процессы мира». Или лучше: «становление нового», тот вид текучести, который Уайтхед называет «переходом». В лингвистике данному переходу будут соответствовать языковые отношения, которые стремится пересоздать, переосмыслить автор-авангардист.
По наблюдению Ю.С. Степанова, в рассматриваемую эпоху параллельно с зарождением абстракции в искусстве и литературе, создается новая философия языка. Главный фигурант нового движения, Бертран Рассел, заявляет: «Мир состоит не из вещей, а из событий». Но о том же говорит и Г. Стайн, хорошо знакомая с теориями Рассела и многому у него научившаяся: слова не описывают реальность, а сами ею являются:
«Поранена собрана трость, поранена собрана чашка, поранен собран предмет небывалых отдохновения и раздражительности, поранен собран, поранен и собран это так нужно что ошибка недопустима».
Важным оказывается не описание трости, чашки, любого другого предмета, и даже не факт их наличности (референция), а те события, которые происходят в семантическом мире (трости, чашки здесь тоже события, как и «пораненность», «собранность», «небывалость»).
Поэтическая логика
Как следует из предыдущего параграфа, логика также претерпевает в экспериментальном письме существенные перемены. Уже не работает старая оппозиция «истинность-ложность высказывания». Так как референция отрицается, отпадает и ее логическая двойственность. Тот же Б. Рассел отмечает наличие особой, парадоксальной логики в некоторых ситуациях высказывания о мире. Так, он обращает внимание на следующий пример (ставший с тех пор популярным). Естественно сказать: «Я знаю, что идет дождь». Но логически справедливой будет также фраза: «Я знаю, что я знаю, что я знаю... что идет дождь».
Описанный случай называют «бесконечной итерацией». Г. Стайн говорит о том же, когда приводит свой пример:
Rose is a rose is a rose is a rose is a rose.
Данная серия из слов потенциально бесконечна (актуально она ограничена лишь волей художника, задающего период повторения). Итерация здесь самодовлеюща: каждый новый предикат отсылает к следующему или предыдущему и в логической состоятельности не нуждается. Так рождается логика, еще более парадоксальная, чем расселовская - логика поэтическая.
Части речи и части мира
Остается еще один вопрос: если мы признаем, что писатель пользуется речью (хотя и со своеобычной логикой), то какими значениями наделяет автор части этой речи? На этот счет у Г. Стайн имеется своя собственная теория частей речи (сходные идеи выдвигались и В. Хлебниковым). В эссе «Поэзия и грамматика» она предпринимает «разбор» слов как частей речи и, утверждая, что «словам в поэзии приходится делать все», намечает контуры своей поэтической грамматики, где слово становится чрезвычайно ответственным за передачу смысла, эмоций и состояний.
Первым рассматривается имя существительное. Задаваясь вопросом «зачем писать существительными», Г. Стайн заявляет: «<...> я все чаще и чаще это повторяю существительными не воспользуешься». Имена (существительные) не передают сущностей, потому что сущности постоянно видоизменяются, а имена не поспевают за ними (ср. с «нехваткой имен» Рассела): «Как я утверждаю существительное это имя вещи, а потому постепенно если начинаешь ощущать то что внутри этой вещи ты уже не называешь ее именем под каким она известна».
То же самое верно и в отношении прилагательных: «прилагательные не являются по настоящему интересными». Если сами предметы не постоянны, то признаки их тем более не уловимы. Соответственно, эпитет и метафора как таковые исключаются из арсенала выразительных средств писателя: поэзия здесь творится не стилистическими инструментами, а как бы «экстрастилистическими» сущностями. Глаголы и наречия признаются Г. Стайн более эстетически адекватными, ведь они способны описывать процессы и, соответственно, образы процессов. К тому же, эти части речи логически менее определенны и поэтому «могут так сильно ошибаться», ошибаться бесконечно. (Скажем, назвав самолет мышью, мы погрешим и против истины, и против здравого смысла, и даже удачной метафоры из этого не получится; однако сказав, что «это движется», или, например, «это заставляет нас трепетать», мы тем самым прекрасно согласуем эти предметы/существа в единую, гармоническую конструкцию). Ошибка в поэзии хороша тем, что открывает пути для бесконечного смыслообразования: «Помимо способности ошибаться и делать ошибки глаголы могут меняться и быть похожими на себя или быть похожими на что-то другое, они, так сказать, в движении и наречия движутся вместе с ними...».
В качестве любопытной теоретико-лингвистической аналогии этому явлению приведем наблюдения американского лингвиста Б. Уорфа, исследовавшего в 1930-х гг. периодизацию времени в языке хопи. Так же, как Г. Стайн в своей грамматике, он выделяет в хопи особые части речи, отличающиеся от существительных и глаголов и представляющие собой особые формы наречий. Условно называя их «temporals» («временные наречия»), он отмечает, что они не употребляются ни как подлежащие, ни как дополнения, ни в какой-либо другой функции существительного. Так, нельзя сказать «this summer», а следует - «summer now», «summer recently» и т.д. Вместо английского «in the morning» надо говорить, например, «while moming-phase is occurring».
Т.е. здесь «нет никакой объективации (например, указания на период, длительность, количество) субъективного чувства протяженности во времени». Иначе, действительность осмысляется в хопи не как совокупность объектов, а как движение, процесс. К подобному же пониманию стремится и Г. Стайн, отказывая существительным в способности именовать мир. Ее поэтический микрокосм, как и микрокосм хопи, «анализируя действительность, использует главным образом слова, обозначающие явления (events, или точнее eventing)».
Излюбленными формами у Г. Стайн являются герундии (gerunds) и причастия (participles). Грамматическая семантика этих форм - выражение «движения», «непрерывности», «продолженности». Следуя своей тактике «поймать движение в его неопределенности» Г. Стайн радикализировала аналитизм английской грамматики, утрируя употребление этих форм, создавая герундиальные образования («meaning», «liking», «knowing»), заставляя субстантивы «растягиваться» и тяготеть к глагольным формам («loving» вместо «love»).
Причастие настоящего времени (the present participle) создает эффект «замедления» или «растянутости» синтаксического ритма. Практически весь текст «Становления американцев» строится на употреблении этих форм, что в целом соответствует установке автора на мгновение поэтической речи («present immediacy»), на длящееся настоящее. Здесь же отметим, что герундий, в частности, осмысливается автором как передающий «стасис движения», мгновенный снимок процесса. Субстантивируя процесс, он как бы заключает его во временные скобки, нечто вроде гуссерлевского «эпохе», и таким образом делает процесс воспринимаемым. Вот пример из «Становления американцев»:
«Some slowly come to be repeating louder and more clearly the bottom being that makes them. Listening to repeating, knowing being in everyone who ever was or will be living slowly came to be in me a louder and louder pounding».
Нагнетание «длительных» форм - причастий («repeating», «listening»), герундиев («repeating», «pounding»), субстантивов («being») - нацелено на описание процессов и становления. Так поэтический опыт заполняет смысловые поля, недоступные обычному языку. Возвращаясь к аналогии с лингвистическими наблюдениями Б. Уорфа, заметим, что в языке хопи время представляется и переживается как реальное время. В отличие от английского языка, в котором существуют такие формы, как «summer», «September», «sunset», т.е. субстантивы со значением времени, в хопи есть сознание becoming later and later («становления более поздним»); время представляется «повторяющимся периодом, подобным предыдущему периоду в становлении все более поздней протяженности». Мышление, выраженное в языке хопи, как и поэтическое мышление Г. Стайн, - сериально. (Еще один пример, делающий нашу аналогию убедительной: в хопи вместо того, чтобы сказать «phase» или «phases», скажут «phasing», так и у Стайн - «loving» вместо «love», «timing» вместо «time».)
Следующим звеном в частеречной теории Г. Стайн являются служебные слова, парадоксальным образом переходящие в языке автора в разряд знаменательных. Имеются в виду прежде всего артикли: «Артикли интересны точно так же как неинтересны существительные и прилагательные». Артикли, не называя имен, говорят об этих именах что-то гораздо более существенное: об их определенности/неопределенности, абстрактности/конкретности, отсутствии/присутствии и т.д. Не называние предмета, а указание на него (кстати, общее место в эстетике авангардизма) - в этом функция артикля по Г. Стайн: «...артикль остается в качестве чего-то утонченного и полного разнообразия и любой кто хочет писать артиклями и знает как их употреблять всегда будет иметь то удовольствие какое употребление чего-то полного разнообразия и живого может принести. Вот что такое артикли».
По мысли русского философа Я. Абрамова, рассуждающего о сущности артикля, артикль - это «первослово» и в то же время «это наиболее абстрактный элемент языка, передающий смысловую конкретность другим элементам, это конкретизирующая абстракция, то «свое» для каждого, что является «общим» для всех». Артикль «движется в мире значений, <...> артикль - средство артикуляции самого языка, слово-магнит, вытягивающее слово из других слов». Стоит добавить, что само слово «article» в английский язык пришло из латинского, где «articulus» означало «часть, частица чего-то». Этот факт, учитывая место, отводимое Г. Стайн артиклю в своей грамматике, точно согласуется с ее установкой на минимализм, с его поисками элементарных частиц (particulars) языка. На тот же счет можно отнести излюбленные ею частицы как части речи (particles), а также причастия (participles). Часть предстает не менее важным понятием, чем целое.
Завершают обрисовываемую нами систему частей речи у Г. Стайн местоимения. Вот что говорит о них автор: «Они представляют кого-то но не являются его (its or his) именем». Поэтому «у них уже есть большая возможность чем-то быть чем если бы они были как существительное которое является именем чего-либо».
Местоимения принадлежат к группе так называемых «эгоцентрических слов», которые определяют язык большинства абстрактных произведений Г. Стайн. Интересный пример использования местоимения в качестве ономатопеи содержится в ее книге «Портреты и молитвы» («Portraits and prayers»):
«Не he he he and he and he and and he and he and he and and as and as he and as he and he. He is and as he is, and as he is and he is, he is and as he and he and as he is and he and he and and he and he» («Портрет Пикассо»).
В данном примере смысловая многозначность реализуется неопределенностью слова «he», могущего потенциально отсылать к бесконечному количеству субъектов мужского рода (а отнюдь не только к личности художника Пикассо). К тому же здесь имеет место дополнительная кодировка - на звукоподражательном уровне (по-английски получается - имитация «хихикания»). Подобная «двойная» кодировка позволяет приписать слову «he» в данном поэтическом произведении два статуса (здесь нами используются термины квантовой механики): статус «частицы» и статус «волны». Как местоимение мужского рода третьего лица единственного числа «he» является грамматическим элементом языка (т.е. «частицей» в нашей трактовке), но в сочетании с другими «he» это - уже чисто фонетическая «волна» (подражание человеческому смеху). Так, следуя своеобразному поэтическому «принципу неопределенности», писатель творит новую «поэтику эгоцентрических слов».
Итак, местоимения дополняют список единиц речи, долженствующих переосмыслить саму эту речь и путем эксперимента наполнить ее новыми формами и содержаниями. Местоимения, союзы, частицы, междометия - это так называемые шифтеры (по Р. Якобсону, введшему термин), то есть «переключатели», их назначение - работа по «управлению» смыслами. Именно с помощью этих «операторов» строит язык большинства своих произведений Г. Стайн.
* * *
И грамматика, и фонология, и семантика, и даже поэтическая графика - все это составляет тот огромный фонд, из которого читатель или исследователь творчества Гертруды Стайн имеет возможность черпать новые смыслы и, при более широком рассмотрении, новые подходы к осмыслению языка и лежащей за ним действительности. «Язык в качестве реальной вещи не есть подражание звукам краскам или эмоциям это есть интеллектуальное воссоздавание (recreation) и в этом не может быть никаких сомнений и таковым он будет продолжать оставаться пока человечество что-нибудь значит. Поэтому каждый должен находиться при языке при своем языке на котором говорят и пишут и который содержит в себе всю историю своего интеллектуального воссоздания».
Л-ра: Известия АН. Серия литературы и языка. – 2003. – № 1. – С. 17-29.
Произведения
Критика