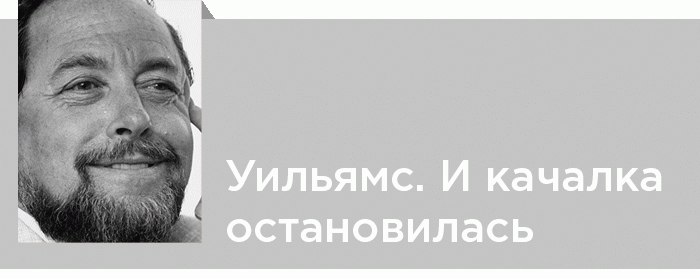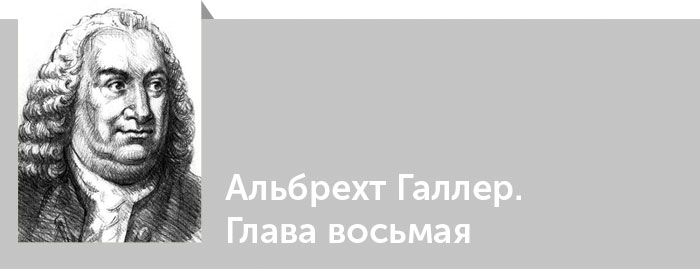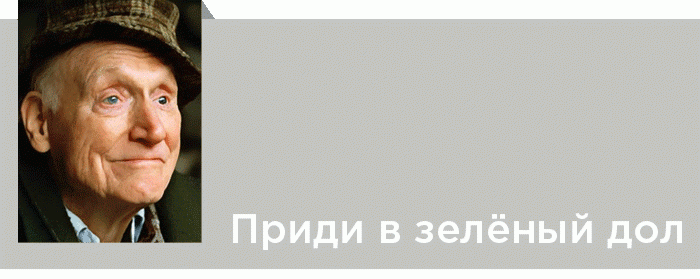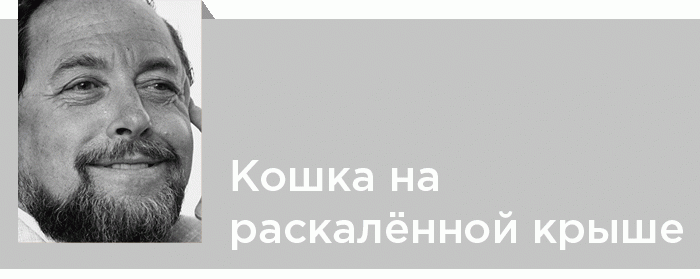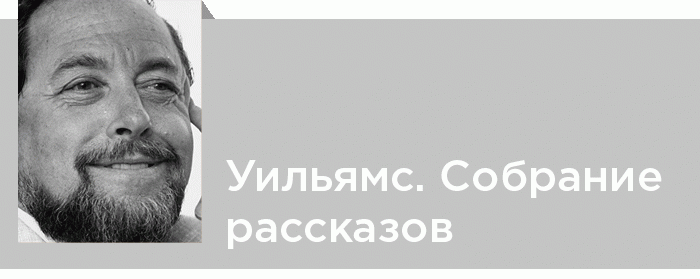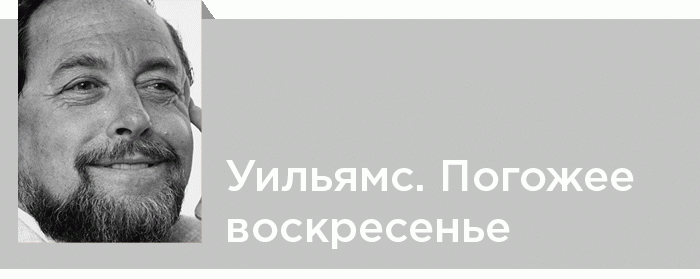Теннесси Уильямс. Поле голубых детей
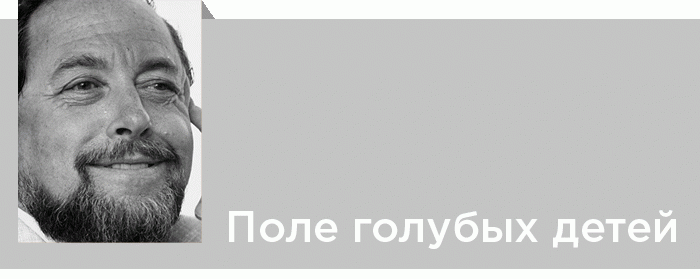
В ту весну, когда Майра оканчивала университет штата, непонятное ей самой беспокойство овладело ею. Нет, то не было обычное беспокойство бьющей через край юности. К нему примешивалось какое-то нервное возбуждение. Что бы она ни делала, за что б ни бралась, от всего оставалось чувство неудовлетворенности. Даже возвращаясь с танцев из клуба студенческой корпорации, где она весь вечер была нарасхват, Майра не испытывала настоящей усталости, от какой валишься с ног. Ей словно не хватало чего-то, чтобы ночь обрела полную завершенность. Иной раз на нее нападал страх, острый, даже панический – ей казалось, что она то ли потеряла, то ли забыла что-то ужасно важное. На миг она замирала на месте, сосредоточенно морщила лоб, – пыталась вспомнить, что же это такое выскользнуло у нее из рук: осталось не то за громыхающим сиденьем старенького «родстера», который Керк Эббот одалживал у соседа по общежитию, не то на диване в тускло освещенном фойе клуба, где они сидели в перерыве между танцами.
– Ты что? – спросит, бывало, Керк или еще кто-нибудь, а она в ответ рассмеется резким отрывистым смехом.
– Ничего. Мне все кажется, я что-то забыла.
Ощущение это не проходило и тогда, когда все как будто оказывалось на месте. Чего-то ей все-таки не хватало. Возвращаясь в женское общежитие своей корпорации, она ходила из комнаты в комнату, рассказывала о разных забавных происшествиях минувшего вечера и хохотала до упаду, хоть они были и не такие уж смешные. А когда наконец все укладывались спать, она одна бодрствовала у себя в комнате и порою, сама не ведая почему, вдруг начинала горько плакать, зажимая подушкой рот, чтобы не услыхали соседки; или же усаживалась в пижаме на широкий низкий подоконник и смотрела на университетский городок – на его корпуса, деревья и лужайки, окутанные прекрасным синим сумраком весенней ночи, на белеющий снежной вершиной купол главного здания, на звезды, поразительно крупные и близкие – и ей казалось, они вот-вот задохнется от нахлынувшего на нее чувства, природу и смысл которого ей не дано понять.
Когда ватага полупьяных кавалеров, которым тоже не спалось после затянувшихся допоздна танцев, останавливалась у ее дома, чтобы пропеть серенаду, она включала лампочку у кровати и, свесившись из окна, беззвучно била в ладоши, изображая бурные аплодисменты. Потом они уходили, она выключала свет и возвращалась к окну, и ей было грустно, невыносимо грустно от того, что хриплые их голоса удаляются и замирают где-то на залитых луною аллеях или же их заглушает шум отъезжающей машины – взревет мотор, простучит взметнувшийся из-под колес гравий, и вот уже слышно лишь тихое, музыкальное жужжание, а затем вновь воцаряется глубочайшее синее безмолвие ночи.
А она все сидела у окна, с комом в горле, и ждала: вот-вот придут слезы, она выплачется, и ей станет легче. Если же слезы не шли, бдение ее иной раз длилось до утра, покуда это болезненное беспокойство не проходило само собою.
В ту весну она взяла у Керка значок его студенческой корпорации [1], но после этого в жизни ее мало что изменилось. Все так же ходила она на свидания с другими. Шла почти с каждым, кто и куда бы ее ни пригласил, а если Керк сердился, даже не пыталась ему объяснить, какое жгучее беспокойство толкает ее на это: просто целовала его, покуда он не умолкал, готовый простить ей все, что угодно, чуть не любую ее выходку.
С юности – нет, пожалуй, с отрочества Майра писала стихи, но только изредка. А в ту весну это стало для нее постоянной потребностью. Она сделала открытие: если волна необъяснимого беспокойства взмывает так, что нет сил его вынести, стоит взяться за перо, и на душе становится легче. Отдельные строчки, рифмованные двустишия, а порою и целые строфы вдруг вспыхивали у нее в мозгу, отчетливые и законченные, словно картинки, отбрасываемые на экран волшебным фонарем. Красота их ошеломляла ее – порой это было сродни религиозному экстазу. Она застывала на месте, из груди вырывался вздох. И всякий раз казалось: еще немного, и ей откроется новая, дотоле неведомая область человеческой мысли. Чувство такое, будто стоишь на самой грани огромного, объятого мраком пространства, и оно вот-вот расцветет чудесным кристаллом света – совсем как бальная зала: за мгновение перед этим темная, она вдруг озаряется солнечно-ярким сверканием хрустальных люстр и бра, отражаемым зеркалами и до блеска натертым полом. В такие минуты она выключала свет в комнате и бросалась к окну. Когда она смотрела на темно-багряный город, на белоснежный купол главного корпуса, высящийся над остальными зданиями, или же, как зачарованная, слушала взлетающие над тихими улочками голоса – то грустные напевы, то хохот мчащихся на велосипедах парочек – приоткрывшаяся перед ней красота уже не причиняла жгучей боли, непонятное умиротворение нисходило на нее, словно вдруг разрешился какой-то мучительный вопрос и жизнь сразу стала гораздо проще и приятней.
«Слова– это сеть, которою ловят красоту!»
Фразу эту она записала на одном из последних листков тетради, во время лекции о финансовых полномочиях конгресса. Был конец апреля; в тот день она поняла, чего хочет, и с тех пор необъяснимое смятение уже не так терзало ее.
В кружке любителей поэзии, куда входила Майра, был один юноша, звали его Гомер Столлкап. Он был влюблен в нее – уже год или больше. Майра догадывалась об этом по тому, как он поглядывал на нее во время занятий кружка – только там они и виделись. Гомер никогда не смотрел ей прямо в глаза: скользнет по ней взглядом и все: но по его лицу и даже по напряженной позе – он сидел, сжавшись, обхватив руками колени – она понимала: он ощущает ее присутствие, Гомер никогда не садился с нею рядом или напротив нее (стулья обычно были расставлены кружком), и она сперва даже решила, что он ее недолюбливает, но постепенно поняла, что робеет он совсем по другой причине.
Гомер не входил ни в одну из студенческих корпораций. Чтобы платить за комнату и еду, работал официантом в студенческой столовой, уборщиком, истопником, В том кругу, к которому принадлежала Майра, с ним никто не водил знакомства, его попросту не замечали. Был он низенький, коренастый, смуглый. Майра находила, что он привлекателен – правда, на свой, особый лад: горящие черные глаза, прямой нос с широкими ноздрями, уголки подвижного, красиво очерченного рта нервно подергиваются. Движения чересчур размашистые и резкие. Вставая со стула, он едва не опрокидывал его. Когда закуривал сигарету, лицо его искажалось в свирепой гримасе. Обгорелую спичку он швырял так, будто это зажженная шутиха.
Гомера часто видели с девушкой одного с ним типа – из интеллектуалов. Эту самую Герту – как ее там дальше, никто толком не знал – в университетском городке приметили: очень она была странная. На семинарах ее заносило – высказываясь на какую-нибудь волнующую тему, литературную или политическую, она говорила быстро, взахлеб – никто не мог разобрать, о чем, собственно, речь; при этом она брызгала слюной, хватала ртом воздух, взмахивала в ажиотаже руками, словно пытаясь схватить какой-то невидимый предмет; дело кончалось тем, что аудиторию сотрясал взрыв хохота, а преподаватель отворачивался к доске, чтобы скрыть улыбку. Выглядела эта пара нелепо: Герта – а она была на две головы выше Гомера – шагала впереди, таща своего спутника за рукав пиджака, словно боялась, как бы он не удрал; то и дело кто-нибудь из них (а иногда оба сразу) разражался неистовым хохотом, который был слышен за целый квартал.
Гомер писал стихи сложные. И неровные. Местами в них чувствовалось влияние Харта Крейна, местами же наивной ясностью они напоминали Сару Тиздейл. И вдруг какая-нибудь строка, образ, прямо-таки пронзительные по своей свежести, остроте видения. Всякий раз, как Гомер читал свои стихи на занятиях кружка, Герта подпрыгивала на стуле, словно через нее пропускали электрический ток; она обводила пристальным взглядом надменно улыбающиеся лица, и ее близоруко сощуренные глаза сперва требовали, а потом уже только молили остальных присоединиться к бессвязным и неумеренным похвалам, которые так и сыпались из ее влажного рта. Но когда Герта умолкала, одна только Майра давала себе труд хоть что-то сказать о прочитанных стихах. Остальные отмалчивались – кто от растерянности, кто от полнейшего безразличия, а кто и из враждебности. Лицо у Гомера наливалось темной краской, и он до конца занятия не отрывал взгляда от собственных колен. Пальцы его загибали уголки аккуратных страничек, словно стихи с них вдруг смыло или же они вообще не были написаны, и перед ним просто-напросто чистые листки, которые он только затем и взял с собою, чтобы было что повертеть в руках.
Майре всегда хотелось высказаться о его стихах поподробней, но набор ее критических суждений был скуден.
– По-моему, прелесть, – только и говорила она. Или: – Мне очень понравилось.
А Гомер так и сидел, не поднимая глаз, лицо его еще больше темнело, и Майра прикусывала язык, словно наказывая себя за этот сухой отзыв. Ей хотелось положить руку на его пальцы, чтобы они перестали теребить аккуратные листочки, чтоб обрели покой.
Только в июне, когда кончилось последнее в том учебном году занятие кружка, Майра решилась заговорить с Гомером. Увидала, что он стоит в конце коридора у питьевого фонтанчика, неожиданно для себя бросилась к нему и выпалила единым духом, что его стихи самые лучшие из ненапечатанных, какие ей доводилось слышать, и что надо ему отправить их в хороший литературный журнал, и что все остальные ребята у них в кружке – просто кретины, раз не сумели его оценить.
Гомер стоял молча, руки в карманах стиснуты в кулаки.
Пока Майра говорила, он не смотрел не нее. Но когда она кончила, больше не смог сдерживать радостное возбуждение. Выхватил из портфеля пачку исписанных листков и сунул ей.
– Вот, прочтите, пожалуйста,– попросил он. – И скажите, как они вам.
По лестнице они спускались вместе. На последней ступеньке Гомер споткнулся, и Майре пришлось схватить его за руку, чтобы он не упал. Ее трогала и забавляла и эта его неловкость, и то, что он не может скрыть, до чего счастлив, идя с нею рядом. Они вышли из белого каменного корпуса, и в лицо им благодатным потоком хлынул лимонно-желтый свет предвечернего солнца. Воздух полнился звонками – было пять тридцать – и воркованием голубей. Белое перышко, выпавшее из голубиного крыла, плавно опустилось Майре на голову. Гомер снял его, засунул за ленту своей шляпы, и, уже распрощавшись с ним, Майра всю дорогу до общежития чувствовала быстрое, легкое прикосновение его пальцев. И все думала: а оставит ли он это перышко у себя, будет ли долго-долго хранить его, как сокровище, – лишь потому, что оно коснулось ее волос.
В ту ночь, когда общежитие погрузилось во тьму, она достала листки со стихами Гомера и прочла их залпом. Чем дальше Майра читала, тем сильней поднималась в ней радость. Многое было ей непонятно, но волнение все росло, все больше овладевало ею. Когда она кончила, ее била дрожь: дрожь, вот как бывает, когда выйдешь из теплой воды и тебя обдаст холодом.
Она оделась, сбежала вниз по лестнице, сама не зная, что будет делать дальше. Двигалась машинально, бездумно. И вместе с тем, никогда еще она не действовала так уверенно. Отперла входную дверь, вышла и, быстро пройдя по вымощенной кирпичом дорожке, свернула влево; все так же торопливо шагала она по залитым луною улочкам, пока не очутилась у здания, где жил Гомер. И сама удивилась тому, что ноги принесли ее сюда.
В ветвях больших дубов трещали цикады – до этой минуты она не слышала их. А подняв голову, увидела над западным крылом большого каркасного дома семь сбившихся в кучку звезд: Плеяды, Семеро сестер. Они жались друг к дружке, словно юные девушки, бредущие через темный лес. Майра прислушалась: ни единого голоса, ни единого звука ниоткуда, лишь стрекочут цикады да едва слышно шуршит при каждом движении ее белая юбка.
Торопливо обогнув дом, она подошла к двери, из которой по утрам появлялся Гомер. Постучала – два отрывистых, четких удара – и всем телом припала к кирпичной стене, дыша прерывисто и часто. Немного спустя постучала еще раз. Сквозь дверное стекло ей были видны ступеньки – спуск в подвал. Там, внизу, приоткрытая дверь и за ней освещенная комната. Сперва показалась тень юноши, а потом и он сам: торопливо накинув коричневый купальный халат, он стал подниматься по лестнице, хмуро глядя вверх, на входную дверь.
Но вот Гомер открыл, и Майра шепотом выдохнула его имя.
Чуть не минуту он простоял молча. Потом схватил ее за руку, втянул в дом.
– Майра, вы?..
– Да, я, – рассмеялась Майра. – Сама не знаю, что на меня нашло. Читала ваши стихи, и вдруг так захотелось тут же немедленно вас увидеть, сказать, до чего…
У нее перехватило дыхание, и она привалилась к закрытой двери. Теперь уже не он старательно прятал глаза, а она. Взгляд ее скользнул вниз, на полы его безобразного халата, из-под которого виднелись босые ноги – такие большие, костлявые, белые, они напугали ее. Ей вспомнилось, как жадно и быстро он окидывал взглядом ее всю, с головы до пят, как его затрясло сегодня вечером, когда она подошла к нему в коридоре, как эти огромные ноги зацепились за ступеньку и ей пришлось подхватить его, чтобы он не упал.
– Одно меня особенно поразило, – сказала она, с трудом выговаривая слова. – Ну, там еще про поле голубых цветов…
– Ах, то! Поле голубых детей, вы хотели сказать.
– Да-да, то самое.
Она осмелела, вскинула глаза.
– Спустимся ко мне, Майра.
– Ой, ну что вы!
– А что тут такого?
– Ну как же так. Если меня здесь застукают…
– Не застукают!
– …меня же выгонят!
Наступило короткое молчание.
– Минутку!
Он стал торопливо спускаться с лестницы, но на третьей ступеньке обернулся:
– Подождите меня, Майра. Минуту, не больше.
Она кивнула – неожиданно для себя самой – и услыхала, как он, стремительно сбежав вниз, ринулся к себе к комнату. Сквозь дверное стекло ей видно было, как мечется по стенам и полу его тень. Он торопливо одевался. В приоткрытую дверь комнаты она на мгновение увидела его обнаженным по пояс, и могучий торс, в тенях от лампы казавшийся чеканным, поразил и неожиданно взволновал ее. В этот миг Гомер вдруг обрел для нее телесную сущность, которой она не ощущала прежде. А теперь ощутила, и гораздо острее, чем, скажем, у Керка Эббота, да и всех других молодых людей, с кем ей доводилось встречаться в университете.
Минуту спустя он вышел из комнаты, закрыл дверь и, бесшумно поднявшись по лестнице, встал перед Майрой.
– Извините, что я так долго.
– Вовсе и не долго.
Он взял ее за руку, они вышли из корпуса и, обойдя его, очутились у фасада. Дуб на газоне перед домом казался великаном, да и все вокруг словно бы увеличилось в размерах, а звуки стали отчетливей, громче – даже похрустывание гравия под их белыми туфлями. Майра так и ждала: вот сейчас из всех окон верхних этажей высунутся шарообразные головы, пронзительные голоса поднимут тревогу, со всех крыш станут выкликать ее имя, и толпы людей устремятся за нею в погоню…
– Куда мы? – спросила она, идя вслед за ним по кирпичной дорожке.
– Мне хочется показать вам поле – то, про которое стихи.
До поля было недалеко. Вскоре дорожка кончилась, и они почувствовали сквозь подошвы туфель бархатистую прохладу земли. Жидкое лунное сияние текло сквозь гущу узорчатых дубовых листьев, игра света и тени превращала пыльную дорогу в мерно струящийся поток. На пути у них стал невысокий забор. Юноша перемахнул через него. Протянул ей руки. Она взобралась на верхнюю планку, и он перенес ее на землю. Но не отпустил, а прижал к себе еще крепче.
«– Вот оно, поле, – сказал он. – Поле голубых детей.
Она глянула за его темное плечо. И правда – по всему полю танцевали голубые цветы. Они клонились под набегающим ветерком: голубые волны бежали по полю с тихим шепотом, и казалось, это приглушенные, едва слышные вскрики играющей детворы.
Майре вспомнилось, как ночами она сидела у окна и горько плакала, сама не ведая почему; как белел снежным пиком купол главного здания, как ходили волнами в лунном свете ветви деревьев; вспомнились безмолвие ночи и поющие голоса – поначалу такие далекие, что наводили грусть, они постепенно приближались – эти глупые, нежные серенады, и аромат таволги, и ясные, как светильники, звезды в разрывах облаков; вспомнилось, как душило ее непонятное волнение, а еще – страх, что через месяц-другой все это кончится, внезапно и навсегда. И она крепче обхватила плечи юноши. Он был ей почти чужой. Ведь до этой ночи она даже не рассмотрела его толком; и все-таки сейчас он был ей невыразимо близок, никогда не было у нее человека ближе его.
Он повел ее через поле, цветы голубыми волнами устремились к ней, и она ощутила обнаженными икрами их мягкие лепестки; стала на колени, раскинула меж цветов руки, приникла губами к их головкам, погрузилась в них целиком; цветы приняли ее в себя, раскрыли ей объятия, и она словно опьянела. Юноша стал на колени рядом с нею, коснулся пальцами ее щеки, потом губ и волос. Теперь они оба стояли на коленях среди цветов и смотрели друг на друга. Он улыбался. Ветерок подхватил прядь ее распущенных волос, бросил ему в лицо. Обеими руками он бережно уложил эту прядку на место, потом ладони его соскользнули ей на затылок, сомкнулись в замок, он притянул ее голову к себе и прижал ее губы к своим, прижимал все сильнее, сильнее, и вот зубы ее вдавились в верхнюю губу, и она ощутила соленый привкус крови. У нее перехватило дыхание, губы раскрылись, и она опустилась навзничь меж шепчущихся голубых цветов.
А потом у нее достало здравого смысла понять, что все это совершенно безнадежно. Она отослала Гомеру его стихи, приложив к ним коротенькую записку. Записка вышла неожиданно официальной и напыщенной – может быть, потому, что она смертельно боялась самой себя, когда ее писала. Майра сообщала Гомеру, что у нее есть жених, Керк Эббот, и они собираются летом пожениться; объясняла, что незачем, невозможно длить то прекрасное, но обреченное гибели, что свершилось минувшею ночью в поле.
Она увидала его еще один только раз. Он шел по студенческому городку с этой своей приятельницей Гертой – долговязой, нескладной девицей в очках с толстыми стеклами. Повиснув на руке у Гомера, Герта вся сотрясалась от нелепо пронзительного хохота, и, хоть его было слышно за несколько кварталов, смех этот был непохож на настоящий.
В августе Майра и Керк поженились. Керк получил работу в телефонной компании в Поплар-Фоллз, они жили в малогабаритной квартирке и были умеренно счастливы. Теперь ею редко овладевало беспокойство. И стихов она больше не писала. Жизнь казалась ей полной и без них. Иной раз она думала: а пишет ли еще Гомер? Но в литературных журналах имя его не встречалось, и она решила, что в общем не так уж они наверно, значительны, эти его стихи.
Но однажды вечером, поздней весной, через несколько лет после свадьбы Керк Эббот, вернувшись со службы усталый и голодный, нашел под сахарницей на откидном столике кое-как нацарапанную записку:
«Уехала часа на два в Карсвилл.
Майра».
Уже совсем стемнело: тихая лунная ночь.
Проехав городок, Майра свернула на юг, и вот она в открытом поле. Она остановила машину, вышла, перелезла через невысокий забор. Поле было совсем такое, каким запомнилось ей. Торопливо шла она по цветам и вдруг разрыдалась, упала средь них на колени. Плакала долго, чуть не час, потом поднялась, тщательно отряхнула чулки и юбку. Она снова была совершенно спокойна и вполне владела собою. Майра пошла обратно к машине. Теперь она знала: больше эта нелепая выходка не повторится. Последние часы ее тревожной юности остались позади.
Произведения
Критика