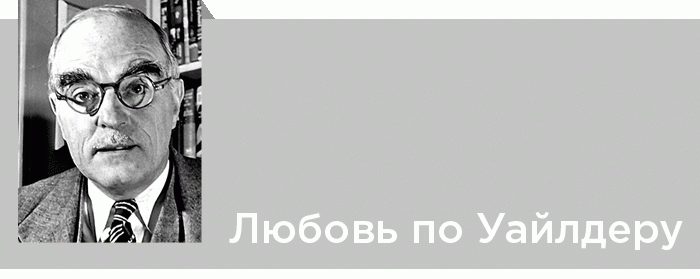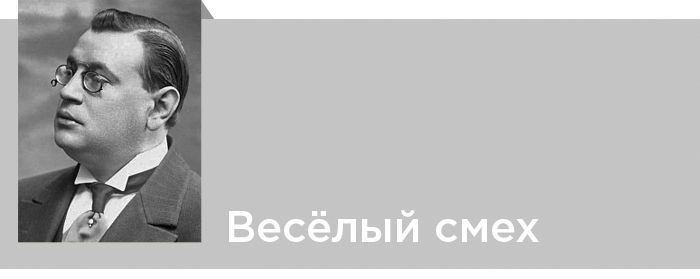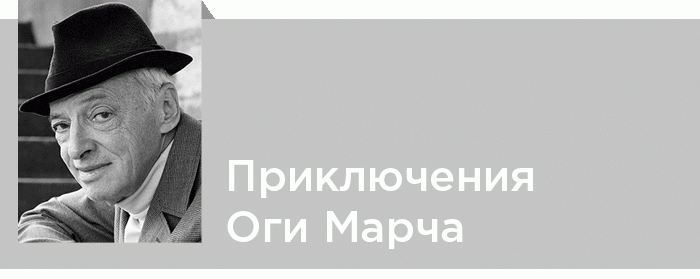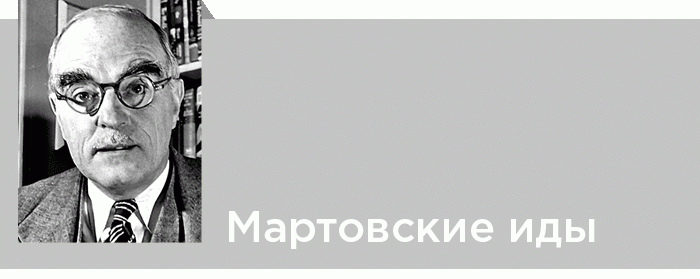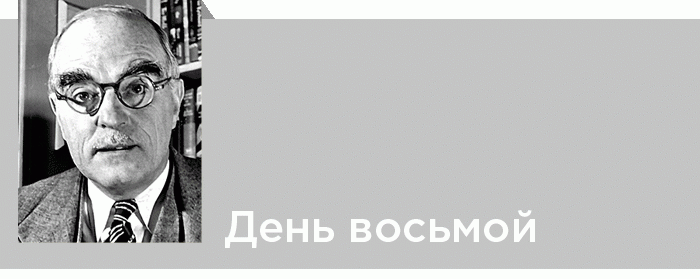Философия истории Торнтона Уайльдера

А. Мулярчик
От Торнтона Уайльдера в Америке уже давно не ждали новых произведений. Кумир 20-х годов, автор одной из наиболее читаемых книг десятилетия — романа «Мост короля святого Людовика» (1927), после войны он отошел от активных занятий литературой. Опубликовав в 1948 году роман «Мартовские иды», Уайльдер, казалось бы, затем добровольно отодвинулся в тень, стал одним из «бывших», подобно пережившим свою славу Джону Дос Пассосу и Джеймсу Фаррелу. Но вот весной 1967 года из печати выходит «Восьмой день», сразу же возглавивший списки бестселлеров, и критика вновь пишет об Уайльдере, о его нестареющем мастерстве стилиста и рассказчика, о его далеко не оригинальной, но талантливо и настойчиво развиваемой в каждой новой книге философской концепции истории.
Начиная с романа, принесшего ему славу, Уайльдера-прозаика (ибо он еще и знаменитый драматург, лауреат двух Пулитцеровских премий, присужденных ему за пьесы «Наш городок» и «Зеница ока») никогда не покидает ощущение безбрежности всеохватности реки времени, которое втягивает в свои водовороты случайные человеческие судьбы. Задаваясь трансцендентными вопросами: что есть человек? случай или закономерность движут его судьбой? в чем счастье жизни и существует ли оно? — Уайльдер вычерчивает свои философско-литературные схемы на любом, но преимущественно на экзотическом историческом фоне. С одинаковой легкостью он пишет и о средневековом Перу, и об античной Греции, и о цезаристском Риме. В «Восьмом дне» он, наконец, возвращается к себе на родину. Перед нами Америка на рубеже XIX и XX столетий.
Композиция нового романа Уайльдера напоминает нехитрую фабулу обычного детектива. Весь сюжет книги — в ее первом абзаце: «В начале лета 1902 года в Коултауне, маленьком шахтерском городке южного Иллинойса, состоялся суд над Джоном Баррингтоном Эшли, обвиненном в убийстве Брекенриджа Лансинга, местного жителя. Эшли был признан виновным и приговорен к смерти. Пять дней спустя, во вторник, 22 июня, глубокой ночью, он бежал из-под стражи из поезда, который вез его к месту казни». И Уайльдер пользуется этим вымышленным инцидентом судебной хроники как поводом для сосредоточенного размышления о судьбах американского народа и всего человечества.
В рецензиях на «Восьмой день» американские критики особенно охотно цитировали пролог к роману — своего рода теоретическую заставку к следующим далее фрагментам семейной саги Эшли и Лансингов. Вначале романист, как могло бы показаться, следует за Эмерсоном и Уитменом. «Человек — не венец творения, а лишь источник созидательного процесса», — возвещает своей пастве, жителям Коултауна, доктор Джилли в романе Уайльдера. «Мы начинаем вторую неделю строительства мира. Мы — дети восьмого дня».
Но престарелый Торнтон Уайльдер — один из идеологов американского модернизма, «пророк изящного Христа», как окрестил его еще в 1930 году писатель-коммунист Майкл Голд, — не был бы самим собой, если бы подчинил свою книгу непротиворечивой и четкой, оптимистической абстракции викторианского века. И в 60-е годы, как и в 20-е, он остается верным философскому скептицизму и всему тому комплексу художественных идей, с которым почти полстолетия тому назад вступали в литературу его ровесники: дадаисты, сюрреалисты, «потерянные».
Уже на следующей странице пролога он как бы дезавуирует вдохновенные слова, только что прозвучавшие с трибуны поборника общественного прогресса. На самом деле «д-р Джилли не верил ни в прогресс, ни в будущее человечества... Оказавшись на месте хромого беса из старой сказки, можно было бы заглянуть под крышу любого дома — от Коултауна до Владивостока: повсюду слышались бы одни и те же стертые слова и фразы... История не знает ни золотых веков, ни смутного времени. Существует лишь необозримая монотонность человеческих судеб, а кроме того, еще и времена года и погода — хорошая или дурная».
Отзвуки этой зловещей философии пессимизма и пассивности возникают вновь и вновь в различных местах повествования, складываясь в монотонный и мерный ритм, в чем-то совпадающий с ритмикой отточенной уайльдеровской прозы. «Жизнь — это цепь обещаний, которые никогда не сбываются», — говорит содержательница гостиницы миссис Уикершем. Она высмеивает попытку скитальца Эшли основать в северном Чили университетский центр и оставить, таким образом, след в памяти человечества. «Города создаются и разрушаются, подобно замкам из песка, которые дети любят строить на морском берегу. Человеческий род не становится со временем лучше. Люди ленивы, коварны, сварливы и эгоистичны. Вы думаете, они возводят Афины, но на самом деле они лишь наводят глянец на свою обувь...»
В философском романе Уайльдера нет и следа тех экспериментов с повествовательной формой, которые иные полагают подчас необходимым и даже единственным признаком эстетики модернизма. Напротив, в книге этой немало от классических романов XIX и XX веков. Эпизоды чикагской карьеры Роджера, сына Джона Эшли, находятся в русле мощной традиции реализма американской литературы. Здесь есть и зарисовки социальных отношений в начале века, перекликающиеся с разоблачительными страницами знаменитых книг Драйзера и Синклера. Здесь возникает и еще одна проблема, волновавшая некогда автора «Финансиста» и «Американской трагедии», — становление характера американца, по поступкам которого можно было бы судить об уровне зрелости и морального совершенства всей нации в целом.
Писателя влекут к себе не только приключения молодого героя в широком мире. Он чуток и к «акустике семейной жизни». Однако стремление к детализации, свойственное всякому бытописателю, сочетается у Уайльдера с привычной только ему одному позой поразительной отрешенности от событий и чувств, им описываемых. «Мы увидим дальше...», «Мы упоминали...» — так создается образ творца, высоко парящего над им же созданной вселенной.
Две даты: 1883 и 1905 — таковы крайние вехи, в пределах которых романист размещает самые разнохарактерные события из жизни своих персонажей. Многолетние скитания по чужим краям Джона Эшли, «человека без родины», чудесное превращение его детей, Лили и Роджера, в блистательную оперную певицу и влиятельного журналиста и, наконец, показанные ретроспективно причины — озлобление и ревность — таинственного преступления, потрясшего иллинойсское захолустье, — вот те разрозненные фрагменты «грубой реальности», из которых под рукой писателя складывается «лик мира».
Уайльдер вместе с тем, свободно обращаясь с фабулой своего рассказа, не склонен уничтожать объективность времени, заменяя его цепью сумбурных и аритмичных скачков человеческого сознания. Восстание против «тирании времени» объединяет в веке под единым знаменем авангардистов всех мастей: от Гертруды Стайн и Джойса до современных «постбитников» Берроуза и Селби. Уайльдер же остается верен собственному, не меняющемуся с годами варианту философского модернизма. Время — вот единственная реальность, первоосновная субстанция. Оно безразлично к человеку: все узлы и нити его жизни — лишь более или менее искусные и «эстетичные» узоры, вытканные на поверхности тысячелетий.
И все-таки насколько современно, насколько близко думам и чувствам нашей эпохи произведение Торнтона Уайльдера? Действие романа обращено в прошлое, но его моральный урок, полагает писатель, никогда не устареет. В «Эпилоге» Уайльдер добавляет последние мазки к созданной им картине. Он роняет фразу о 1917 годе, равно памятном и для Европы и для Америки; он упоминает о женщине, живущей близ гавани японского города Нагасаки, среди довольства и мира. И вновь раздается голос бесстрастного комментатора: «Многие пытались расшифровать рисунок историк. Одни полагались на самих себя, другие видели в ней то, что нм подсказывали свыше. Некоторые и сейчас стремятся связать воедино обрывки воспоминаний, другие же устремляют взор вдаль, возлагая надежды на борьбу угнетенных и эксплуатируемых за свое освобождение. Есть и такие, для которых будущее — закрытая книга. Есть и...»
Монолог обрывается, перо падает из рук писателя. Допустимо любое толкование, некому не дано хоть что-то изменить в круговороте истории человечества.
Критики-рецензенты в США в целом сдержанно отозвались о книге Т. Уайльдера. «Восьмой день» находили «традиционным семейным чтением» и удивлялись его чрезвычайной популярности у широкого читателя. По-видимому, сам факт обращение Уайльдера к объемным метафизичным проблемам бытия и в общем-то «успокоительное» их толкование созвучны настроению значительной части нации, зачитывавшейся его книгой в «самое жаркое лето» своей послевоенной истории. Ретроградная философия «модерна» полувековой давности и столь же старомодная манера письма Уайльдера — отзвук «старого, доброго времени» для многих американцев. Консерватизм Торнтона Уайльдера очевиден, и все-таки его книга воспринимается в современной Америке по сравнению со сверхавангардизмом «Американской мечты» Н. Мейлера и «Голого завтрака» У. Берроуза как противовес литературе стонов и ужасов, литературе «без догмата».
Л-ра: Иностранная литература. – 1968. – № 5. – С. 268-270.
Произведения
Критика