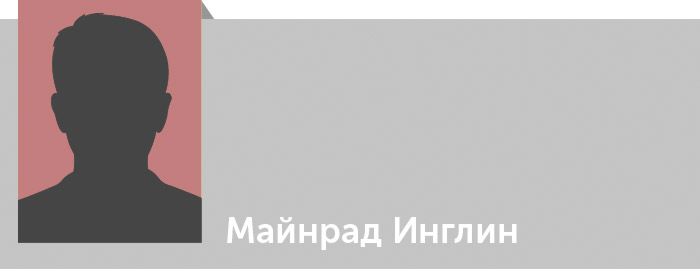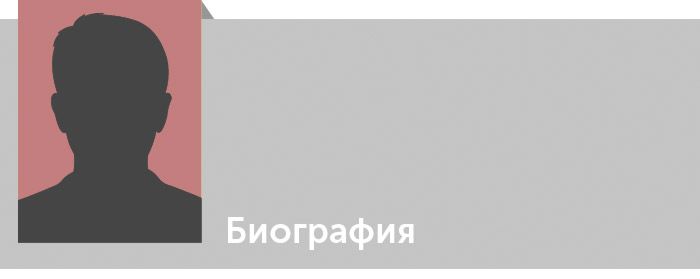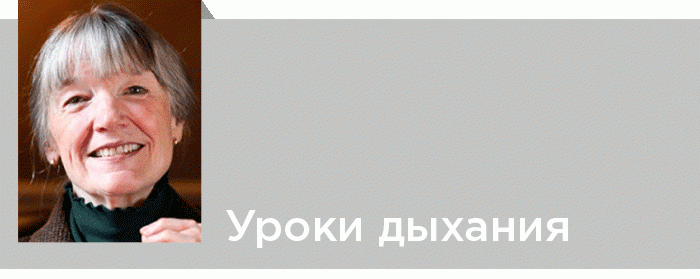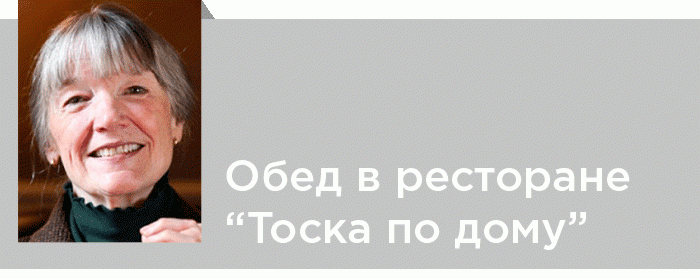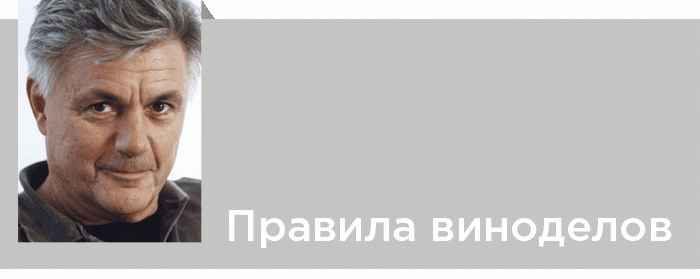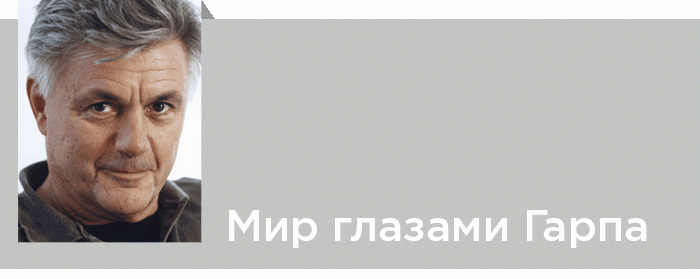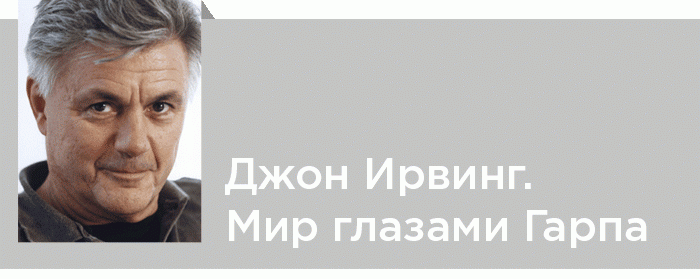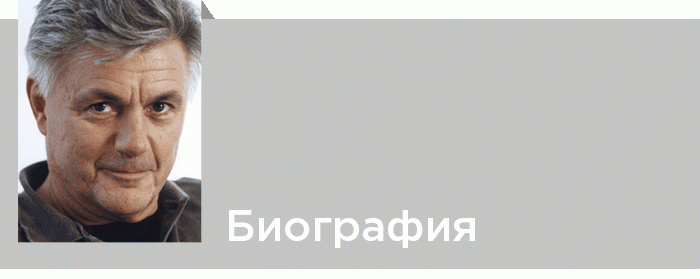Джон Ирвинг. Молитва об Оуэне Мини
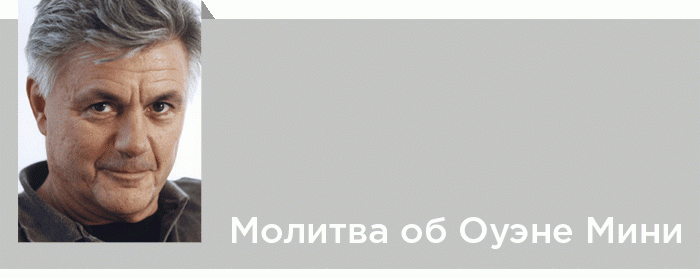
(Отрывок)
Хелен Фрэнсис Уинслоу Ирвинг и Калину Фрэнклину Ньюэллу Ирвингу, моим матери и отцу, посвящается эта книга
Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом…
Послание к Филиппийцам Святого Апостола Павла, 4:6
Одно из главных моих затруднений состоит в том, что я вряд ли могу себе даже представить, какого рода опыт следует считать подлинно и в полном смысле слова религиозным. Разве может Бог, не разумея меня, явить себя так, чтобы не оставалось места сомнениям? Ведь если не будет места сомнениям, не будет места и для меня самого
Фредерик Бюхнер
Христианин, не ставший героем, останется свиньей
Леон Блуа
1. Промах
Я обречен до конца жизни помнить этого мальчишку со странным, пронзительным голосом — и вовсе не потому, что у него был такой голос, и не потому, что он был самым маленьким из всех, кого я знал, и даже не потому, что он явился орудием смерти моей мамы, а потому, что он привел меня к Богу. Я стал христианином благодаря Оуэну Мини. Я вовсе не утверждаю, будто живу во Христе или с Христом — и уж тем более для Христа, о чем, я слышал, твердят некоторые фанатики. Я не могу похвалиться хорошим знанием Ветхого Завета, да и в Новый Завет я не заглядывал с воскресной школы, — если не считать тех отрывков, что оглашают на церковной службе. Немного лучше мне знакомы те места из Библии, которые есть в Книге общей молитвы. Молитвенник я перечитываю часто, а вот Библию — только в дни церковных праздников: ведь в молитвеннике все изложено проще и логичней.
Я всегда довольно исправно посещал церковь. Когда-то я был конгрегационалистом — меня крестили в конгрегационалистской церкви, — потом несколько лет — епископалом (конфирмовался я в епископальной церкви), отчего мои религиозные воззрения оказались довольно расплывчатыми; подростком я вообще посещал «внеконфессиональную» церковь. А позже моей церковью стала англиканская церковь Канады — с тех самых пор, как почти двадцать лет назад я уехал из Соединенных Штатов. Быть англиканцем — почти то же, что епископалом, — мне временами даже кажется, будто я вернулся в епископальную церковь. И все же я покинул и конгрегационалистскую и епископальную церковь, как покинул и свою родину — раз и навсегда.
Я постараюсь все устроить так, чтобы меня, когда я умру, похоронили в Нью-Хэмпшире, рядом с мамой, но чтобы англиканская церковь успела совершить надо мной все положенные обряды, прежде чем над моим телом надругаются, тайком переправляя через американскую таможню. Выдержки из «Ритуала погребения усопших», которые прозвучат на моих похоронах, будут совершенно традиционны, их можно найти в Книге общей молитвы, — в том же порядке, в каком надо мной их прочитают — не споют, а именно прочитают. Почти всем, я уверен, будут хорошо известны те места из Евангелия от Иоанна, где говорится: «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». И дальше «В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам…» А еще мне всегда нравилось своей прямотой то место из Послания к Тимофею, где сказано: «…мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынесть из него». Эта служба пройдет по всем правилам, принятым в англиканской церкви, отчего мои бывшие собратья-конгрегационалисты заерзали бы на своих скамейках. Что ж, теперь я принадлежу к англиканской церкви, англиканцем и умру. Правда, воскресную службу иногда пропускаю. Я и не претендую на особое благочестие; мою веру, сшитую из разных лоскутов, латать приходится чуть не каждую неделю. Но той верой, что у меня есть, я обязан Оуэну Мини, мальчишке, с которым вместе вырос. Это Оуэн сделал меня верующим.
В воскресной школе мы устраивали себе забаву, потешаясь над Оуэном Мини, который был таким маленьким, что, сидя на стуле, не только не доставал ногами до пола, но даже коленки его не доходили до края сиденья и ноги торчали вперед, как у куклы. Казалось, будто Оуэн Мини родился с кукольными суставами.
Мы, забавляясь, поднимали крошечного Оуэна в воздух, просто не могли удержаться — он был чудо какой четкий. Это поражало и казалось странным еще и потому, что в его семье испокон веку занимались добычей гранита. И гранитный карьер Мини был большущий, и оборудование для взрывных работ и резки гранитных плит было мощное и устрашающее: гранит ведь порода тяжелая и прочная. И лишь одно в Оуэне напоминало о гранитном карьере — это крупнозернистая пыль, серые крошки, что сыпались из его одежды всякий раз, как мы поднимали его. Он и сам был цвета серого гранита; его кожа одновременно поглощала и отражала свет, будто жемчуг, и выглядела полупрозрачной, особенно на висках, где отчетливо проступали голубые жилки (вместе с его необычным ростом свидетельствуя, что он родился слишком рано).
У него то ли не вполне развились голосовые связки, то ли голос ему испортила гранитная пыль, то ли у него был какой-то дефект гортани или трахеи, а может, он просто поранил горло осколком гранита — так или иначе, Оуэну, чтобы вообще быть услышанным, приходилось кричать в нос.
И все же мы относились к нему с нежностью — «куколкой» звали его девчонки, покуда он увертывался, пытаясь вырваться от них да и от всех нас.
Я уже не помню, с чего вообще началась эта игра с подниманием Оуэна.
Наша воскресная школа принадлежала церкви Христа — епископальной церкви Грейвсенда, что в штате Нью-Хэмпшир. Нам преподавала нервозная и несчастная на вид учительница по имени миссис Ходдл — имя подходило ей как нельзя лучше, потому как ее педагогический метод предполагал частые и продолжительные уходы из класса. Прочитает нам, бывало, какой-нибудь поучительный отрывок из Библии, а затем просит нас хорошенько поразмышлять о том, что мы только что услышали. «А теперь я хочу, чтобы вы посидели в тишине и серьезно подумали над этим! Я оставляю вас наедине с вашими мыслями, — зловеще предупреждала она нас, будто наши мысли могут нас завести в опасную даль, — и хочу, чтобы вы очень серьезно поразмыслили! — говорила миссис Ходдл. И уходила. По-моему, ей просто нужно было покурить, а курить при нас она не могла. — Я скоро вернусь, — говорила она, — и мы все вместе это обсудим».
К тому времени, когда она возвращалась, мы, естественно, начисто забывали, о чем она нам читала; стоило ей закрыть за собой дверь, как мы тут же начинали беситься, как безумные. Оставаться наедине со своими мыслями нам было скучно, и вместо этого мы подхватывали Оуэна Мини, поднимали его на вытянутых руках и передавали друг другу через голову по рядам туда и обратно, причем никто не вставал со стула — в этом-то и заключался смысл забавы. Кто-то — я сейчас уже не помню, кто первый это придумал, — вскакивал со своего места, хватал Оуэна в охапку, снова садился и передавал кому-нибудь другому. Тот — следующему, и так далее. Девчонки тоже участвовали в игре, которая увлекала их едва ли не больше, чем мальчишек. Оуэна мог поднять любой. Мы обходились с ним очень аккуратно и за все время ни разу не уронили. Правда, рубашка его могла слегка помяться, а галстук — он был слишком длинный, и Оуэну приходилось заправлять его за ремень, чтобы не свисал до колен, — так вот, иногда галстук вылезал из-под ремня, а из карманов высыпалась мелочь (прямо нам в лицо!). Деньги мы ему потом всегда возвращали.
Если в карманах у Оуэна лежали бейсбольные карточки, они тоже оказывались на полу. Это его здорово злило: все игроки у него были разложены в каком-то порядке, то ли по алфавиту, то ли отдельно игроки внешнего, а отдельно — внутреннего поля. Мы не знали, по какому принципу он их раскладывает, но некий принцип там был, это точно. Когда миссис Ходдл возвращалась в класс, и он наконец мог сесть на свое место, и мы отдавали ему все его пятаки, десятицентовики и все его бейсбольные карточки — он потом еще долго с молчаливой мрачной яростью их перекладывал в нужном порядке.
Сам он играл в бейсбол не очень хорошо, но зато у него была очень маленькая ударная зона, и в играх Малой лиги его часто ставили бьющим, — но не потому, что он смог бы как следует ударить по мячу (наоборот, ему при этом наказывали вообще не замахиваться битой), а потому, что соперник наверняка промажет и можно будет заработать переход на базу. Он обижался, а однажды вообще отказался взять в руки биту, если ему не разрешат ударить по мячу. Но такой маленькой биты, чтобы он мог ею орудовать, пожалуй, не существовало в природе стоило ему размахнуться как следует, и бита увлекала его за собой и, описав полукруг, ударяла по спине так, что он плашмя шлепался на землю. В общем, после нескольких унижений, когда, пытаясь ударить по мячу, Оуэн неизменно сбивал себя с ног, он смирился с менее позорной для себя ролью — стоять неподвижно, ссутулясь, на плите домашней базы, пока питчер целится мячом в его ударную зону, чтобы наверняка промазать.
Все равно Оуэн любил свои бейсбольные карточки. И сам бейсбол, несмотря ни на что, он любил, хотя в игре ему порой приходилось несладко. Питчеры из команды противника часто запугивали его. Они говорили, что если он не будет отбивать их подачу, то получит мячом по голове. «Учти, приятель, башка у тебя побольше, чем ударная зона», — пригрозил ему как-то один питчер. Так что иногда Оуэн зарабатывал переход на первую базу ценой синяков от мяча.
Но зато, достигнув первой базы, он становился просто бесценным игроком. Никто не умел так проворно оббежать все базы, как Оуэн Мини. Если наша команда ухитрялась достаточно долго продержаться в нападении, Оуэн мог база за базой «украсть» целую круговую пробежку. Ближе к концу игры мы часто ставили его бегущим. Короче, на замене бьющего и бегущего он был вне конкуренции — наш запасной «скороход» Оуэн Мини, как мы его иногда называли. Ставить Оуэна на внешнее поле было совершенно безнадежно. Он так боялся мяча, что даже глаза закрывал, когда тот летел в его сторону. А если случалось чудо и Оуэн ловил мяч, то бросить его все равно не мог: своей маленькой рукой он был просто не в состоянии обхватить его как следует. Он и хныкал по-особенному: от обиды голосок у него делался до того жалобный, что даже нытье казалось симпатичным.
Когда мы в воскресной школе поднимали Оуэна высоко в воздух — в воздух, именно так! — он верещал просто неповторимо. Я думаю, мы и мучили-то его нарочно, чтобы услышать его голос; мне тогда казалось, что такой голос может быть только у какого-нибудь пришельца с другой планеты. Сегодня я точно знаю: то был голос не от мира сего.
— ОТПУСТИТЕ МЕНЯ! — кричал он этим своим сдавленным, душераздирающим фальцетом. — ХВАТИТ, МНЕ НАДОЕЛО! Я БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ! МНЕ НАДОЕЛО, Я ВАМ СКАЗАЛ! ОТПУСТИТЕ МЕНЯ НАКОНЕЦ, ГАДЫ!
Но мы как ни в чем не бывало продолжали передавать его по рядам, и он с каждым разом все больше смирялся со своей участью. Его тело цепенело, он переставал сопротивляться. Однажды, когда мы его подняли, он вызывающе сложил на груди руки и со злостью уставился в потолок. Порой он пытался схватиться за стул в то мгновение, когда миссис Ходдл выходила из класса. Он цеплялся за стул, как канарейка за жердочку в клетке, но справиться с ним ничего не стоило: он очень боялся щекотки. Одна девочка по имени Сьюки Свифт так ловко щекотала Оуэна, что его руки и ноги тут же выпрямлялись, и нам ничто не мешало поднять его.
— ЧУР НЕ ЩЕКОТАТЬ! — кричал он. Но правила в этой игре устанавливали мы, а мы никогда не слушали, чего он там кричит.
В конце концов неизбежно наступал момент, когда миссис Ходдл возвращалась в класс и заставала Оуэна в воздухе. Учитывая всю библейскую глубину и мудрость оставленных нам указаний — «очень серьезно поразмыслить», — она вполне могла бы вообразить, что мы сумели заставить Оуэна Мини воспарить исключительно совместным напряжением наших необычайно серьезных мыслей. А могла бы и сообразить, что вознесение Оуэна над нашими головами — прямое следствие того, что она оставила нас наедине с нашими мыслями.
И однако же, реагировала миссис Ходдл всегда одинаково — жестко, без воображения, зато с непроходимой тупостью.
— Оуэн! — рявкала она. — Оуэн Мини, сейчас же вернись на свое место! Спустись оттуда немедленно!
Какой библейской премудрости могла научить нас эта миссис Ходдл, если у нее хватало ума допустить, будто Оуэн Мини сам себя поднял в воздух?
Держался Оуэн всегда с достоинством. Он ни разу не сказал ничего вроде: «ЭТО ВСЕ ОНИ! ОНИ ВСЕГДА ТАК! ОНИ ПОДНИМАЮТ МЕНЯ, РАЗБРАСЫВАЮТ МОИ ДЕНЬГИ, ПЕРЕПУТЫВАЮТ МОИ БЕЙСБОЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ — ОНИ НИКОГДА НЕ СЛУШАЮТ МЕНЯ, КОГДА Я ПРОШУ ИХ ПЕРЕСТАТЬ! ВЫ ЧТО ДУМАЕТЕ, Я САМ СЮДА ВЗЛЕТЕЛ?»
При том, что Оуэн часто жаловался нам, на нас он никогда не жаловался. И если там, над нашими головами, ему нечасто удавалось сохранять спокойствие, то, когда миссис Ходдл начинала распекать его за ребячество, он всегда держался стоически. Оуэн не был ябедой. Подобно множеству библейских персонажей, Оуэн Мини наглядно показывал нам, что такое мученик.
Мы ни разу не заметили, чтобы он затаил на нас обиду. Хотя наше главное, ставшее ритуалом развлечение мы приберегали для воскресной школы, случалось, мы придумывали что-нибудь эдакое и в другие дни. Однажды кто-то подвесил Оуэна за ворот на вешалку для одежды в зале начальной школы — и даже тогда он не стал сопротивляться. Он безмолвно висел и ждал, когда кто-нибудь снимет его и поставит на пол. В другой раз, после урока физкультуры, Оуэна подвесили за спортивный бандаж на крючке в его шкафчике и заперли дверцу. «ЭТО НЕ СМЕШНО! СОВСЕМ НЕ СМЕШНО!» — кричал и кричал он, пока наконец кто-то, видимо согласившись с этим, не высвободил Оуэна из этой резинки, размером не больше, чем у рогатки.
Откуда мне тогда было знать, что Оуэн Мини — герой?
Мне, пожалуй, стоило начать с того, что я принадлежу к семейству Уилрайтов, а с Уилрайтами в нашем городке всегда считались. Еще нужно заметить, что Уилрайты не питали особого расположения к семейству Мини. У нас была матриархальная семья, поскольку дед мой умер еще молодым и оставил на бабушку все хозяйство, с которым она, однако, управлялась весьма по-хозяйски. По бабушкиной линии я потомок Джона Адамса (ее девичья фамилия — Бэйтс, а эта семья прибыла в Америку на «Мэйфлауэре»); но тем не менее гораздо больший вес в нашем городке имело имя деда, и бабушка носила свою новую фамилию с таким достоинством, как если бы она была и Уилрайт, и Адамс, и Бэйтс одновременно.
При крещении ее назвали Харриет, но почти для всех она была миссис Уилрайт — уж во всяком случае, для всех из семейства Оуэна Мини. По-моему, под конец жизни бабушка помнила только одного человека по фамилии Мини —Джорджа Мини, профсоюзного деятеля, который курил сигары. В представлении Харриет Уилрайт профсоюз и сигары плохо сочетались. (Насколько я знаю, Джордж Мини с нашими Мини в родстве не состоял.)
Я вырос в Грейвсенде, штат Нью-Хэмпшир. Профсоюзов у нас там не было; сигары кое-кто курил, но вот профсоюзных деятелей как-то не встречалось. Городок, в котором я родился, еще в 1638 году был куплен у какого-то индейца-сагамора преподобным Джоном Уилрайтом, в честь которого меня и назвали. В Новой Англии сагаморами звали индейских вождей и прочую их знать, хотя ко времени моего детства единственным знакомым мне сагамором оставался соседский кобель, лабрадор-ретривер по кличке Сагамор. Я думаю, этим именем он обязан вовсе не своим индейским предкам, а невежеству хозяина. Хозяин Сагамора, наш сосед мистер Фиш, говорил мне, что пса своего он назвал в память об озере, в котором купался летом дни напролет, когда был еще, как он выражался, «зеленым юнцом». Бедняга мистер Фиш: откуда ему было знать, что то озеро названо в честь индейских вождей и что наречение глупого пса Сагамором — заведомое кощунство и добром оно не кончится. Как станет ясно дальше, все так и вышло.
Но американцы не очень-то сильны в истории, так что долгие годы я, наученный своим соседом, искренне считал, будто «сагамор» на одном из индейских наречий значит «озеро». Четвероногий Сагамор попал потом под грузовик местной фирмы по прокату пеленок; я склоняюсь к мысли, что к этому причастны божества, обитающие в неспокойных водах оскорбленного озера. Правильней, наверное, чтобы «пеленочный» грузовик задавил самого мистера Фиша, однако история любых божеств демонстрирует, как отмщение обрушивается на невинного. (Таково одно из положений моей собственной веры, которое не разделяет никто из моих друзей — ни конгрегационалисты, ни епископалы, ни англиканцы.)
Что касается моего предка Джона Уилрайта, то он высадился на берег в Бостоне в 1бЗб году, всего на два года раньше, чем купил наш городок. До этого он жил в деревушке Сэйлби, что в английском графстве Линкольншир, и никто до сих пор не знает, почему он назвал наш городок Грейвсендом. Насколько известно, Джон Уилрайт не имел никакого касательства к тому Грейвсенду, что в Англии, хотя название нашего городка, несомненно, происходит именно оттуда. Уилрайт окончил Кембриджский университет; он играл в футбол с самим Оливером Кромвелем, который относился к Уилрайту (как футболисту) одновременно с благоговением и недоверием. По мнению Оливера Кромвеля, Уилрайт играл слишком жестко, даже грязно, мастерски умел поставить противнику подножку и затем упасть на него. Грейвсенд (тот, что в Англии) находится в графстве Кент — на довольно приличном расстоянии от угодий Уилрайта. Может, у него был друг оттуда родом, может, он хотел уехать в Америку вместе с Уилрайтом, но почему-то не смог покинуть Англию, а может, поехал, но умер в дороге.
Согласно «Истории Грейвсенда, штат Нью-Хэмпшир» Уолла, преподобный Джон Уилрайт изначально был добропорядочным священником англиканской церкви, пока не начал «подвергать сомнению некоторые догматы»; он стал пуританином, и впоследствии «церковные власти запретили ему проповедовать за его инакомыслие». Мне кажется, неумением разобраться в собственной вере, равно как и упрямством, я во многом обязан своему предку, которому доставалось не только от англиканского духовенства: стоило ему уехать в Новый Свет и обосноваться в Бостоне, как он почти тут же разругался с собратьями-пуританами. Вместе со знаменитой миссис Хатчинсон преподобный Джон Уилрайт был изгнан из Колонии Массачусетского залива за нарушение «гражданского согласия». На самом деле его бунтарство ограничилось несколькими еретическими замечаниями о том, где, по его мнению, пребывает Святой Дух, — но суд массачусетцев был суров. Его лишили оружия, и тогда он вместе с семьей и самыми смелыми из своих сторонников отправился морем на север от Бостона, к заливу Грейт-Бей. По пути он, должно быть, миновал два более ранних нью-хэмпширских поселения: одно в устье реки Паскатакуа (то место, что позже назвали Земляничным побережьем, теперь это город Портсмут), другое — в Довере.
Затем Уилрайт поднялся из залива Грейт-Бей вверх по реке Скуамскотт. Он дошел до порогов, где пресная вода смешивается с морской и где кругом стоят густые леса. Индейцы научили Уилрайта ловить рыбу. По словам Уолла, автора «Истории Грейвсенда», там «простирались дикие луга», а кое-где «к самому берегу подступали болота».
Местного сагамора звали Ватахантауэт. Вместо подписи он поставил под документом изображение своего тотема в виде человека без рук. Вокруг этой сделки с индейцами потом возникали кое-какие споры — впрочем, ничего интересного. Куда интереснее было послушать разные домыслы насчет того, почему тотемом Ватахантауэта был безрукий человек. Некоторые говорили, мол, отдавая всю эту землю, сагамор, должно быть, испытывает такое же чувство, как если бы ему отрубили руки. Другие обращали внимание на то, что более ранние образцы «подписи» Ватахантауэта представляли собой все ту же фигуру безрукого человека, но с пером во рту — что понималось как свидетельство огорчения сагамора из-за своего неумения писать. Однако на некоторых других изображениях тотема, приписываемых все тому же Ватахантауэту, человек держит во рту томагавк и выглядит при этом совершенно безумным. А может, это просто символ мира — мол, рук нет, томагавк во рту, все это вместе, наверное, должно означать, что Ватахантауэт не собирается ни с кем воевать. Что касается расчета по этой сомнительной сделке, можно не сомневаться, индейцы от нее отнюдь не выиграли.
А потом наш город попал под власть Массачусетса (может быть, поэтому жители Грейвсенда и по сей день терпеть не могут выходцев из Массачусетса), и переехал тогда мистер Уилрайт в Мэн. Ему было восемьдесят, когда он выступал в Гарварде, призывая делать пожертвования на ремонт одного из зданий университета, сгоревшего при пожаре, — словно демонстрируя, что он, в отличие от прочих обитателей Грейвсенда, не держит зла на жителей Массачусетса. Умер Уилрайт в Солсбери, штат Массачусетс, дожив почти до девяноста лет и до последних дней оставаясь духовным главой местной церкви.
Но если вы посмотрите на имена отцов-основателей Грейвсенда, то фамилии Мини среди них не найдете:
Барлоу
Блэкуэлл
Дирборн
Коул
Коупленд
Кроули
Литтлфилд
Рид
Ришуорт
Смарт
Смит
Уокер
Уорделл
Уэнтворт
Хатчинсон
Хилтон
Уилрайт.
Сомневаюсь, что мама оставила себе девичью фамилию только из-за того, что она была Уилрайт. Думаю, ее чувство собственного достоинства проистекало вовсе не из гордости своим происхождением; она точно так же оставила бы себе девичью фамилию, родись она в семье Мини. И в те годы я не испытывал никаких неудобств оттого, что носил ее имя. Меня звали маленьким Джонни Уилрайтом, отец неизвестен, и тогда меня это вполне устраивало. Я никогда не жаловался. Когда-нибудь, думал я, она мне все об этом расскажет — когда я немного подрасту. Очевидно, эта история относилась к разряду тех, которые можно узнать, только «когда немного подрастешь». Но когда мамы не стало, — а я так и не дождался от нее ни слова о том, кто мой отец, — вот тогда я почувствовал, что меня обманули, мне не рассказали того, на что я имел полное право. Лишь после маминой смерти я слегка рассердился на нее за это. Пусть ей было неприятно говорить, кто мой отец и что у нее с ним произошло, пусть даже их отношения были настолько грязными, что одно упоминание о них могло бы выставить их обоих в неприглядном свете, — и все же не слишком ли эгоистично она поступила, ни словом не обмолвившись о моем отце?
Хотя, конечно, как справедливо заметил Оуэн Мини, когда мамы не стало, мне было всего одиннадцать лет, а ей самой — только тридцать. Она наверняка думала, что у нее еще будет время все мне рассказать. Откуда она знала, что ей суждено скоро умереть, как выразился Оуэн Мини.
Как-то раз мы с Оуэном швыряли камни в Скуамскотт, речку с морской водой, где бывали приливы и отливы. Вернее сказать, это я швырял камни в речку; камни Оуэна шлепались в ил, обнажившийся на время отлива, — до воды он своей слабой ручонкой добросить не мог. Испуганным чайкам, которые перед нашим приходом что-то клевали в тине, пришлось перебираться подальше, на болотистые кочки на том берегу реки.
Стоял жаркий и душный летний день; в воздухе висел противный солоноватый запах разлагающихся водорослей — в тот день он шибал в нос сильнее обычного. Оуэн Мини сказал, что мой отец обязательно узнает о смерти мамы и что, когда я немного подрасту, он объявится.
— Если он сам жив, — заметил я, бросая очередной камешек — Если он жив и если ему не наплевать, что он мой отец. И если он вообще знает, что он мой отец.
И хотя тогда я не поверил Оуэну Мини, именно тот день можно считать началом пути, по которому он потихоньку привел меня к вере в Бога. Оуэн выбирал самые маленькие камешки, но у него все равно никак не получалось добросить их до воды. Некоторое удовольствие, конечно, доставлял и тот звук, с которым камни шлепались в прибрежную грязь, но все-таки услышать всплеск воды было удовольствием гораздо большим. И как-то почти небрежно, с поразительной самоуверенностью, неестественной для такой крошечной фигурки, Оуэн Мини сказал мне, что мой отец, конечно, жив и он, конечно, знает, что он мой отец, и что Бог тоже знает, кто мой отец. И если даже он сам мне не откроется, сказал Оуэн, его мне откроет Бог.
— ТВОЙ ОТЕЦ МОЖЕТ СКРЫТЬСЯ ОТ ТЕБЯ, — заметил Оуэн. — НО ОТ БОГА ЕМУ НЕ СКРЫТЬСЯ.
Провозгласив это, Оуэн Мини крякнул, швырнув очередной камень, и тот шлепнулся в воду. Нас обоих это здорово удивило. Больше мы камней не швыряли, а лишь стояли и смотрели, как по воде расходятся круги, пока чайки наконец не поверили, что мы больше не будем тревожить их мирок, и не вернулись на наш берег.
Долгие годы наша река славилась своей семгой (сегодня рыбачить в Скуамскотте — дохлый номер, в том смысле, что вытащить можно разве что какую-нибудь дохлую рыбину). И сельди было когда-то полно — еще в моем детстве рыбы в реке хватало, и мы с Оуэном частенько рыбачили вместе. От Грейвсенда до океана всего девять миль. Скуамскотт, конечно, никогда не мог сравниться с Темзой, но раньше в Грейвсенд заходили даже океанские суда. С тех пор русло обмелело, забитое камнями и обломками скал, и ни одному мало-мальски крупному кораблю здесь теперь не пройти. И если возлюбленная капитана Джона Смита, несчастная Покахонтас, нашла свое последнее пристанище в английской земле — на кладбище приходской церкви исконного Грейвсенда, — то в нашем Грейвсенде духовно безрукий Ватахантауэт так и не был похоронен. Единственным сагамором, погребенным у нас в городе со всеми церемониями, стал тот самый черный лабрадор мистера Фиша, что угодил на Центральной улице под грузовик с пеленками. Его предали земле в розовом саду моей бабушки, в торжественном присутствии соседских ребятишек.
Больше века в Грейвсенде в основном торговали лесом. Собственно, во всем штате Нью-Хэмпшир лес долгое время оставался самым доходным товаром. Хотя Нью-Хэмпшир и называют Гранитным штатом — здесь добывают гранит для стройки, для дорожных бордюров и для надгробий, — все это не идет ни в какое сравнение с тем давним лесоторговым бумом. Можно не сомневаться: когда здесь вырубят все деревья, камня еще останется предостаточно; правда, что касается гранита, то большая его часть, конечно, под землей.
Мой дядя тоже торговал лесом — дядя Алфред, компания «Истмэн Ламбер». Дядя Алфред женат на маминой сестре — и моей тетке — Марте Уилрайт. Меня в детстве часто возили в гости к двоюродным братьям и сестре, и я видел, как сплавляют лес, какие бывают на реке заторы, а как-то пару раз даже участвовал в состязаниях: нужно было пробежать по плывущим бревнам, сталкивая соперников в воду. Боюсь, я был слишком неопытен, чтобы соревноваться с братьями и сестрой на равных. А теперь бизнес дяди Алфреда (перешедший в руки его сыновей, так что вернее будет называть это бизнесом моих двоюродных братьев) — это торговля недвижимостью. В Нью-Хэмпшире, если ты вырубил все свои деревья, приходится торговать тем, что осталось.
Зато гранита в Гранитном штате всегда будет хватать, и семья маленького Оуэна Мини занималась добычей гранита. Вообще в нашей не слишком обширной приморской части Нью-Хэмпшира это дело никогда не считалось перспективным, но их гранитный карьер располагался как раз над таким местом, которое геологи называют «эксетерским плутоном». Оуэн Мини говаривал, что мы тут в Грейвсенде буквально сидим на «голове интрузивного магматического пласта»; он произносил это с каким-то затаенным благоговением — так, будто в глазах всякого грейвсендца этот самый магматический пласт по ценности не уступал золотоносной жиле.
Моя бабушка — возможно, в силу своего «мэйфлауэровского» происхождения — к дереву относилась с большим почтением, чем к камню. Из каких-то неведомых мне соображений Харриет Уилрайт считала торговлю лесом «чистым» занятием, а гранитное дело — «грязным». Мне было все равно, потому что дед мой держал обувное предприятие; но он умер еще до того, как я родился, и его известное решение не допускать у себя никаких профсоюзов — то единственное, что я о нем слышал. Бабушка довольно удачно продала фабрику, и я впитал ее убеждения, что губить деревья, зарабатывая на жизнь, — это благородно, а иметь дело с камнем — низко. Магнатов лесного дела — таких, как мой дядя Алфред Истмен — знают многие, но кто хоть когда-нибудь слыхивал о гранитных магнатах?
Гранитный карьер Мини в Грейвсенде сейчас стоит без дела. Изрытая земля с глубокими и опасными водоемами — все это сегодня не имеет никакой ценности даже как недвижимость, и никогда не имело, если верить моей маме. Она говорила, что карьер стоит без дела еще со времени ее детства и что все судорожные попытки Мини возродить его обречены на провал. По словам мамы, весь пригодный для обработки гранит добыли задолго до того, как Мини переехали в Грейвсенд. (Насчет того, когда Мини переехали в Грейвсенд, мне всегда говорили, что это произошло «примерно в то время, когда ты родился».) К тому же лишь малую часть того гранита, что лежит под землей, стоит добывать; остальной — или с дефектами, или лежит так глубоко, что его невозможно извлечь, не раскрошив.
Оуэн мог без конца толковать о таких вещах, как угловые камни и надгробные памятники; все, что нужно для ПРИЛИЧНОГО памятника, пояснял он, — это достаточно большой, гладкий и ровно отрезанный кусок гранита без внутренних дефектов. Тонкости, в которые пускался Оуэн, — и его собственное тонкое и хрупкое сложение — странно контрастировали с грубой тяжестью огромных гранитных глыб, которые на наших глазах грузили на автоплатформы, с диким грохотом карьера, пронзительным визгом, с которым вгрызались в породу резцы врубовой машины — наконечник этой машины Оуэн называл БАРОМ, — и взрывами динамита.
Я, помню, тогда все поражался, как Оуэн умудрился не оглохнуть. В самом деле, что-то произошло с его голосом и ростом, но слух, на удивление, совершенно не пострадал — несмотря на всю ударную мощь гранитного бизнеса.
Именно Оуэн познакомил меня с «Историей Грейвсенда» Уолла, хотя полностью эту книгу я прочел, только когда учился в выпускном классе Грейвсендской академии, где этот труд входит в обязательный курс по истории городка. Оуэн прочел эту книгу, когда ему не было еще и десяти лет. Он сказал мне, что УИЛРАЙТЫ ТАМ ЧУТЬ ЛИ НЕ НА КАЖДОЙ СТРАНИЦЕ.
Я родился в фамильном доме Уилрайтов на Центральной улице. Когда я был ребенком, мне не давал покоя вопрос, почему мама решила родить меня, однако не пожелала объяснять, откуда я взялся, — ни мне, ни своей матери с сестрой. Моя мама отнюдь не была распутной девицей. То, что она забеременела и при этом отказывалась обсуждать эту тему, должно быть, сильно поразило Уилрайтов, тем более что мама всегда отличалась очень спокойным и скромным нравом.
Она познакомилась с одним мужчиной в поезде «Бостон — Мэн» — вот все, что она могла рассказать.
Моя тетя Марта заканчивала колледж и уже была помолвлена, когда мама объявила, что вовсе не собирается поступать в колледж. Дед тогда уже был смертельно болен, и у бабушки, которая день и ночь возилась с ним, наверное, просто сил не осталось потребовать от мамы (как в свое время от тети Марты), чтобы та получила высшее образование. Кроме того, мама уверяла, что лучше она останется дома и поможет ухаживать за умирающим дедом — а такая помощь была бабушке в самом деле необходима. А тут еще преподобный Льюис Меррил, пастор конгрегационалистской церкви и руководитель хора, в котором пела моя мама, сумел убедить бабушку с дедушкой, что с маминым голосом стоит серьезно заниматься пением; уроки у хорошего преподавателя, говорил мистер Меррил, — ничуть не менее разумное «вложение средств», чем университетское образование.
И этот момент маминой биографии у меня изначально вызывал вопросы. Если уроки пения были так важны для мамы, почему она занималась только раз в неделю? И если бабушка с дедушкой согласились с мнением мистера Меррила, почему они так упорно противились тому, чтобы мама раз в неделю ночевала в Бостоне? Мне казалось, ей следовало бы вообще переехать в Бостон и брать уроки каждый день! Хотя, я думаю, неизлечимая болезнь деда объясняла многое — бабушке всегда нужно было иметь под рукой помощницу, и мама охотно помогала ей по дому.
Уроки пения проходили рано утром — поэтому-то маме и приходилось отправляться в Бостон накануне и ночевать там; от Грейвсенда поезд шел полтора часа. Мамин преподаватель был человек очень известный и занятой и потому мог уделить ей лишь ранние часы. По словам мистера Меррила, ей повезло, что он вообще согласился ее прослушать: обычно он занимался только с профессионалами. А мама, хоть и пела с детства вместе с тетей Мартой в церковном хоре, к профессионалам явно не относилась. Просто у нее был приятный голос, и она — по обыкновению покладисто, даже робко — приступила к занятиям.
Надо сказать, мамины родители легче, чем ее сестра, смирились с тем, что она не будет поступать в колледж Тетя Марта, вообще-то женщина очень милая, не просто не одобряла мамино решение — она возмущалась, пусть даже и не очень бурно. Все-таки голос у моей мамы был лучше, да и вообще она была красивее своей сестры. Когда обе девочки подросли, именно тетя Марта стала приглашать парней из Академии в наш большой дом на Центральной улице, чтобы познакомить их с родителями, — Марта была старше и первой начала водить «кавалеров», как их называла мама. Но стоило этим ребятам увидеть мою маму — даже еще совсем маленькую, — как их интерес к тете Марте тут же улетучивался.
И вдруг эта необъяснимая беременность! По словам тети Марты, деда в то время «уже мало что заботило» — он был совсем плох и так и не узнал, что его дочь беременна, хотя «она не слишком-то старалась это скрывать», как говорила тетя Марта. Бедный дед, уверяла она, «умер, так и не поняв, с чего это твоя мама так располнела».
Во времена молодости тети Марты тем, кто вырос в Грейвсенде, Бостон представлялся не иначе как гнездом разврата. И хотя мама останавливалась в исключительно благопристойном женском общежитии, где за девушками присматривали, она все же умудрилась, по выражению тети Марты, «согрешить» с каким-то мужчиной, с которым познакомилась в поезде «Бостон — Мэн».
Моя мама была настолько тихой и сдержанной, настолько спокойно воспринимала любые упреки и даже клевету, что ее вполне устраивала такая формулировка Марты, — я даже слышал, как она сама ласково обыгрывала это слово.
— Ах ты, мой грешок, — называла она меня иногда с нежностью. — Маленький мой грешок!
А от своих двоюродных братьев я впервые узнал, что мою маму считали «дурехой», они сами услышали это не иначе как от своей матери — тети Марты. Но в то время, когда этот обидный намек — «дуреха» — дошел до моих ушей, он уже никого не мог ранить: мамы не было в живых больше десяти лет.
И все же она явно обладала чем-то большим, нежели природная красота, прелестный голос и сомнительные умственные способности. Не зря тетя Марта считала, что мои бабушка с дедушкой баловали ее. Причем не только как младшую в семье; тут дело было в мамином характере: ее никогда не видели сердитой или печальной, ей не свойственно было раздражаться или жаловаться. Она отличалась таким мягким нравом, что сердиться на нее было совершенно невозможно. Тетя Марта говорила: «По ней никогда не скажешь, какая она на самом деле решительная». Мама просто поступала как хотела, а потом говорила со своей обезоруживающей улыбкой что-нибудь вроде: «О, поверьте, мне ужасно жаль, что я вас огорчила, но, честное слово, я постараюсь, чтобы вы простили меня и продолжали любить, как если бы ничего не произошло!» И это помогало!
Это помогало, по крайней мере до тех пор, пока она не погибла — и уже ничего ни пообещать, ни исправить не могла, — загладить подобное огорчение даже она оказалась не в силах.
И после того как она, не обращая ни на кого внимания и ни перед кем не оправдываясь, выносила и родила меня и назвала в честь отца-основателя Грейвсенда, и после того, как она заставила смириться с этим своих мать и сестру, а также весь город (не говоря уже о конгрегационалистской церкви, где она продолжала петь в хоре и нередко участвовала в разных торжествах, которые устраивались для прихожан), и даже после того, как она с достоинством вышла из щекотливой ситуации, связанной с моим незаконным рождением (ко всеобщему удовлетворению — или, во всяком случае, так казалось), — после всего этого она по-прежнему продолжала каждую среду ездить на поезде в Бостон и по-прежнему оставалась ночевать в этом жутком городе, чтобы рано утром свежей и бодрой являться на свои уроки пения.
Когда я немного подрос, то стал на это обижаться — по крайней мере, иногда. За все время она лишь пару раз отменила свои занятия и осталась со мной — один раз, когда я болел свинкой, а в другой раз — ветрянкой. И еще, когда мы с Оуэном ловили рыбу в канале, что проложен под Суэйзи-Парквей для отвода воды из Скуамскотта во время приливов, и я поскользнулся и сломал себе запястье — в ту неделю мама тоже не села в бостонский поезд. А так она ездила в Бостон каждую неделю и оставалась там на ночь, пока мне не исполнилось десять лет и она не вышла замуж за человека, который меня официально усыновил и стал вместо отца. До тех самых пор она продолжала петь. Стал ли ее голос лучше — никто мне потом толком сказать не мог.
Произведения
Критика