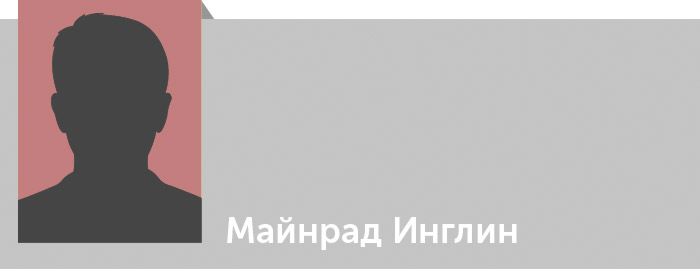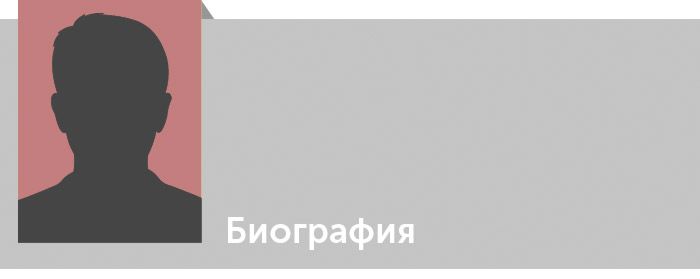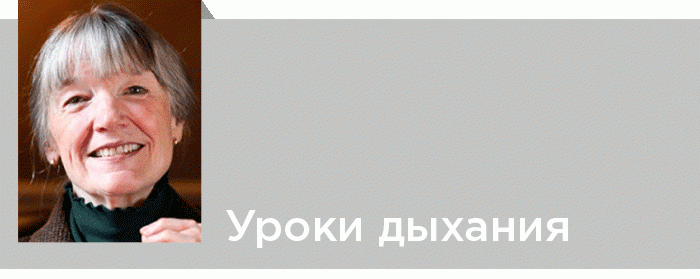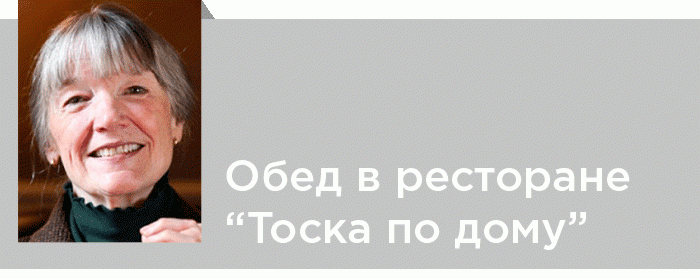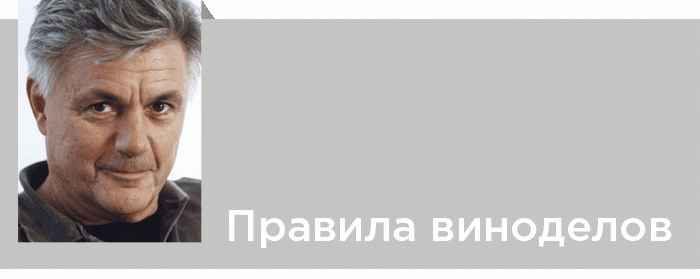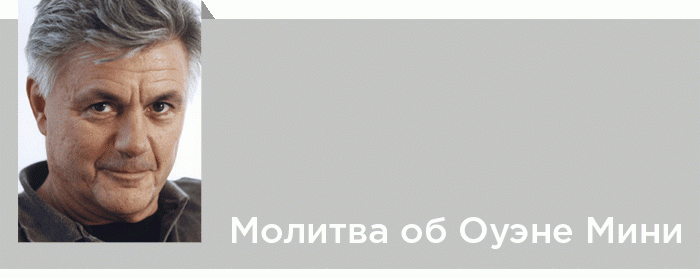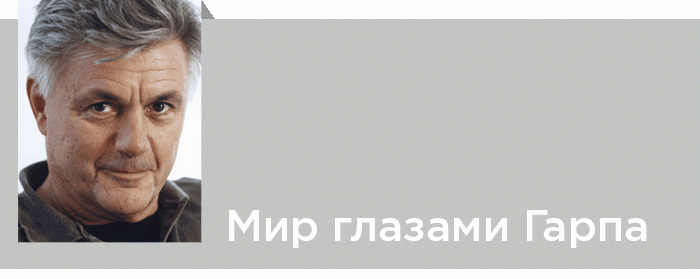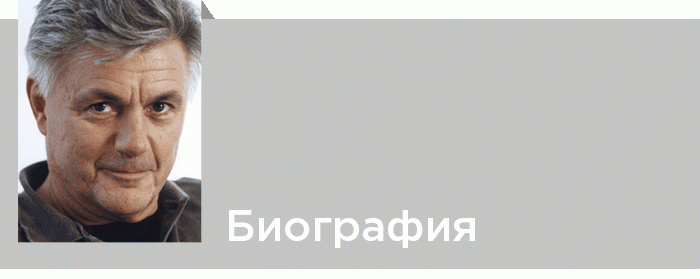Джон Ирвинг. Мир глазами Гарпа
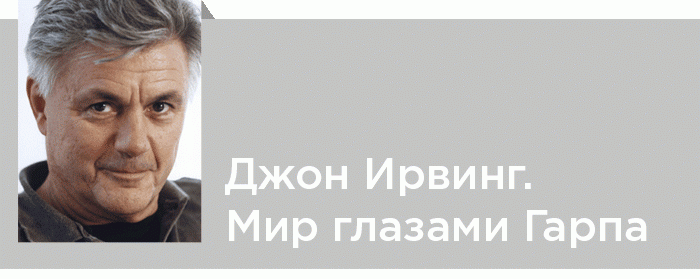
О. Алякринский
После того как молодой американский прозаик Джон Ирвинг (род. в
Впрочем, определить книгу Ирвинга как «портрет нравов» и только — значит увидеть лишь самый верхний ее слой. По замыслу же автора роман гораздо сложнее. Он строится как беллетризованная биография знаменитого писателя Т.С. Гарпа, писавшаяся, что называется, «по горячим следам», но законченная спустя много лет после гибели Гарпа. Такая форма позволила Ирвингу создать своеобразный роман-симбиоз, где слиты черты романа воспитания и семейной хроники, романа-памфлета и романа нравоописательного.
Как дает понять Ирвинг, к моменту написания «Мира глазами Гарпа» завершился процесс «академизации» личности и творческого наследия главного героя. Вышла обширная монография «Безумие и скорбь: жизнь и творчество Т.С. Гарпа», принадлежащая перу друга и душеприказчика покойного писателя Доналда Уиткоума. Уже опубликованы мемуары Гарпа-младшего «Иллюзии, которые писал мой отец». Так что «Мир глазами Гарпа» — нечто вроде «неофициального жизнеописания» (ибо, подчеркивает автор, только Д. Уиткоум является «официальным авторитетом по всем вопросам, касающимся Т.С. Гарпа»),
Если попытаться кратко ответить на вопрос: «О чем роман?» — то можно сказать, что эта книга прежде всего о «тяжком пути познания» главного героя, о проверке на нравственную стабильность, которой он подвергается, проходя, по воле Ирвинга, что называется, сквозь огонь, воду и медные трубы. Это история его «воспитания» в мире («мире глазами Гарпа»), где царит всепроникающая и устрашающая стихия безудержной жестокости и насилия. Это и история трудного семейного счастья Гарпа, мучительных для него и для горячо и трогательно им любимой жены Хелен испытаний на прочность и духовную стойкость их чувства, — чувства, приносящего обоим и счастливую безмятежность, и горестные разочарования, и боль, но в конечном счете остающегося для них единственным «островком спасения», единственным смыслом жизни. Это в то же время и исследование нравственного самочувствования человека буржуазного общества в «век беспокойства», как определил двадцатое столетие У.X. Оден.
Поначалу роман озадачивает резким несоответствием между тем, что в нем происходит, и тем, как обо всем происходящем рассказывается. Читателю не вполне ясно, как воспринимать и расценивать события, о которых в нем идет речь: как серьезные или же непристойно-смешные? Да и что это вообще — драма с трагическим финалом или эксцентриада с «кровопролитием понарошку»? Так ли уж серьезны эти страдания, эти заботы «века беспокойства», подлинны ли его трагедии, не являются ли они потешным фарсом с переодеваниями, где страдальцы ломают дурацкую комедию, а клоуны тщатся изобразить борения страстей?
Хроникер ведет повествование. Он максимально приближен к объекту своего рассказа. Насмешник повествование комментирует, заставляет читателя взглянуть на описываемые события «остраненно», с иронической дистанции. Он максимально удален от героя. И если для первого, «сочувствующего», история Гарпа — это драма, то для второго, насмешливого, — все в жизни героя происходящее не более чем повод для зубоскальства.
На протяжении всего романа происходит эта смена «ролей» бесстрастного хроникера и язвительного комментатора. Причем последнему бывает достаточно лишь фразы-двух, чтобы, неожиданно вторгнувшись в рассказ хроникера, перевести драму в план абсурдно-гротескной буффонады. Ведь, с его точки зрения, в истории Гарпа нет ничего такого, что могло бы вызвать сочувствие, сострадание: все, что случается с Гарпом, нелепо и смешно. Как нелепо и смешно было, к примеру, само рождение героя...
И пересыпая свое повествование потешными анекдотцами и каламбурами, насмешливо «подправляя» биографа-хроникера, комментатор-иронист рассказывает грубовато-комичную историю фронтовой (дело происходило в конце второй мировой войны в полевом госпитале) любви-жалости медсестры Дженни Филдз к раненому технику-сержанту Гарпу (не пародия ли на «Прощай, оружие!»?) — «полному идиоту со словарным запасом в одно слово». Это слово — «Гарп» — техник-сержант выкрикивал на разные лады, при этом бессмысленно вращая выпученными глазами и пуская изо рта слюни. Потом он умер, а Дженни родила сына, обреченного носить странное имя-фамилию Т.С. (т.е. техник-сержант) Гарп: Дженни даже не знала имени своего «несчастненького», саркастически поясняет комментатор. И, ерничая, повествует о том, как Дженни стала «великой феминисткой», решив посвятить себя маниакально-бескомпромиссной борьбе с «этой грязной, мерзкой жизнью, где ты или чья-нибудь жена, или чья-нибудь девка, или готовишься стать одной из них...». Свое жизненное кредо («мир глазами Дженни Филдз» — «орава грубых мужланов, у которых на уме только похоть...») она сформулировала в автобиографии «Сексуально-подозрительная особа», впоследствии ставшей настольной книгой для членов радикально-феминистского «Общества Дженни Филдз».
И опять читатель недоумевает: всерьез ли принимать «жизнь-борьбу» Дженни Филдз, или вся история ее нравственно-этических метаний — пародия на столь распространенный ныне на Западе (а в США особенно) феминистский идеал «суперженщины»? Скорее последнее, ибо уж слишком откровенно абсурдной предстает вся «феминистская линия» в романе. Но в этом явном абсурде затаился вполне сознательный парадокс: фарс неожиданно может обернуться драмой, а то и подлинной трагедией. Смешна, конечно, бурная деятельность Дженни, для которой единственным способом защиты нравственности в «мире грубых мужланов» является проповедь фригидности. Но ведь буффонный (как тут не вспомнить «гротески» Эдгара По!) «мир глазами Дженни Филдз» очень зыбкой границей отделен, как показывает Ирвинг, от вполне реального трагически-уродливого «мира глазами Гарпа» — мира грубой жестокости и безнравственности, в котором лозунг сексуальной «вседозволенности» стал прикрытием для вопиющей разнузданности.
Смешны терзания некой миссис Ральф, страдающей комплексом неполноценности на сексуальной почве. Но безысходное ее одиночество, тоска по общению — уже основа настоящей человеческой драмы. Нелепо-смехотворны фуриозные участницы феминистского «Движения Эллен Джеймс», в знак протеста против «мужского мира похоти и насилия» вырезавшие себе языки. Но пародия на античный миф о Филомеле оказывается оборотной стороной трагедии — реального и чудовищного насилия, жертвой которого стала двенадцатилетняя Эллен Джеймс.
«Мир глазами Гарпа» страшен тем, что все предстающее в «дженни-филдзовском мире» смехотворным и неправдоподобно преувеличенным принимает здесь обличив фантасмагорического кошмара, от которого, кажется, нет никакого спасения.
В «Мире глазами Гарпа» равно уязвимы взрослый и ребенок, в нем с необычайной легкостью можно совершить и кровавое убийство, и самое гнусное насилие. Об этом мире — все книги Т.С. Гарпа, книги, в которых он пытается объяснить себе, почему так просто и безнаказанно можно в современных США уничтожить человека — нравственно и физически. С пронзительной болью, злостью и неподдельным трагизмом этот мир бесчеловечной жестокости изображен в последнем романе Гарпа «Мир глазами Бенсенхэвера» (отрывок из него в качестве полноправного компонента вкраплен в основное повествование ирвинговского романа).
Как и Бенсенхэвер, Гарп, этот повзрослевший Холден Колфилд, с горечью осознает, что в окружающем его мире «нельзя найти спокойное, тихое место», а если даже оно где-то и есть, то туда обязательно «кто-нибудь прокрадется перед тобой и напишет похабщину прямо перед твоим носом». Эта истина рождает у Гарпа отчаянную «холден-колфилдовскую» мечту: «Если бы ему предложили выполнить одно им загаданное желание, то Гарп пожелал бы сделать мир безопасным. Для детей и для взрослых», — сообщает биограф. Но эта мечта Гарпа, увы, несбыточна. Он бессилен спасти от поругания двенадцатилетнюю девчушку, как бессилен и уберечь от несчастья близких и дорогих ему людей: в автокатастрофе на глазах Гарпа гибнет младший, любимый его сын Уолт, получает тяжелое увечье его старший сын Данкен. Трагически обрывается и суматошная «жизнь-борьба» Дженни Филдз: во время феминистского митинга, транслируемого по телевидению, выстрелом в упор ее убивает неизвестный (невеселый намек на «телеубийство» Роберта Кеннеди). Гибнет, наконец, и сам Гарп, «по ошибке» застреленный фанатичкой-феминисткой из «Общества Дженни Филдз».
«Дженни казалось, что она родилась и выросла на большом корабле, не имея при этом ни малейшего понятия, где находится его машинное отделение», — замечает рассказчик в самом начале книги. Так никогда не узнал, «где находится машинное отделение», и Т.С. Гарп. Так и не сумел он найти ответ на терзавший его вопрос: почему этот мир — «опасное место для детей и взрослых». «Воспитание Гарпа» завершается грустным финалом: он вынужден согласиться с максимой знаменитого римского императора и философа-стоика Марка Аврелия, согласно которой «время, отпущенное человеку, — миг, бытие человека — нескончаемый поток, его чувства — мутный луч света, его плоть — добыча червей, его судьба темна, его торжество сомнительно...» Так в сложную полифоническую текстуру ирвинговского романа вписывается еще один — и весьма многозначительный в идейно-эмоциональном плане — «пласт»: «мир глазами Марка Аврелия» — извечное непостоянство и иллюзорность жизненного потока, в котором тщетны попытки что-либо понять и изменить.
И в конце концов становится ясно, что причудливое смешение серьезного и смешного, вся атмосфера подчеркнутой неразличимости драмы и бурлеска (так хорошо знакомая читателям Курта Воннегута) и, главное, «двуликость» ирвинговского повествователя — не просто остроумный стилистический «прием» автора, но идеологически — смысловая основа книги, существеннейший момент ее архитектоники. В «Мире глазами Гарпа» — несколько десятков персонажей, и почти у каждого из них свой «мир». Но если о «мирах» действующих лиц говорится всегда прямо, а порой и афористически четко, то авторское мировосприятие («мир глазами Джона Ирвинга») принципиально скрыто под двуликой маской его персонажа-повествователя, воспринимающего жизнь и с серьезно-трагическим стоицизмом, и — что местами сближает книгу Дж. Ирвинга с романами Дж. Барта, Д. Бартельма и других новейших представителей литературного модернизма в США — с иронически остраненным, насмешливым равнодушием. Оттого и отношение автора к своему герою становится двойственным: на все попытки Гарпа («иллюзии, которые питал...») разобраться в хаосе окружающей его действительности он смотрит то с искренней симпатией единомышленника, то с недоверчивой усмешкой скептика.
Закрывая роман, приходишь к ощущению известной эстетико-мировоззренческой шаткости авторской позиции Джона Ирвинга, исследующего-духовное бытие сегодняшней Америки. Нет сомнения в том, что, как и для Гарпа, для самого Ирвинга признание всесилия зла в «мире глазами Гарпа» — признание болезненное. Но если герой Ирвинга приходит к стоическому трагизму осознания своего бессилия перед лицом зла (и в этом смысле его гибель закономерна), то сам-то Ирвинг оказывается в положении куда более опасном и сомнительном: склонность объявить существующее зло неодолимым приводит писателя не только к отказу от попыток объяснить это зло, доискаться до его реальных причин, но и порождает иллюзорно-самоуспокоительное стремление «преодолеть» трагедию, обратив ее в фарс, в нагромождение нелепостей и безобидных глупостей. А потому и весь социально-критический пафос романа (не увидеть его невозможно) растрачивается, по сути дела, впустую: нелицеприятный «портрет нравов» — а точнее, «портрет безнравственности» современного американского общества — в итоге оказывается не искрометной сатирой, как может показаться сначала, а чем-то вроде «черно-юмористической» шутки. Шутки, которая маскирует неспособность автора разобраться в истинной сложности волнующих его проблем.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – Москва, 1981. – Вып. 2. – С. 85-88.
Произведения
Критика