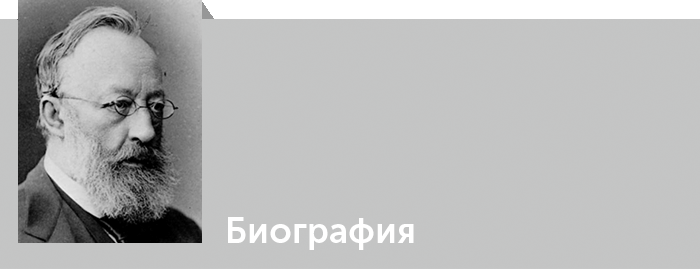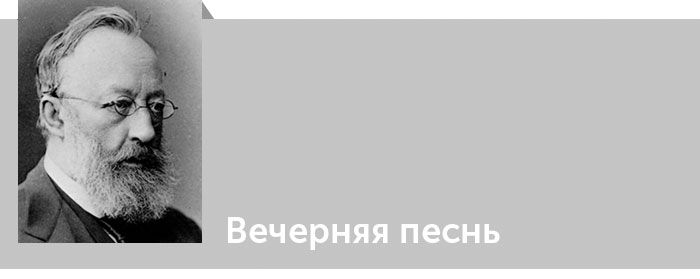История швейцарской литературы. Том 2. Глава 7

Творческое наследие классика швейцарской литературы Готфрида Келлера (Gottfried Keller, 1819-1890) изучено и откомментировано. Благодаря множеству сохранившихся документов, исследована и жизнь писателя. Две наиболее полных биографии, писавшиеся по горячим следам, принадлежат перу Якоба Бэхтольда и Эмиля Эрматингера; один из них, Бэхтольд, знал Келлера, много общался с ним. Келлер предстает в этих работах личностью сложной, неоднозначной, но по-своему цельной и гармоничной.
Поток работ о Келлере непрерывно нарастает. Меняются литературные пристрастия, отживают свое и уходят в историю литературные течения, школы и направления, а творчество Келлера сохраняет свой блеск.
При жизни Келлера его известность не выходила за пределы Германии и немецкой Швейцарии. Читали его мало. Полтысячи экземпляров “Людей из Зельдвилы” (весь тираж!) так и не были проданы за добрые двадцать лет, не разошлось и первое издание романа “Зеленый Генрих”. Добившись относительного материального благополучия (благодаря государственной службе), Келлер выкупил оставшиеся 110 экземпляров и пустил их на растопку печки. В 50-60-х годах его известность не шла ни в какое сравнение с популярностью полузабытых теперь Отто Людвига, Пауля Гейзе или Карла Гуцкова.
Европейское признание пришло к нему только в XX в., и то поначалу как к великому писателю, время которого миновало. Герман Гессе, восторженный читатель и почитатель цюрихского мастера, многому у него научившийся, в статье “Закат Зельдвилы” утверждал, что Келлер был последним поэтом, который доверял обществу и в свою очередь пользовался доверием народа: “Мы живем в другое время, у нас другая судьба. Блеск совершенства в его произведениях кажется нам теперь вечерней зарей после дня, который нам уже не принадлежит. Судьба сказала свое слово, в сожженной Европе Зельдвила выглядит приятным курьезом”1.
У прозы Келлера особая, неподражаемая тональность. Знаменитый критик Вальтер Беньямин признавался, как невообразимо сложно выразить в слове “несказанное очарование келлеровского стиля, его звучащее богатство”2, раскрыть механизм органического сцепления субъективности и объективности. У других авторов, писавших о Келлере в первой половине XX века, говорится о “совершенно неописуемом мастерстве”, о “фантастическом юморе”, об избытке жизненной силы, о “невероятной чистоте” и “кристальной красоте” прозы. Но чаще всего повторяется слово “блеск” — “блеск жизни” (Гуго фон Гофмансталь), “переменчивый блеск” (Герхарт Гауптман), “золотой блеск”, “блеск совершенства” (Герман Гессе) и т.д.
Все это, разумеется, верные определения. Но с середины XX столетия критики (а среди них опять-таки немало писателей) все настойчивее подчеркивают и бездны трагического мироощущения писателя, его неизбывную, глубинную печаль.
Вальтер Мушг, автор широко известной “Трагической истории литературы”, выводит особенности творческой индивидуальности Келлера из его судьбы и незадавшейся внешности — крупная, красивая голова на мощном торсе с непропорционально короткими ногами3. В. Мушг упоминает трудное детство Келлера, его холерический темперамент, непредсказуемость поведения, буйную фантазию, мечтательность, чувство отторгнутости от мира “нормальных людей”. Рассказывая о вспыльчивости молодого Келлера, о частых попойках, о бесконечных конфликтах с издателями (он никогда не успевал сдать к сроку обещанное), исследователь утверждает, что Келлер был “от природы недоверчив”, что его обуревали “гнев и злоба карлика” — он мог ни с того ни с сего взорваться, выйти из себя, обругать, а то и поколотить. В. Мушг приводит массу свидетельств современников о “недостойном”, с их точки зрения, поведении “ворчуна” и “драчуна”, с именем которого связано великое множество анекдотов, легенд и пересудов.
Для Германа Гессе важно другое: “У Готфрида Келлера мы видим, как из жалкой, полной лишений и забот жизни чудаковатого коротышки, бедного упрямого холостяка и любителя выпить рождается труд, в котором нет следов нужды и скрытой озлобленности. Мы видим, как этот неудачник, этот бедолага достигает гармонии в своем труде, создает атмосферу возвышенности и чистоты, жертвует красоте своим Я, что не только приводит в восхищение, но и, как пример служения искусству, может стать образцом для подражания...”4.
Земляк Келлера, писатель Курт Гуггенхайм, подходит к его творчеству с другой стороны. Он сомневается в историческом оптимизме Келлера, в искренности его политического радикализма, настойчиво ищет в письмах и высказываниях писателя следы душевной неустойчивости, вызванной разладом с бюргерским миром. Его интересуют проявления фатализма и меланхолии, интонации усталости, депрессии — и он в изобилии находит все это в богатейшем и разнообразнейшем наследии Келлера. Неизъяснимую “глубинную печаль” Келлера Гуггенхайм объясняет не столько замкнутостью характера, комплексом физической неполноценности, сколько боязнью лишиться творческой свободы, страхом перед социальными обязательствами, он умиляется “великодушию” цюрихских властей, предложивших пост секретаря человеку несдержанному, чудаковатому5.
Со своим толкованием Келлера выступил другой крупный современный швейцарский писатель — Адольф Мушг. Чрезвычайно чуткий к болевым точкам современного мира, А. Мушг написал не биографию в привычном смысле этого слова и не опыт интерпретации художественного текста, а скорее “внутреннюю биографию” писателя. Основным источником творческой энергии Келлера А. Мушг считает гнездящееся в человеке едва ли не с рождения чувство вины — перед собой, перед родителями, перед миром. Это чувство он называет “могущественной феей”, мотором цивилизации, с ним “взрослому человеку жить значительно легче, чем без него”6.
Писатели вообще часто пишут о Келлере. Томаса Манна, например, привлекал его “поэтический космос”, где все человечество хотя и отражалось без прикрас, но становилось “светлее, одухотвореннее, радостнее”. Другим (австрийцу Петеру Хандке) он помогает преодолевать крайности нигилизма, обретать надежду, принимать мир “вдумчиво и всерьез” — учиться у классики.
Сила Келлера — в умении добиваться равновесия между вымыслом и реальностью, поэзией и правдой, игрой и действительностью. Как никто другой в немецкоязычной литературе XIX в. он умел “уравновешивать субъективное и объективное, размышление и изображение, серьезные мысли и занимательность... уравновешивать благодаря искусству повествования, преломленного в иронии, сатире, юморе... ему удавалось... говоря словами самого писателя, давать “истинный образ современного общества” и вместе с тем воплощать “свободное царство поэзии”7.
Этический стержень его творчества А. Мушг не без оснований видит в “мужественной печали” или “печальном мужестве” — мужестве гуманиста на потерянном посту. Тайна творчества Келлера, правда его поэзии и поэзия его правды близко соприкасаются с трагическим гуманизмом XX в.
***
Готфрид Келлер — писатель с обостренным чувством родной земли. Он был активным участником либерально-демократических преобразований в Швейцарии середины XIX в. и воспринимал их как общенародную революцию. Сын рано умершего ремесленника, за детскую шалость изгнанный из школы для бедняков и не получивший законченного образования, Келлер ощущал себя частью народа и был уверен, что “народ всегда продуктивен и богат идеями, если он находится на правильном пути: все идеи коренятся в его лоне”8. Оптимистические, жизнеутверждающие интонации творчества раннего Келлера вытекали из глубокой веры в силу и нравственное здоровье народа. Преобладало радостное ожидание. Мечтая о будущем, Келлер не отрекался от прошлого и не охаивал настоящее — отсюда свойственная ему романтическая приподнятость. “Я считаю обязанностью поэта освещать не только прошлое, но и настоящее, — писал он, — и прихорашивать заключенные в нем ростки, чтобы люди могли поверить: да, так оно и есть и так это действительно происходит”9.
Победе либерально-демократических сил Келлер помогал не только словом поэта и публициста: в любой момент он был готов с оружием в руках защищать идеалы, в которые верил (в 1847 г. Келлер был среди участников вооруженного похода цюрихцев против Зондербубунда — союза кантонов, не принявших либеральные реформы). Но он никогда не был певцом власти, даже той, приходу которой способствовал. Его пугали конкретные проявления крепнувшего капитализма. Мысли о социальном неравенстве, о страданиях бедняков, “скорбь о нищете” часто вторгаются в его самые светлые, жизнерадостные стихи:
Так хорошо земле и мне,
И в нас звучит один мотив...
Но кто проселком в стороне
Бредет — оборван, боязлив?
По бархатистой красоте
Бродяга тащится тайком,
И в сердце скорбь о нищете
Вползает черным пауком.
(Перевод Н. Голя)
В основе творческого развития Келлера — терзавшее его несоответствие между мечтой и ее реальным воплощением, разлад между “поэзией” и “правдой”, между романтическими устремлениями души и духа и тем сопротивлением, которое им оказывали плоть, материя, повседневность. Разлад этот выходил далеко за пределы чисто социального, он всякий раз в той или иной форме касался вечных вопросов — смерти и бессмертия, вины и ответственности, творца и творения. Все им написанное пронизано пафосом познания и самопознания.
Келлер, как уже говорилось, не получил даже среднего образования. Его созревание как художника шло довольно медленно. Поначалу ему казалось, что его призвание — ландшафтная живопись. Но в Цюрихе не нашлось человека, который обучил бы одаренного юношу основам мастерства. В 1840-1842 гг. Келлер, с трудом собрав небольшую сумму денег, попытался продолжить учебу в Мюнхене, тогдашней художественной столице Германии. Он был предоставлен самому себе, посещал “Королевскую академию изобразительных искусств” в качестве вольнослушателя, а не “ординарного ученика”, что давало бы право иметь наставника, и продолжал писать свои “оссиановские ландшафты”. В конце концов, изведав крайнюю степень нужды, он вынужден был вернуться в Цюрих. Уже дома, пребывая в угнетенном состоянии, он познакомился с поэзией Георга Гервега, Карла Грюна, Фердинанда Фрейлиграта, Генриха Гейне. Революционная поэзия прозвучала для него боевым призывом, вырвала из летаргического сна и побудила искать новое призвание — на сей раз на литературном поприще. Революционные брожения в Швейцарии, предмартовские и мартовские события в Германии вызвали у него небывалый прилив воодушевления. За короткое время он создает несколько сот стихотворений, поражающих богатством образов и неожиданной для сдержанного, даже замкнутого Келлера исповедальностью тона. Стихи напоминают лирический дневник, в них содержатся в зародыше почти все темы и мотивы, которые позже будут волновать Келлера-прозаика. Как выразился один из исследователей (Л. Висман), из-за плеча Келлера-стихотворца все время выглядывает повествователь. Его стихи — это стихи рисовальщика и живописца, они насыщены зрительными образами, в них есть не только запечатленное душевное настроение, но и многоплановость содержательной структуры, и движение фабулы, ведущее, как правило, от непосредственного наблюдения к художественному обобщению, и буйство красок — то темных и мрачных, то светлых и радостных.
Ландшафтная лирика у Келлера неотделима от лирики любовной, политическая — от философской. Его поэзию вряд ли можно делить на отдельные линии — это единый поток, то спокойный, то бурный, со своими заводями и водоворотами, с многообразием пересекающихся струй, то радостно вырывающихся на поверхность, то снова устремляющихся в темные глубины, к изначальной печали неразрешимых проблем. Но поначалу на переднем плане все же лирика политическая. Это и фаза внутреннего развития, и примета времени. “Мое сердце трепещет от радости, когда я думаю о том, что живу в это время, — записывает он в дневнике в мае 1848 г. — ... Горе тому, кто не захочет соединить свою личную судьбу с судьбой общества! Ой тогда не только не найдет покоя, но потеряет внутреннюю опору и будет презираем народом, как сорная трава, растущая при дороге! Масса равнодушных и безмолвных должна быть устранена и морально уничтожена... Кто не с нами, тот против нас! Пусть каждый примет участие в работе, чтобы ускорить окончательную развязку!”10.
Под “работой” Келлер понимал не только политическую активность. Не меньшее значение имела для него внутренняя работа души, накопление опыта, постижение того, что происходило вокруг. Ученик Гервега и Фрейлиграта обретает собственный поэтический голос, который был отчетливо слышен и в Швейцарии, и в предмартовской Германии. Стихи Келлера отличаются безоглядной воинственностью, яростным отстаиванием либерально-демократических идеалов, силой и искренностью чувства. Ритмический порыв подчиняет себе все стихотворение. До окончательной победы еще далеко, но поэт ни на секунду не сомневается в торжестве революции. Если даже природа приветствует наступление свободы, если само светило зовет народ выйти ей навстречу, значит, свобода действительно близка — еще одно усилие, призывает поэт, и “дело пойдет” (стихотворение “Ca ira! Август 1845 г.”):
“Пойдет”, — приветствуют вершины
И птичьи трели все кругом.
“Идет!” — ответствуют глубины...
…………………………………….
Врага почуяв приближенье,
В самоотверженный поход
Пойдет святое ополченье —
Оно идет, оно идет!
(Перевод В. Топорова)
И вместе с другими добровольцами в строю шагал и Готфрид Келлер, восторженный волонтер свободы. Свободу и родину Келлер называет невестой, возлюбленной, восхищается ими, как в сти-хотворении “Цвет и иней”, где приближение свободы сравнивается с приходом весны:
Иль мне во сне под Новый год
Весну увидеть привелось?
Свобода через ночь идет
С волной распущенных волос!
(Перевод П. Железнова)
Но еще чаще у него к ним сыновнее чувство — желание защитить, обезопасить от врагов. Он мечтает о свободной родине и свободном народе и страдает от того, что на пути единства встают политические и религиозные распри. Свои собственные невзгоды он связывает с бедами отечества. Любовью к родине пронизано стихотворение “Отчизне” (“An das Vaterland”), написанное молодым поэтом в 1843 г. и ставшее потом национальным гимном Швейцарской Конфедерации:
О родимый край!
О мой отчий дом!
Я люблю тебя, люблю до слез, —
Лучшую, последнюю из роз
На пустынном берегу моем!
Нищим я бродил по чужой стране,
Но пред блеском гор твоих порой
Царский блеск казался мишурой,
И тобой гордился я вдвойне.
Ты была, Гельвеция, далека;
Грустным я с тобой в разлуке стал,
Но веселье снова обретал,
Встретив на чужбине земляка.
О Швейцария! Хоть ничем не мог
Я тебе воздать — не брезгуй мной
И могилу мне в земле родной
Удели, когда настанет срок!
Бренный прах отринув, к Творцу приду
С пламенным молением одним: —
Вот мой отчий край, — зажги над ним
Самую прекрасную звезду!
(Перевод А. Аркадьева)
Но не только любовь к родному краю звучит в этом вдохновенном признании, не только клятва в верности до последнего дыхания. Не менее важно и то, что Германию, по которой молодой художник “бродил нищим” и которую тоже глубоко любил, он все же называет “чужбиной”. В стихотворении спонтанно выплеснулась его вера в возможность образования новой нации на основе экономического и политического единства, вопреки отсутствию общего языка в разноязычных кантонах. Чуть позже Келлер сформулировал эту веру в чеканных строчках “Отечественных сонетов”. Родной язык, говорится в сонете “Швейцарская национальность” (“Schweizerische Nationalität”), — это “душистый материнский каравай”, “родная речь — наш вездесущий рай”:
А что ее сильней, ее важней?
Ответ наш прост: единственно свобода.
Она перемешала все языцы.
Потоки дум, мечтаний и страстей
Сольются в реку одного народа —
И никогда им не разъединиться!
(Перевод В. Топорова)
Время показало, что населяющие Швейцарию народности так и не стали, да и не могли стать единым народом, но они стали единой политической нацией, к чему Келлер, собственно, и стремился. Более того: он и тогда, в молодости, и особенно в зрелые годы не уставал подчеркивать глубинную связь независимых в политическом отношении немецких швейцарцев с культурой и духовной жизнью Германии, как художник он складывался под непосредственным и сильным влиянием двух факторов: исторических особенностей швейцарской жизни и гуманистических традиций немецкой литературы. Его, как и К.Ф.Майера, ничуть не прельщала роль представителя “национальной литературы в захолустье”. Как будто бы предвидя будущие интеграционные процессы в Европе, он не исключал даже возникновения “великого и свободного германского союза”, куда вошла бы и немецкая Швейцария, и был убежден, что “Швейцария найдет длительную и прочную опору только в свободной и справедливой Германии. Несмотря на все признаки того, что многие немцы (большей частью эмигранты) испытывают желание поучать Швейцарию и обходиться с ней насильственными методами (вполне объяснимый психологический феномен), я также убежден, что свободная и сильная Германия будет уважать в Швейцарии хранительницу германской федеративной правовой жизни, не станет мешать развитию ее культуры и заключит с ней союз на свободной и дружественной основе, а не на бонапартистски захватнической...” (Письмо к Ф.Вилле от 8 ноября 1860 г.)
Время, в которое жил и творил Келлер, называли порой “поэтического реализма”. Это определение подчеркивает сознательное обращение литературы к повседневной действительности, к миру посюстороннему, к “поэтизации” таких на первый взгляд прозаических вещей, как дом, семья, хозяйство. Однако отрешение от романтических иллюзий сопровождается у Келлера чувством утраты чего-то существенного, важного для духовной и душевной жизни человека.
И все же Келлер не погружается в тоску по исчезнувшему “царству свободы”, в котором лирическое “я” могло утверждать свою неповторимость без оглядки на реалии эмпирической жизни. Не желая примириться с распространенным мнением, что немецко-язычная поэзия в XIX в. превратилась в “меланхолический довесок” к большим повествовательным жанрам или стала эпигонской, он стремится к синтезу старого и нового, к сопряжению романтических надежд и романтической образности с тем отрезвляющим мироощущением, которое несла с собой техническая цивилизация. “Эпоха Келлера знает лириков значительнее, богаче, виртуознее и загадочнее, чем он. Но никто не связывает, подобно ему, желаемое с сущим, рефлексию с наглядностью, меланхолию с надеждой, притязания постромантического “я” с поразительной невозмутимостью перед лицом природных явлений”11.
Келлер знает о бренности и мимолетности жизни. Он не сомневается, что душа, “воспылав, умрет наверняка”, тем интенсивнее ее тяга к цветущим розам и их скоротечной прелести:
Пылать, цвести и жить привольно
Нас учит запах их и вид,
И сознавать уже не больно,
Что нам исчезнуть предстоит!
(Перевод П. Карпа)
Мысли о небытии, конечности человека, но и потенциальной бесконечности искусства особенно часто навещали поэта в пору его интенсивных внутренних споров с религией, с идеей бессмертия и загробной жизни. Но они были ведомы ему и раньше. Одновременно с жизнеутверждающими политическими и лирическими стихами, в середине 40-х гг. возникали произведения противоположной тональности, объединенные в цикле “Мысли погребенного заживо” (“Gedanken eines lebendig Begrabenen”, 1845-1846). Уже в самом названии чувствуется полемика со “Стихотворениями живого человека” (1841) Георга Гервега, тогдашнего кумира Келлера, разбудившего в нем дар певца (“Все в мире в вечный сон погружено — пока строка твоя не зазвенела!”). Отчасти, быть может, под влиянием посетившей его безответной любви, но и глубоких метафизических размышлений, поэт представляет себя очнувшимся в могиле — и тут же сокрушенно проходится и по своему времени, и по вечности:
Какое время! Время черноты
И немоты, где ни дождя, ни грома,
И дух червю подобен дровяному
В еловых досках... Вечность, это ты?
Только воля и юмор позволяют поэту преодолеть ужас знания о конечности человека:
Так вот он, рок ужасный и нелепый!
Занозя пальцы щепками в гробу,
Измерить я пытаюсь стены склепа,
Познать на ощупь страшную судьбу.
…
У адских врат, в тоске спины не горбя,
Борись и бейся, как достойный муж.
Хочу испить из полной чаши скорби
С тобою, Юмор, утешитель душ!
(Перевод Н. Голя)
В этих стихах, написанных двадцатипятилетним поэтом еще до встречи с Л. Фейербахом, под влиянием которого сложилось его материалистическое мировоззрение — этическая и эстетическая программа на всю оставшуюся жизнь. Келлер, в отличие от Готхельфа и Песталоцци, не был религиозным человеком, но он не был и агностиком, нигилистом. Его мир сохранил и высший смысл, и тайну бытия, и загадки непостижимой красоты природы, то есть то, что на языке других людей называется верой.
Чрезвычайно важную роль в становлении Келлера-художника сыграло его второе пребывание в Германии: сначала в Гейдельберге (1848-1850), где он слушает лекции Л. Фейербаха и становится приверженцем “энергичного мировоззрения” — материализма (отнюдь не плоского и одномерного) и атеизма (отнюдь не примитивного и грубого), а затем в Берлине (1850-1855), где он окончательно складывается как художник. На сей раз Келлер отправляется в Германию уже не на скудные гроши, собранные матерью, а имея материальную поддержку либерального цюрихского правительства, выделившего ему стипендию, выплачивавшуюся до 1852 г. Дальше Келлеру пришлось перебиваться случайными заработками, но к этому времени он уже был литератором, известным и в Швейцарии, и в Германии. В Берлине он издает сборник “Новых стихотворений” (“Neuere Gedichte”, 1854), упорно, хотя и без успеха, работает над драматическими сочинениями, заканчивает первый, ранний вариант романа “Зеленый Генрих” (“Der grüne Heinrich”, 1855), а также первый том знаменитого цикла новелл “Люди из Зельдвилы” (“Die Leute von Seldwyla”, 1856). Если вспомнить, что в эти же годы возникают и первые замыслы и наброски почти всех сборников его новелл (“Семь легенд”, второй том “Людей из Зельдвилы”, “Изречение” и частично “Цюрихские новеллы”), то станет ясно, что именно в эту пору он сложился как один из самых крупных мастеров реалистической литературы в странах немецкого языка.
Из Берлина Келлер возвратился известным писателем. Певец революции, потерпевшей поражение в Германии, но победившей в Швейцарии, он был принят в лучших домах Цюриха, обласкан власть имущими. Но среди тех, с кем он близко общается, и Якоб Буркхардт, Рихард Вагнер, Фридрих Теодор Фишер.
К нему по-прежнему благоволило правительство. Многое из того, за что он сражался, стало явью. Келлер с головой окунается в политическую жизнь, участвует в народных празднествах, которые помогали ему облегчить тяжесть никогда не покидавшей его “глубинной печали”, пишет ликующие стихи, прославляющие новое общественное устройство. Правда, стихами “на случай” его поэтическая активность в эти годы почти что и ограничивается.
Очень скоро, однако, Келлер становится критиком нового режима. Он видит, как дорвавшиеся до власти толстосумы все дальше отходят от милых его сердцу идеалов либерализма. Видит и не молчит. Неизвестно, как бы сложилась его дальнейшая судьба, если бы не освободилось вдруг место секретаря цюрихского кантонального правительства. Келлер принял участие в конкурсе и победил — не без поддержки своих именитых и влиятельных покровителей. Трудно судить, на что рассчитывал Келлер, резко изменив свой социальный статус. Не исключено, что ему хотелось активнее влиять на государственные дела. Как бы там ни было, вчерашний бунтарь и радикал становится лояльным чиновником.
Это случилось в 1861 г. На целых пятнадцать лет Келлер почти полностью отошел от творчества. Писатель стал писарем. Подсчитано, что за это время им сочинено не менее двухсот томов канцелярских бумаг; под государственными документами он поставил свою подпись не менее двухсот тысяч раз. Он проделал путь, в чем-то, быть может, сходный с гетевским, когда молодой поэт вдруг “бросил в болото всю свою поэзию” и занялся практическими делами при веймарском дворе. Но Келлер задержался на этом поприще дольше, и роль его в государстве была ничтожной.
Только в 1876 г. он отказался от должности, вышел на пенсию и целиком отдался литературному творчеству. С этого времени снова начинает пульсировать (правда, уже не с прежней силой) источник его поэзии. Преобладают элегические интонации, спокойные ритмы, приглушенная звукопись. От былой исповедальности не остается и следа. Место политического активизма и позднеромантической скорби занимают усталое разочарование, скепсис и мягкий юмор. Но стихи от этого становятся просветленнее и проникновеннее.
С годами Келлер начинает все больше сомневаться в том, что раньше он, при всех оговорках, под сомнение не ставил, — в прогрессе, в пользе технической цивилизации, в тех благах, которые несет в себе демократия. Так, на изобретение динамита он откликнулся гекзаметрами, которые не утратили своей злободневности и сейчас:
Если и горы уже покорились уму Архимеда,
Значит, мне страшно сказать, демон бразды захватил.
Ужасом полон мешок, словно нечистая совесть;
Каждый, достав динамит, в силах полсвета взорвать.
Вправду, конец мирозданья отныне все ближе и ближе —
Из ничего сотворен, мир обратился в ничто.
(Перевод В. Топорова)
К середине 70-х годов надежды на особый, безболезненный путь экономического развития Швейцарии стали развеиваться, по крайней мере, в глазах людей проницательных, к каким имел право относить себя и Келлер. Это не могло не отразиться и в его творчестве. Если в новеллах первого тома “Людей из Зельдвиллы” (“Три праведных гребенщика”, “Сельские Ромео и Джульетта”, “Сказка про котика Шпигеля”) Келлер осмеивает пороки мещанской идеологии и морали, противопоставляя им нравственное здоровье и простодушно-веселую непосредственность большинства жителей Швейцарии, сохранивших живые связи с патриархальным прошлым, то в новеллах второго тома (“Платье делает людей”, “Кузнец своего счастья”, “Утраченный смех”) за снисходительно-ироническим прищуром явственно ощущается оттенок трагического неверия в торжество добра и справедливости, в возможность свободного проявления заложенных в народе созидательных сил.
К этому времени окончательно складывается поэтика Келлера, в которой известную роль играют дидактичность и юмор. Они выступают в единстве, уравновешивая друг друга. Писатель стремился к тому, чтобы дидактичность, по собственным его словам, “растворилась, как сахар в воде”. Поэтизируя положительные стороны жизни, он относился к отрицательным с мягкой иронией и благожелательной снисходительностью. Ирония и юмор смягчают дидактические намерения. Келлер не снимает реальные конфликты, а делает их мягче и глубже — он видит отсвет вечности. Сущность его поэтики не исчерпывается термином “гротескно-поэтический реализм”12. Его очистительный юмор, как уже отмечалось, рождался из несоответствия между сущностью и явлением, в созданных им картинах и типах сквозят глубины мифа, просвечивают вечные узоры человеческих судеб. Характеры Келлера мало походили на реалистические типы — это была типологизация при археизации. Недаром Келлер был современником Бахофена, хотя прямого влияния его не испытал, да и до “глубинной психологии” было еще далеко.
Поэтика Келлера — и лирика, и прозаика — развивалась не столько вширь, сколько вглубь, пробивалась к тому пределу бытия, за которым начинается непостижимое. Любое определение его творчества в привычных литературоведческих понятиях поневоле однозначно. Кем он был — “критическим” или “поэтическим” реалистом? Сатириком? Или, напротив, идилликом? — Многое сошлось в его творчестве в самобытном и сложном сплаве. Реальность все чаще требовала не иронического “прищура”, а сатирического обличения. Келлер это чувствовал, и ирония его — особенно в романе “Мартин Заландер” — стала острее и язвительнее, а юмор обрел привкус горечи. Сфера же их приложения осталась прежней — человек и условия его существования в специфически швейцарском преломлении.
***
Величие и противоречия Келлера в полной мере проявились в романе “Зеленый Генрих” — одном из лучших в швейцарской, да, пожалуй, и во всей немецкоязычной словесности XIX в. романов воспитания.
Классическим образцом такого романа был “Вильгельм Мейстер” Гете. Но если воспитание личности совершается у Гете все же не столько в конкретной, узнаваемой действительности, сколько в сфере искусства, а о “политических или экономико-политических отношениях здесь и не заговаривают, перевороты, совершающиеся в то время в социальном укладе почти не заметны”, судьбы людей изображены “на прочном, патрицианско-бюргерском, сословном фоне... время и место нередко указаны лишь в самом общем смысле, так что все действие, при чувственной отчетливости деталей, разворачивается... в среде неопределеной, не поддающейся явной идентификации”13, то герой Готфрида Келлера воспитывается на реальной почве предмартовской Германии и республиканской Швейцарии. Пафос романа “Зеленый Генрих” (“Der grüne Heinrich ”, 1855; вторая редакция 1879-1880) в соединении индивидуальной судьбы и судеб общества, переживающего пору радикальных перемен. “Зеленый Генрих” крепче связан с конкретной действительностью, и в этом, в частности, его существенное отличие от “Вильгельма Мейстера”.
Первый, ранний вариант романа заканчивался гибелью Генриха — гибелью, по признанию как автора, так и критики, недостаточно мотивированной. Сам Келлер в письме к Генриху Геттнеру объяснял этот “кипарисово-сумрачный” финал причинами как социального, так и психологического свойства: “У меня была двойная тенденция: с одной стороны, показать, как мало гарантий может предложить сегодня для правильного воспитания личности даже такое просвещенное и свободное государство, как Цюрихский кантон, если эти гарантии не заключены предварительно в семье или в индивидуальных условиях, и, с другой стороны, исследовать психические процессы богато одаренного индивида, который отправляется в мир, вооруженный сентиментально-рациональной религиозностью нынешнего просвещенного, но слабосильного деизма, подходит к закономерным явлениям этого мира с произвольной, фантастической меркой и потому гибнет”14.
Но так или иначе эта гибель означала неспособность героя обрести равновесие между тягой к внутреннему совершенству и стремлением к плодотворной практической деятельности. По сути дела, первый вариант был “воспитанием к смерти”, а не к деятельной жизни среди людей. Генрих спонтанно принимает решение уйти из жизни, когда, возвращаясь после долгого отсутствия на родину, встречает похоронную процессию: скончалась, так и не дождавшись сына, его мать. Но это решение было подготовлено теми сдвигами, которые произошли в сознании Генриха после краха его попыток добиться признания в живописи. Смерть матери стала для него вечным укором в бессердечии, он чувствует вину за разрушенные семейные связи, которые считал “непосредственным источником бытия”. А с отказом от веры в бессмертие он стал воспринимать утрату матери еще интенсивнее и глубже. “Таким образом, финал у книги трагический, но ясный, — писал он Геттнеру, явно пытаясь убедить в этом не только адресата, но и себя самого, — и мне кажется, что я сумел представить так называемый атеизм в таком респектабельном и поэтическом виде, что он даже в глазах благочестивых людей может по меньшей мере считаться трагедией, способствующей очищению их представлений о Боге”15.
Надо полагать, радикализм решения Зеленого Генриха в первом варианте был в какой-то мере продиктован и тяжелым чувством нравственной ответственности писателя за нарушенное (разрушено оно было только в романе) семейное благополучие, и не внушавшей оптимизма общественно-политической обстановкой в Германии 40-50-х годов, где этот вариант создавался. В Швейцарии, куда после “годов учения” возвратился Келлер, социальные конфликты были не так остры, голодать писателю уже не приходилось, тяжесть вины больше не грозила его раздавить: семья восстановилась в своем прежнем облике, хотя он по-прежнему чувствовал себя иждивенцем матери и сестры. Однако финал, окончательного освободивший героя от рокового шага, мог сложиться не только благодаря этому, но и в силу художнической проницательности Келлера, решившего подхватить и продолжить традицию романа “воспитания к жизни”, учрежденную в “Вильгельме Мейстере”16.
Роман, который Келлер называл своей “роковой книгой”, подвергся существенной переработке. Менялись не только детали, частности, эпизоды, по-иному выстраивалась вся сюжетная линия. Теперь она выглядела так: перебрав многочисленные пути самоусовершенствования, швейцарский художник Генрих Лее, фигура глубоко автобиографическая, решает, устояв против многочисленных ударов судьбы, посвятить себя труду на благо общества. Он перестает быть мятущимся “зеленым” романтиком (заметим, что значение слова “зеленый” в заглавии романа, конечно, гораздо шире, нежели простой намек на “незрелость” героя”: оно отсылает ко всей амбивалентной символике зеленого цвета — цвета природы, надежды, но и покоя, смерти, разложения — все эти значения зеленого цвета намечают круг тем, связанных с образом главного героя), оставляет так и не принесшие ему удовлетворения занятия живописью и пробует то, что решительно отмел Вильгельм Мейстер: становится государственным служащим, но не активным гражданином, а “меланхоличным и немногословным чиновником”. Из его попытки до времени не выходит ничего путного: практическая деятельность не в состоянии рассеять “мрак опустошенной души”, и лишь любовь — неожиданно из Америки, куда она когда-то уехала в поисках лучшей жизни, возвращается возлюбленная Генриха Юдифь — приносит герою в финале романа долгожданное примирение с работой, с самим с собой, с миром.
Жизненные пути Вильгельма Мейстера и Генриха Лее во многом совпадают (оба отказываются от служения искусству, правда, во имя разных целей). Да и в самих произведениях, в их художественной структуре и даже в творческой истории, немало общего, при всей несоизмеримости философских и социальных основ, на которых возведены оба романа. Но несмотря на определенное сходство обоих романов, в “Зеленом Генрихе” меньше вымысла и вольного парения фантазии, чем в “Вильгельме Мейстере”. Это плод собственных воззрений и опыта писателя. Объясняя издателю Э. Фивегу “мораль” будущей книги, он настойчиво подчеркивал отсутствие в ней “какого-либо теоретического тенденциозного намерения”: “В ней нет ни одной страницы, которая не была бы пережита и прочувствована”17. Роман следует традиции сокровенных признаний Августина и Руссо, причем писатель и сам признавался, что стремился “подражать исповеднической откровенности Руссо, хотя и не в такой уж сильной степени”18. Ему приходилось пристально вглядываться в глубины своего “я”, но это воспринималось и как проклятие, ибо каждое индивидуальное становление немыслимо без примеривания к Абсолюту, будь то Бог или Природа (тоже с заглавной буквы). Вглядывание в себя неотделимо от блужданий в лабиринте бытия, от нащупывания первоисточника совершенства, от смутной догадки, потом все более осознаваемой, что постичь божественное можно только через “продолжение самых индивидуальных особенностей внутреннего устроения личности за их собственные пределы”19. Келлер как бы прячет себя в своем предмете, в своем герое, не заявляя об этом прямо, оставляя на поверхности едва заметные следы и знаки, понятные посвященному20.
Зеленого Генриха отличает способность к развитию. Ему, как и гетевскому герою Вильгельму Мейстеру, свойственно то, что присуще всем людям — ложь, хвастовство, попытка самоутверждения любой ценой, желание казаться кем-то, кем ты на самом деле не являешься. Но Генрих более приземлен, чем Мейстер. Тоска по защищенности, по семейному уюту, желание обрести прибежище в природе сильнее взыскующего истины духа. Келлер проводит своего героя через превратности жизни, но теперь для него вместо просветительского оптимизма нормой становится нравственный стоицизм, характерный для литературы XIX и XX вв. Гетевский герой может отречься от внешнего мира и, став членом “общества башни”, полностью сосредоточиться на внутреннем самосовершенствовании, — для героя Келлера подобное отречение уже невозможно в силу новых исторических условий.
Два авторитета были главными для мировоззренческой и эстетической ориентации Келлера и его героя — Гете и Фейербах. Об ошеломляющем открытии Гете рассказано в начале третьей части романа. Возвратясь с масленичного представления, Генрих Лее находит дома многотомное собрание сочинений Гете, которое принес ему для ознакомления бродячий торговец. Сорок дней подряд, не выходя из дому, читает Генрих эти книги — и становится другим человеком, способным на прежде неведомые чувства. “То была самозабвенная любовь ко всему возникшему и сущему; она чтит право и смысл всякого явления, ощущает внутреннюю связь и глубину мира. Любовь эта выше, чем корыстное выкрадывание художниками отдельных подробностей, которое в конечном счете всегда приводит к мелочности и непостоянству; и она выше, чем восприятие и отбор, вызванные прихотью или романтическими пристрастиями; только она одна способна зажечь в человеке ровное и неостывающее пламя. Все представлялось мне теперь новым, прекрасным и волшебным, и я стал видеть и любить не только форму, но и содержание, сущность и историю вещей. Нельзя сказать, чтобы на меня так сразу снизошло прозрение, но то, что постепенно пробуждалось во мне, несомненно шло от тех сорока дней; их воздействие на меня явилось главной причиной (курсив мой. — В.С.) последовавших событий”21.
Но не только зоркости и незамутненности взгляда на окружающий мир научил Гете молодого швейцарского художника: он совершил переворот и в его воззрениях на поэзию, заставив отказаться от всего “непонятного и невозможного, вычурного и чрезмерного” и внушив ему мысль, что поэзия есть “нечто жизненное и разумное”.
О воздействии Людвига Фейербаха больше сказано в письмах из Гейдельберга, чем в самом романе, хотя и там есть упоминание, что Лее, находясь в замке просвещенного графа, цепко ухватился за труды одного философа, помогшего ему разобраться в основных вопросах бытия. Келлер и раньше не был религиозным человеком, “счастье знания” было для него выше веры в бессмертие души. Но встреча с философом, его лекции, дружеское общение с ним стали поворотным пунктом духовного развития писателя. В Фейербахе его привлекало глубокое восприятие природы. “Для него не существует ничего, кроме природы, он воспринимает ее всеми фибрами своей души, во всей ее глубине, и не позволяет ни Богу, ни дьяволу отвлечь себя от нее”22. Однако восприятие Келлером фейербаховских мыслей о сущности христианства не было пассивным, он выстраивал “ряд собственных параллельных мыслей”, дополняя и развивая то, что накопилось и ждало выхода в нем самом. Он, художник, задавался вопросом, не станет ли мир после Фейербаха прозаичнее и вульгарнее. И отвечал: “Нет, напротив, все становится яснее, строже, и в то же время ярче и чувственнее...”23.
Келлера интересовала не философия или религия сами по себе, его интересовало искусство. Он был убежден, что без абсолютной духовной свободы и страстного отношения к природе искусство не сможет сохранить себя, а для этого художник должен ощущать себя смертным человеком. “Моим принципом стало: кто не испытал горьких переживаний и страданий, тому неведома злость, кому неведома злость, в того не вселяется бес, а кто таковым не бывает, тот не может создать ничего такого, что сохранится надолго”24.
Бог для Келлера (в детстве он связывал его то с образом золотого петушка на крыше, то с образом тигра в книжке с картинками) до Фейербаха был инстанцией, наличие которой он не решался отрицать. Лишь после знакомства с философом он набрался мужества и отрекся от веры и идеи личного бессмертия. Он стал атеистом во имя утверждения земной жизни и человеческого достоинства. Сыграл в этом акте свою роль и швейцарский республиканизм Келлера — он не желал подчиняться абсолютному монарху не только на земле, но и на небесах. И все же проблема Бога до конца жизни оставалась для Келлера нерешенной, была отягчена виной. Келлер не верил в Бога, он верил в смерть, которая витает над всеми его созданиями, но за ней он ощущал незримое присутствие Бога. Смерть в его интерпретации обретает религиозные очертания25. Недаром Келлер признавался, что “смещение” не было окончательным: “Мой Бог давно уже был чем-то вроде президента или первого консула, не пользовался большим авторитетом, и мне пришлось его сместить. Однако я не могу поклясться, что в один прекрасный день мой мир снова не выберет главу империи”26. “Глубинной печали” Келлера всегда сопутствует если не надежда, то по крайней мере память о надежде, изведанной в детстве и юности и неотделимой от религиозного чувства. Прав был Л. Циглер, когда писал, что Келлер “придал атеизму Фейербаха глубину, которой могла бы позавидовать иная теистическая догматика”27.
И работа над первым вариантом “Зеленого Генриха”, и последовавшая через много лет переделка продвигались с огромным трудом и “сказочной неспешностью”, что объяснялось прежде всего высочайшей требовательностью художника к своему детищу. Келлер догадывался, что под его пером рождается произведение европейского масштаба. “Я живу постоянно с открытым внутренним взором, — писал он в августе 1853 г. Г. Геттнеру, — со спокойной и полной рассудительностью впитываю в себя всю горечь и с видом знатока смакую каждую ее каплю на предмет использования. Во мне живет смутное предчувствие, что я когда-нибудь сделаю нечто совершенно необходимое, оправданное и цельное, и я спокойно жду приближения этого момента; ибо в нем будет заключена вся моя жизнь”28.
Своим романом Келлер словно подтверждает известное высказывание Шопенгауэра, о том, что чем больше внутренней и чем меньше внешней жизни изображено в романе, тем возвышеннее и благороднее он будет. Жизнь героя представляется цепью неудач и поражений, вызванных болезненными столкновениями одаренной натуры с суровой действительностью, но разворачивается она на фоне столь красочно воссозданной природы и отличается таким внутренним богатством, что ее мрачное содержание как бы отодвигается на задний план и ускользает от внимания. Избавление от романтических иллюзий восполняется приращением духовного и душевного богатства. Изображая этот процесс, Келлер в то же время размышляет о нем, не упуская из вида ни социальные моменты, ни собственно художническую проблематику, ни экзистенциальные проблемы. Его повествовательная манера в этом романе отличается тем, что вымысел в ней удачно сочетается с глубоким самоосмыслением и вовлечением в этот творческий процесс читателя. Меняются точки зрения, идея просвечивает в предмете, возникает многомерный образ действительности, недоступный многим реалистам.
Но стихией, в которой Келлер чувствовал себя, как рыба в воде, была все же новелла. “Зеленый Генрих” с его вставными рассказами, многочисленными отступлениями и аллегорическими пассажами (новелла об Альбертусе Цвихане, история Петера Гильгуса, история девочки Мерет, сон Генриха) тоже напоминает вязь эпизодов (“вязаный чулок”!), серию глав-новелл — прочных сюжетных скреп нет.
***
Нигде так не проявилось мастерство Келлера, как в его новеллах. Богатство их содержания не сводимо ни к социально-политическим темам, ни к бытописанию швейцарской сельской и провинциальной городской жизни (как нередко — в параллель к “Деревенским рассказам” Б. Ауэрбаха — понимали его в XIX в.), ни к биографическим мотивам его произведений, толкуемых обычно в духе глубинной психологии. Содержательна сама их форма. Келлер всякий раз старается организовать в единое целое новеллы, не связанные друг с другом ни сюжетом, ни общими героями. Сборники его новелл — это циклы с тщательно продуманной внутренней структурой. В обоих томах “Людей из Зельдвилы” (“Die Leute von Seldwyla ”, 1856, 1874) впечатление целого возникает не только благодаря единому объекту изображения, но и благодаря присутствию автора с его знаменитым “ироническим прищуром”.
Ощущение полноты жизни достигнуто отнюдь не за счет подробного ее описания. Новелла “Сельские Ромео и Джульетта” начинается с картины пахоты: два рослых, поджарых, в расцвете сил крестьянина поднимают, двигаясь кругами каждый по своему полю, борозду за бороздой. Они осмотрены внимательным взглядом — видны даже кисточки на шапке каждого, то поднимающиеся, как два белых фитилька, к небу, то свисающие у каждого на лоб или затылок в зависимости от меняющегося при повороте ветра. Но картина не столько подробна, сколько величественна и торжественна. Все увидено, как говорится в тексте, “с некоторого отдаления”. Две фигуры на поле похожи друг на друга, их движения симметричны. Они уже не только крестьяне Манц и Марти — они “представляют исконный тип этой местности”. Да и история детей этих двух вскоре насмерть рассорившихся крестьян, юноши и девушки, полюбивших друг друга, — не подражание Шекспиру в сельских декорациях, а еще одно воплощение древнего узора человеческой жизни. Сияет солнце над блещущей рекой, над спускающимся в долину взгорьем, “над тихой, золотой сентябрьской местностью”. Но нельзя не заметить, что два крестьянина, двигаясь за плугом, поочередно исчезают за пригорком, “как две закатывающиеся звезды” — их закат и гибель уже предвещены. Нельзя не заметить и повторяющуюся деталь — камни. Камни, забрасываемые крестьянами на разделяющую их поля пустующую землю. Камни, выросшие преградой между их полями. Камень, которым дети разможжили когда-то голову кукле. Камень, лишивший разума крестьянина Марти, когда сын Манца Сали пытался защитить свою возлюбленную от побоев отца.
Детали у Келлера, предстающие во всей полноте чувственного, несут в себе в то же время символический смысл. Больше того: их повторение упорно ведет по пространству новеллы едва прочерченные мотивы, вливающиеся в конечном итоге в богатое полифоническое звучание келлеровского письма. Подобных мотивов в этой (да и не только в этой) новелле великое множество. Они несут в себе цепь значений, связанных не только с намерением писателя и его “идейным” замыслом, но с богатством и сложностью самой жизни, охватить которые он умел. Указанной особенностью своей техники Келлер предвосхитил технику ведения тематических деталей у Т. Манна.
Когда Келлер приступал к созданию своих новелл, перед глазами у него были образцы немецкой романтической новеллы — Клейста, Гофмана, Эйхендорфа, Тика, Шамиссо, Жан-Поля... Ближе к середине века в творчестве К. Л. Иммермана, Б. Ауэрбаха, от-части И. Готхельфа, складывается новелла, укорененная в реальности, приземленная, отмеченная глубоким знанием народной жизни. Новизна этой новеллистики уже не в сюжете, не в исключительности описываемых событий, а в скрупулезном, по возможности точном воссоздании среды и обстоятельств. Заимствуя отдельные мотивы у романтиков и реалистов, Келлер толкует их по-своему, приспосабливает к собственной художественной системе. Келлер не просто соединяет оба типа новеллы: в творческой полемике с тем и другим направлением он создает новую разновидность повествовательной прозы, во многом созвучную повестям Гоголя. Главное для Келлера — пробиться к вечной основе жизни и человеческих характеров, к их архетипическому ядру (ведь характер, как полагал Гете, а вслед за ним и Новалис — это судьба), показать, что отступление от этой сути чревато жизненными невзгодами и катастрофами. И наоборот: жизнь в согласии с самим собой помогает человеку преодолеть любые трудности. Все десять новелл, составляющих оба тома “Людей из Зельдвилы”, — это рассказы о том, как стать самим собой и жить по-человечески, какие помехи и препятствия приходится преодолевать на этом пути и что получается, если преодолеть их — по слабости или по нежеланию — не удается.
Вплетая в свои истории предания, легенды, элементы народной и авторской сказки, писатель насыщал их реальностями швейцарской истории, социальными проблемами, атмосферой общественной жизни своего времени, тем, что казалось бы шло от реализма второй половины XIX в. Однако художественное содержание лучших зельдвильских новелл не исчерпывается той или иной комбинацией романтической и реалистической эстетики: сплав разнородных элементов дает новое качество. Сатира под пером Келлера смягчается, открывая большие возможности для юмора и жизненной достоверности. Даже в самых, казалось бы, фантастических ситуациях, например, в “Сказке про котика Шпигеля” (“Spiegel, das Kätzchen. Ein Märchen”) Келлер-повествователь ведет себя так, словно рассказывает о самых обыденных вещах. Пристальным вниманием к бытовым подробностям, неторопливым течением фразы, приправленной изрядной дозой иронии, а, главное, способностью говорить о лице человека через “лицо” предмета, швейцарский писатель близок к Гоголю, а некоторыми сторонами своего творчества предвосхищает появление Франца Кафки, пораженного, как и Гоголь, синдромом “глубинной печали”.
Не столь проста и келлеровская лучезарность, его захватывающая читателей упоенность жизнью. Он создал ясный, цельный, покоящийся в самом себе, “круглый” мир. Но лишь концовки его новелл приносят гармоническое разрешение — радость и покой (возвращение “блудного сына” домой в новелле “Бука Панкратц”). В них просветление и гармонизация прошлого, высота, с которой можно охватить перипетии рассказанной истории. Так ли утешительны эти разрешения? Счастливый конец знаменует обычно успокоение после многих потерь. Люди меняются не только к лучшему: даже самые привлекательные его герои, очерствев и ожесточившись под влиянием обстоятельств, уже не могут вернуться к прежней ясности (“Дитеген”).
Просветленность новелл Келлера немыслима без мягкого юмора — необходимой краски его повествования. Но как и все у Келлера, его юмор направлен в “разные стороны”: он обнаруживает властную силу реальности, но и преимущества фантазии, мечты, сказки. Юмор подчас оборачивается в его новеллах гротеском и сатирой (“Три праведных гребенщика”, “Кузнец своего счастья”). Он художественно необходим в том постоянном совмещении видимости и действительности, Schein und Sein, на котором построены многие его новеллы (“Платье делает людей”). “Блаженный солнечный город” Зельдвила обретает свою противоположность в страшном городе Рюхенштейне, безрадостные жители которого жаждут расправ и казней (“Дитеген”).
Взгляд Келлера на швейцарскую действительность становился с годами все более мрачным. Но его “идилличность” и всегда имела двойное дно. Замысел страшной новеллы “Дитеген” из второй части “Людей из Зельдвилы” возник не многим позже публикации гораздо более светлых новелл первой части. Жизнь в его восприятии подвижна и трагична, счастье хрупко. — Не случайно в его новеллах встречается образ стекла (за пределами зельдвилского цикла, например, в новелле “Бедная герцогиня”), приобретающий у Келлера столь же символическое значение, как “огонь”, “вода”, “танец”, “праздник”, “камень”, “граница”.
Этот писатель глубоко мифологичен. Он ощущал присутствие вечности в каждом миге, ощущал древние первоначала. Чувствовал присутствие опыта многих поколений и опыта их жизни в существовании каждого человека
В “Цюрихских новеллах” (“Zürcher Novellen”, 1878) — серии исторических картин, посвященных родному городу, писатель отнюдь не случайно обращается к переломным для Швейцарии историческим моментам — Средневековью, когда швейцарская государственность только зарождалась (“Хадлауб”, “Дурак из Манессе” — 1300-е и 1380-е годы), Реформации (новелла “Урсула”), когда под вопрос было поставлено единство страны, к эпохе накануне Великой Французской революции (1783). Значение личности, таким образом, соотнесено — правда, отнюдь не прямыми путями, с ходом истории.
Этот сборник по праву считается одной из вершин немецкоязычной новеллистики XIX в. Кажется, впрочем, что и здесь автор стремится выйти далеко за строгие рамки жанра. Многие новеллы цикла посвящены не одному конкретному персонажу, как это часто бывает в классических образцах, а сразу многим героям. Широта же взгляда Келлера, охватывающего, при сосредоточении на судьбах конкретных людей, даже в пределах небольшой новеллы многие эпохи и времена, поражает.
Задуманные и писавшиеся одновременно со второй частью “Людей из Зельдвилы”, “Цюрихские новеллы” также организованы по принципу единого цикла. Пять новелл сборника объединены в единое целое общими темами и мотивами, единой проблематикой (центральной здесь является проблема оригинальности человека).
Первые три новеллы (“Хадлауб”, “Дурак из Манессе” и “Ландфогт из Грейфензее”) к тому же обрамлены, а потом и перебиваются повествованием о юном чудковатом бездельнике — господине Жаке, который однажды, “на исходе двадцатых годов девятнадцатого столетия” (на закате романтической эпохи!), прочитав в какой-то книжке о том, что на земле больше не осталось “по-настоящему оригинальных людей”, “теряет покой и сон”, желая во что бы то ни стало “быть оригиналом”. (Нетрудно заметить, что имя героя рамочной новеллы намекает на Жан-Жака Руссо).
Крестный отец Жака рассказывает ему две поучительные истории — радостную — о состоявшихся личностях, рыцаре Рюдигере Манессе и миннезингере Хадлаубе, стараниями которых появилось на свет знаменитое Манесское собрание средневековой лирики (“Хадлауб”), и мрачную — о последнем из потомков рыцаря Манессе — Буце Фалетчере (“Дурак из Манессе”). Подлинным оригиналом оказывается и ландфогт Саломон Ландлот — герой третьей истории крестного (“Ландфогт из Грейфензее”) — деятельный человек на своем месте.
Образцы подлинной оригинальности представляют и две новеллы, выпадающие из рамочного обрамления — “Урсула”, посвященная деятелю Реформации, подвижнику Лютера, Ульриху Цвингли, и “Флажок семерых отважных” — самая ранняя из написанных для цикла новелл и единственной из всех, не имеющая исторических прототипов. Эта новелла рассказывает о современниках писателя — простых людях, чувствующих себя равноправными гражданами своей страны — именно они и есть настоящие оригиналы, ибо теперь они движут историей.
Настоящим оригиналом, по Келлеру, может считаться не тот, кто старается возвыситься над другими, а тот кто живет в согласии с окружающими и собой, кто помнит о прошлом, усердно трудится на избранном поприще, добивается успехов и становится достойным подражания, уважаемым человеком.
Автор “Цюрихских новелл” — и сам человек, кровно заинтересованный в “позитивном” противодействии разного рода “вывихам” в литературе и жизни, отклонениям от нормы и претензиям на оригинальность любой ценой. Такая позиция проявилась и в его отношении к литературе.
Он, например, не понимал эмфатического стиля Фридриха Ницше, несправедливо считая “свихнувшегося на вагнерианстве-шопенгауэрианстве” философа “отъявленным, махровым филистером, потому что именно люди такого сорта имеют обыкновение в молодости вот так лягаться и выдавать себя за кого угодно, только не за филистеров: такое ослепление для них — нечто само собой разумеющееся”33. Правда, позже Келлер благосклонно принимал присылаемые ему Ницше книги (“Веселая наука”, “Так говорил Заратустра”, “По ту сторону добра и зла”) и даже встречался с философом, но каких-либо свидетельств подлинного интереса к нему не оставил.
Особое место в творчестве Келлера занимает сборник “Семь легенд” (“Sieben Legenden”, 1872). Обращаясь к преданиям эпохи раннего христианства, писатель, по его же словам, утверждал “свободу выбора материала в противовес террору внешней актуальности”34. Литературным источником послужил сборник легенд о жизни и подвигах мученичества святых, составленный благочестивым протестантским священником Л. Т. Козегартеном. У Келлера возникла мысль сделать из этих сказаний “эротически-светские истории”, в которых дева Мария выступает заступницей тех, кто жаждет побед, плотских утех и семейных радостей. Работа над легендами началась еще в 50-е годы, первоначально Келлер предполагал включить их в состав задуманного тогда же сборника “Изречение”, но затем выделил их в отдельную книгу. Опираясь на мысль Л.Фейербаха о сущности христианства как сугубо земного, человеческого феномена, он на свой лад пересказывает древние легенды, докапывается до античной первоосновы, скрытой за позднейшими наслоениями, не разрушая при этом наивной поэзии христианского мифотворчества. В келлеровских рассказах, пронизанных лукаво-иронической интонацией, нет и намека на глумление над святыми таинствами церкви. Однако жажда земной жизни с ее радостями и горестями у его героев всякий раз оказывается сильнее религиозного аскетизма и праведничества. “Семь легенд” — гимн во славу земной жизни, одно из самых светлых по настроению и краскам произведений Келлера. Дева Мария у него, в полном соответствии с теорией Л.Фейербаха, — возлюбленная и мать, богиня естества, любви, человечности, свободы от догм и запретов.
Сборник отличается сложной системой взаимосвязей и перекликающихся мотивов внутри цикла, представляющего собой своеобразное повествовательное единство. Еще более изощренными способами, при внешней простоте, достигается композиционная целостность цикла “Изречение” (1881). Многослойное и многоплановое переплетение обрамляющего действия с входящими в сборник новеллами таково, что можно говорить об “Изречении” как о романе в новеллах; пожалуй, подошло бы и жанровое определение “поэма”: в немецком названии “Sinngedicht” (“стихотворная эпиграмма”, “изречение в стихах”) этот смысловой оттенок присутствует. Тщательно продуманная и виртуозно выстроенная конструкция произведения с массой внутренних перекличек и связей, игрой мотивов и символов, сменой повествовательной перспективы призвана придать обобщенный смысл житейским и бытийным проблемам, встающим перед человеком во все времена.
Обрамляющий цикл любовный роман молодого ученого Райнхарта и эмансипированной красавицы Люси одновременно является и основным действием “Изречения”. Устав от экспериментов с неживой природой, Райнхарт случайно наталкивается на эпиграмму поэта XVII в. Фридриха Логау: “Ты хочешь превратить белую лилию в красную розу? Поцелуй Галатею: зардевшись, она расцветет улыбкой”, — и решает проверить, так ли это на самом деле, тем более что подошла пора подыскать себе спутницу жизни. Подобно героям рыцарских романов, он отправляется в странствие. Одна из встреченных им девиц в ответ на поцелуй смеется, не краснея, другая, пасторская дочка, заливается краской, но сохраняет серьезную мину, и только Люси затевает с ним тонкую игру-испытание, которая в конце концов завершается сближением и помолвкой. Приключения Райнхарта в пути, а также истории о выборе невесты, которые поочередно рассказывают Райнхарт, Люси и ее дядюшка, и составляют содержание тринадцати новелл “Изречения”.
В центре каждой новеллы — проблема взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Анализируя содержащиеся в новеллах-притчах уроки, Райнхарт и Люси приходят к выводу, что перед светом любви и разума бессильны сословные предрассудки и расовые перегородки, имущественное неравенство и разница в образовании. “Зардевшись, расцвести улыбкой” означает в толковании Келлера счастливое сочетание естественной свободы сердечного чувства с естественным же чувством стыдливости. Все нравственное естественно, все естественное нравственно. Счастливые исходы наблюдаются там, где нравственность не насилует, печальные — где она искажается.
Отстаивая высокую культуру и чистоту отношений между мужчиной и женщиной, Келлер облекал в художественную форму собственные несбывшиеся мечты о семейном уюте и защищенности. Он называл их “маленькими психологическими романами”, полагая, что, помимо внешней занимательности, они обладают глубокими внутренними мотивировками — и достоверностью, несмотря на бросающуюся в глаза роль случая в их развертывании. Защищаясь от упреков в непредсказуемости поступков своих героев, он писал: “Про себя я называю такие вещи поэтическим царством непосредственности, т.е. правом в любую эпоху, в том числе в эпоху франков и железных дорог, без колебаний подключиться к иносказанию, к сказочному, — правом, которое, на мой взгляд, не может быть отнято никаким развитием культуры. Если как следует приглядеться, то ведь всегда находились чудаки, готовые и впрямь содеять под настроение нечто небывалое, тогда почему это не может стать элементом новеллы? Разумеется, все cum grano salis”35. В “Изречении” обыгрывается великое множество мотивов из народных сказок, библейской и античной мифологии, топика рыцарских романов, романтические мотивы. Но именно это и делает цикл одним из самых сложных и совершенных произведений немецкоязычной литературы XIX в. Фридрих Ницше, ставивший Келлера в один ряд с Гете, Лихтенбергом и Штифтером и называвший его “баловнем в царстве сладких и зрелых плодов”, писал осенью 1886 г.: “Этой весной я попросил свою матушку почитать мне вслух ваше “Изречение” — и мы от всей души благословляли вас за него (и во все горло, так как мы много смеялись): таким чистым, свежим и ядреным показался нам этот мед”36.
***
“Зеленый Генрих”, и еще в большей степени новеллистика Келлера не только коренятся в традициях литературы XIX века, но и предвещают технику прозы века XX. Незавершенный роман “Мартин Заландер” (“Martin Salander”, 1886), плод радикальной переоценки ценностей на закате жизни, также стоит — по крайней мере в том, что касается подходов к художественному освоению новой действительности — у истоков швейцарского романа XX столетия. В романе, споры о котором не затухают вот уже добрую сотню лет, в тугой узел стянуто множество специфически швейцарских, общеевропейских и общечеловеческих проблем, конфликтов и противоречий, не утративших своего значения и по сей день.
“Заландером” завершается классическая эпоха в развитии швейцарского романа, и им же открывается новая страница движения жанра. Последний роман Келлера стоит на стыке столетий, он — явление переходной поры. Все, что было создано писателем до него, в какой-то мере окрашено, несмотря на весь драматизм коллизий, “счастливым светлым взглядом на мир”, давшим ему “возможность иронически-дружелюбно обыгрывать даже самые нелепые и отвратительные жизненные явления”37. В его творчестве было “бесконечно много поэтической мечты... — писал К.-Я. Буркхардт Г. фон Гофмансталю. — До “Заландера” мир видится как бы сквозь призму, а потом стеклышко вынуто из глаза, и внимательному читателю открывается нечто очень зловещее. И при этом нечто очень локальное, понятное нам, швейцарцам, но совершенно не свойственное другим странам. Можно только пожалеть, что никто не написал такого предостерегающего “Заландера” для немцев”38.
К концу XIX в. Швейцарская Конфедерация из отсталой страны, какой она была накануне революции 1848 года, превратилась в развитое индустриальное государство с густой сетью железных дорог, промышленных предприятий и банков. Усилилось имущественное неравенство. Но благодаря особой структуре швейцарской экономики (преобладание мелкотоварного производства) общественные противоречия выступали в менее острой форме, чем, например, в соседних Германии или Франции. Сильны были и давние традиции нейтралитета — во внешней политике Швейцарии никогда не звучала агрессивная нота. Благодаря всему этому кризисные явления, неизбежные в период так называемого “дикого капитализма”, выступали в неясных, смазанных формах.
Но явления эти были все же налицо, и швейцарские писатели не могли на них не отозваться. Идея социального романа большого общественного звучания буквально витала в воздухе. В швейцарской литературе этого времени не было, пожалуй, писателя, лучше подготовленного к созданию такого романа, чем Келлер. Но и он долго не решался браться за эту задачу, боясь, что насыщенное актуальным политическим содержанием произведение может превратиться в памфлет.
В наброске так и не написанного предисловия к “Мартину Заландеру” Келлер поставил замысел своего романа в общеевропейский контекст: “Кажется, сейчас наступила пора, когда все нации, большие и малые, делают в романной форме чистосердечные признания, в которых они жалуются на утраты и сравнивают их, каются в заносчивости и заблуждениях и обмениваются рецептами оздоровления. Каким бы однотонным ни становилось пение, от него не уклониться ни одному из певцов, тем более что художественная форма допускает свободу действий, какую непросто найти в других жанрах. В этом смысле предлагаемый маленький роман вливается в общее русло и не претендует ни на что другое, кроме как внести свою ноту в хор голосов, затягивающих “у нас как везде”39.
“Мартин Заландер” — произведение этапное не только для Келлера, но и для всей швейцарской литературы. Это была попытка проникнуть в “драматическую сущность эпохи”, отразить ее “новыми методами, сближающими творчество Келлера с развитием критического реализма европейских стран”40.
Упомянутое Келлером выражение “у нас как везде” — парафраз известной французской поговорки — вложено в уста Арнольда Заландера, сына Мартина. Он, а не воспитанный на либерально-республиканских идеалах Заландер-страший, открывает в швейцарской действительности тревожные симптомы. И Заландер-старший, взгляды и настроения которого близки келлеровским, скрепя сердце готов согласиться с сыном, готов признать, что за неустанным заботами об общественном благе он просмотрел какие-то существенные перемены в умонастроениях, что республиканские идеалы, которые он утверждал, давно превратились в ширму для тех, кто думает только о личном обогащении.
Это нелегкое признание. Оно означает крушение идеалов, которыми Заландер руководствовался в жизни. Но признаться еще не значит смириться. Модель общественного поведения бюргера, совращенного жаждой накопительства (Заландер оставил место школьного учителя и стал “свободным предпринимателем”), остается прежней. В его прекраснодушном легкомыслии (он позволяет проходимцу Вольвенду, спекулирующему на идеалах дружбы, раз за разом обманывать себя) и столь же прекраснодушном оптимизме есть нечто донкихотское, некая избыточная человечность, которой Келлер, несмотря на критическую дистанцию по отношению к своему герою, временами откровенно любуется.
Если Мартин Заландер обрисован в слегка ироническом, а его оппоненты Вольвенд и юные нотариусы — в откровенно сатирическом свете, то Заландер-младший изображен без каких-либо недостатков. Правда, образ этот в романе набросан пунктиром, он понадобился писателю для выражения пошатнувшихся, но все еще живых идеалов молодости. Это, по сути дела, наметка нового типа гражданина, осознавшего, что чрезмерная общественная активность может нанести ему как личности непоправимый урон. Все попытки Мартина Заландера втянуть сына в политическую борьбу наталкиваются на вежливый, но решительный отказ. Арнольд начинает с того, чем кончил Генрих Лее: он сознательно ограничивает себя сферой частной жизни. Личная свобода для него важнее общественного преуспеяния, потому что это перуспеяние, считает он, рано или поздно будет употреблено во зло бессовестными и пронырливыми дельцами. Укрытие личности в частной жизни, намеченное в финале “Зеленого Генриха”, доведено здесь до крайней точки. В образе Заландера-младшего уже намечены черты чудаковатых отщепенцев, неуживчивых одиночек — отчужденных людей, густо населяющих швейцарскую литературу XX в.
“Мартин Заландер” — литературное и политическое завещание Келлера, в нем он дал выход своей озабоченности будущим Швейцарии. Мюнстербург, вымышленный город, где происходит действие, — это та же Зельдвила, но утратившая признаки идилличности и красочного своеобразия. То, что раньше было веселым и забавным курьезом, стало тревожившей писателя нормой. Э. Эрматингер, признанный знаток творчества Келлера, заметил, что “над миром Заландера нависли глубокие тени. Нигде Келлер не стоит так близко к пессимизму Буркхардта и старого Готхельфа, как в этом последнем своем произведении”41.
Роман потребовал от писателя ломки всей системы воззрений, выработки нового поэтического строя. “Мартин Заландер” — уже не “роман воспитания”. Его герой — сложившийся человек. Автобиографические черты из “Заландера” вытеснены основательно. Значительно вырос критический заряд. Опыт социального анализа — уже не фон, на котором развертывается судьба индивида, а непосредственная художественная задача. Способы сопряжения микро- и макромира усложняются и интенсифицируются. Романная интрига, перипетии сюжета, концепция времени и пространства, даже образ рассказчика и характеры основных персонажей — все призвано оттенить лейтмотивную мысль, что “у нас как везде”. Сцены, ситуации и эпизоды предельно уплотнены, приобретают вес символов. Такова, например, открывающая роман сцена возвращения Заландера из Бразилии после семилетнего отсутствия и его мысли о переменах, происшедших с Мюнстербургом и его обитателями, — ситуация “возвращения блудного сына” стала с тех пор, чуть ли не типологическим признаком швейцарского романа XX в.
В последнем романе Келлера нет пространных описаний, как в “Зеленом Генрихе”, не ощущается движения времени, хотя действие, включая предысторию, охватывает около сорока лет из жизни Заландера и Мюнстербурга. Сменяются времена года, стареют персонажи, подрастают молодые поколения, но время — романное, художественное время — почти не движется, так как не развиваются, застывают в неподвижности келлеровские герои. Они скорее типы, чем индивидуальные образы, скорее воплощения определенных общественных сил, чем живые люди. Такими они получились в результате сознательного стремления художника создать тенденциозный социальный роман с высокой степенью обобщения. Келлер создавал художественную модель общества, вкладывая в нее и предостережение, и предсказание, и в значительной мере поучение. Мюнстербург может считаться прямым, хотя и далеким предком фришевской Андорры (“Андорра”, 1961) и дюрренматтовского Гюллена (“Визит старой дамы”, 1956).
Воплощение масштабного замысла (Келлер два года обдумывал роман, прежде чем приступить к его написанию) удалось писателю только наполовину. Дело не в ослаблении творческих потенций и не в пагубном сосредоточении на одних лишь политических проблемах, в чем его упрекали критики. Вторжение в сферу политики и социологии необходимы в том жанровом варианте, в каком роман был задуман. Дело, скорее, в усилении пессимистического мироощущения на склоне жизни, подкрепленного негативными тенденциями общественного развития. Взглянув на Мюнстербург без поэтической “призмы”, Келлер ужаснулся. Логика жанра требовала показать закат и крах “положительного бюргера”, как это спустя несколько лет на примере четырех поколений Будденброков продемонстрировал Томас Манн. Келлер, однако, на такую развязку не решился. Полное драматической силы противоречие между желаемым и сущим вылилось в романе в не очень убедительный финал с плохо мотивированным хеппи-эндом: вороватые нотариусы, успевшие стать зятьями Заландера, угодили в тюрьму, разоблаченный Вольвенд навсегда покинул Мюнстербург, роман закончился победой Заландера — и нравственной, и юридической.
Такой финал, однако, не мог удовлетворить писателя. Чувствуя, что конфликт не получил достоверного разрешения, Келлер обдумывал другие варианты завершения романа. То он хотел написать второй том под названием “Арнольд Заландер” и возложить в нем задачу спасения отечества на молодое поколение. То намеревался обрушить на Мюнстербург стихийное бедствие, в котором выживут только благонравные, а порочные погибнут. Есть среди разработок и такой вариант: в один прекрасный день к власти приходят социалисты и анархисты, но против них со всех сторон поднимается народ и кладет конец их недолгому господству. К идеям социализма и коммунизма Келлер относился с недоверием, Парижскую коммуну решительно не принял, в рабочем движении видел угрозу “народной демократии”.
Второй том так и не был написан, роман остался незаконченным. Келлер был им недоволен и жаловался (в разговоре с А.Фреем), что “в нем слишком мало поэзии”.
***
Когда “Мартин Заландер” вышел в свет, о нем благожелательно отозвались только швейцарские писатели и критики — Карл Шпиттелер, Йозеф Виктор Видман, позже Герман Гессе, назвавший роман “жемчужиной... которая переживет большинство современных произведений”42. Немецкие же литературоведы почти единодушно осуждали Келлера за отход от “гетевской традиции чистого искусства”, политическую тенденциозность и дидактичность. Споры продолжаются, и сегодня одни ученые на Западе продолжают бранить Келлера за попытку социального анализа, другие же склоняются к тому, что “Мартин Заландер” — выдающийся образец реалистического романа конца прошлого века. Что до российского литературоведения, то у нас с 30-х годов укоренилось и не подвергается пересмотру мнение, что последний роман Келлера, до сих пор не переведенный на русский язык, значительно слабее его предыдущих произведений, в первую очередь “Зеленого Генриха”.
У “русского” Келлера странная судьба. В общественном мнении России он сразу же, еще при жизни, утвердился как крупный художник-реалист. Его книги читали в оригинале, изучали, давали им точные и взвешенные оценки. Но переводили мало и как-то уж очень выборочно, в основном отдельные новеллы. По сути дела, ни одна из творческих граней художника — поэта, романиста, новеллиста, публициста и литературного критика — не знакома русскоязычному читателю в полной мере. Повезло, пожалуй, только “Зеленому Генриху” — он выходил по-русски дважды, в двух переводах (1958, 1972). Долгое время обходилась вниманием поэзия Келлера; интерес исследователей и переводчиков вызывали в основном стихотворения политического содержания. Келлер действительно был выдающимся политическим поэтом. Но ведь до конца жизни он оставался еще и замечательным мастером пейзажной и философской лирики. В поэтическом космосе Келлера человек ощущает себя частицей вселенной, его быстротечная жизнь, вливаясь в бесконечное бытие природы, обретает утраченную цельность и гармонию, наполняется высшим смыслом. Обращаясь к природе, Келлер не только очеловечивал ее, не только воспевал ее красоты и благоговейно сливался с ней, возвышаясь, подобно романтикам, над серостью будней; он тянулся к ее познанию, стремился проникнуть в ее тайны. Уже в почтенном возрасте он с юношеским восторгом упивался “сладким соком жизни”, и этот восторг не могли омрачить даже мысли о закате и смерти. Теодор Шторм, с которым Келлер долгие годы поддерживал дружескую переписку, назвал его “Вечернюю песнь” (“Abendlied) “чистейшим золотом лирической поэзии”:
Глаз моих открытое окно,
Что свой свет мне дарит так давно
И картины мира заодно!
Станет в нем когда-нибудь темно.
Свет погаснет навсегда в глазах,
И душа, забыв былой размах,
Пыль дорог стряхнет с себя впотьмах
И осядет в мрачных сундуках.
Только два дрожащих огонька
Будут мне светить сквозь облака,
Не погаснут, не замрут пока,
Словно от полета мотылька.
Пейте, взоры, сладкий жизни сок,
Все, что я вобрать душою смог
В странствиях вдоль полевых дорог
На звезды падучей огонек!
(Перевод Б. Слуцкого)
Все творчество Готфрида Келлера отличают — с небольшими вариациями на разных этапах — ясность и незамутненность взгляда на мир, неистребимая любовь к земле и земным радостям, твердая вера в добрую основу бытия, при неизбыной тоске по внутренней гармонии.
Верность этой гуманистической программе писатель пронес через всю жизнь; верность, и еще чувство вины, что внешние обстоятельства помешали ему быть последовательным до конца. Уже будучи тяжело больным, он порывался вписать в визитную карточку навестившего его К.-Ф. Майера загадочные слова: “Я виноват, я страдаю...” (“Ich schulde, ich dulde...”). Интенсивность и глубина этического чувства определяют наряду с даром поэтического преображения жизни то значительное место, которое творчество швейцарского классика занимает в сокровищнице европейской и мировой культуры.