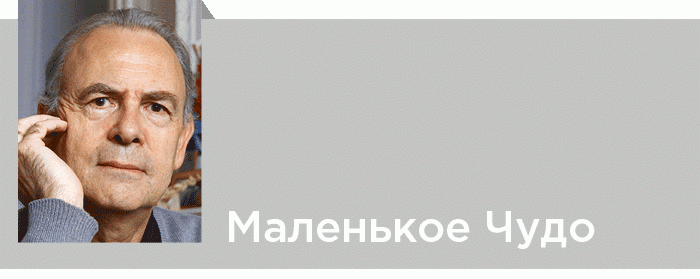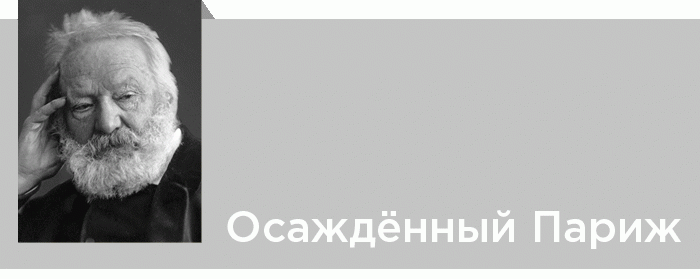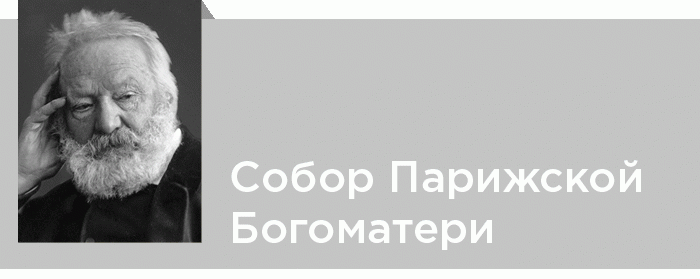К вопросу о сущности и функции романтической символики (На материале творчества В. Гюго)
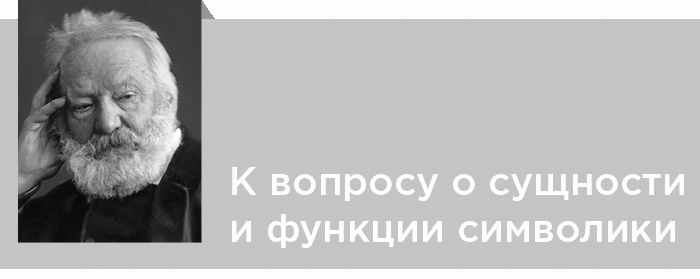
И. Я. Волисон
Об актуальности проблемы свидетельствуют и значение символики для романтизма, и попытки реакционного литературоведения трактовать творчество романтиков прежде всего в духе мистицизма.
Именно поэтому большой интерес представляет вопрос о различии между символикой романтиков разной общественно-политической ориентации. К сожалению, в этом смысле и в современных работах еще имеются неточности и противоречия. Так, например, в книге о Шелли И. Г. Неупокоева показала, что «символические образы революционного романтизма имеют глубокое общественно-историческое содержание. Они отражают те реальные жизненные процессы, в которых с наибольшей полнотой проявились революционные черты эпохи». A В. Ванслов в «Эстетике романтизма» утверждает: «Жизненные явления нередко изображались романтиками как символы какой-то другой, нездешней жизни... лишь намек на подлинную и высшую жизнь, скрывающуюся за видимым бытием». Разница между двумя определениями совершенно очевидна. По мнению И. Г. Неупокоевой, романтическая символика помогает раскрытию действительности, по мысли В. Ванслова, она уводит от жизни, которая используется как трамплин, отправная точка. Собственно, так оно и было у реакционных по своим взглядам романтиков, но ведь в работе В. Ванслова дается типологическое определение и при этом отсутствуют указания на специфику символики прогрессивного романтизма.
Не говорит о ней и Н. А. Гуляев, который (хотя и называет при этом в качестве примеров конкретные имена реакционных романтиков и символистов) подчеркивает мистическую сущность романтической символики как таковой и именно в этом видит ее отличие от реалистической символики. «Но надо иметь в виду, что функция символики в романтическом и реалистическом искусстве не совпадает. Романтический символ обычно уводит от конкретной жизни в идеальные, часто мистические сферы (Тик, Новалис, По, Бальмонт и др.). Он не служит выражением существенных черт реальной действительности».
Все сказанное выше подтверждает необходимость дальнейшего освещения вопроса о специфике символики писателей-романтиков, в частности В. Гюго. Тем более что реакционное литературоведение пытается и его превратить в мистика.
Символику в творчестве В. Гюго 20-х годов характеризует Б. Г. Реизов в статье «Виктор Гюго, Пьер Леру и символический стиль». Очень убедительно подчеркивается здесь органичность символики для поэтики Гюго: «В символическом сравнении он ищет форму выражения своей философии». В статье показано влияние на писателя популярной тогда во Франции философии тождества, по-своему утверждавшей идею всеобщего развития и связи явлений.
Б. Г. Реизов анализирует статьи П. Леру о символическом стиле. Этот вывод из статей П. Леру необходимо подчеркнуть потому, что у нас делались попытки вычленить только одну сторону символического стиля: «Романтическая реформа заключалась не в введении конкретно-материальной лексики, не в том, что глаза стали голубыми, а не прекрасными, а в стремлении создать трансцендентальную литературу».
А куда же девать «голубые глаза» романтиков? «Вместо слова туманного, метафизического, — писал Сент-Бёв, — употреблять слово прямое, например, вместо «гневного неба» «черное небо в тучах», вместо «меланхолического озера» «голубое озеро»... предпочитать «деликатным пальцам» «пальцы длинные и белые». «Черное небо», «длинные пальцы», «голубые глаза» в данном случае не техническая деталь, а принципиально важное нововведение, характеризующее своеобразие символического стиля Гюго и его отличие от Ламартина с присущей последнему тенденцией к дематериализации реального мира.
Вот характерное для Гюго этих лет стихотворение «Летний дождь» (1828), в котором сочетается точная деталь, материальная лексика с символическим подтекстом и прямо выраженным стремлением проникнуть в «иную действительность»: «Прошел проливной дождь. Небо снова становится голубым. Блестит наполненная водой земля. На время переполнившийся ручеек несет и вертит травинки».
И тут же: «Жизнь — это солнце после дождя, оно все время опускается» (опускается солнце, уходит жизнь). А в конце оды «Радуга! Радуга!.. сколько раз моя душа мечтала о крыльях, чтобы узнать, в какой мир ведет эта голубизна, огромная арка небесного моста».
Однако 20-е годы — только начало пути Гюго, в это время его идейно-художественная система только складывается. Еще не определились важнейшие стороны его философской и политической программы. Он уходит от былого роялизма, но еще не пришел к демократии. В этот переходный период у него появляются ламартиновские мотивы пренебрежения к земле, ее заботам и борьбе, мысли о никчемности человеческой жизни, ограниченности возможностей человека.
Именно поэтому в его «теории гения» в это время подчеркивается тезис о поэте-пророке, вещающем «слепым людям высшие истины»: «Слушайте, сыновья земли, жалкий люд, которого зовет могила, что в одинокой мечте открыло мне видение».
Сама философия тождества, отдельные положения которой разделяли и реакционеры (Бональд и Де Местр принимали идею о соответствии мира вещей миру идей, символическом значении материального мира), не могла служить достаточной основой для четкого разграничения между Гюго и реакционными романтиками, хотя его отделяет от них вера в прогресс, идея совершенствования. Не определились окончательно и основные признаки символики Гюго. Не стерты границы между фантастическим и реальным, нет еще у него символического цвета, устойчивых постоянных символов. «Ощущение безграничного пространства, восприятие общего в единичном, чувство бесконечного, которые будут доминировать во всем творчестве Гюго,... в его первых произведениях присутствуют в очень слабо развитом виде».
Новое качество символики возникает у Гюго начиная с 30-х годов, когда он заявил, что «детям лиры легче читать вторую страницу неба», и начал все упорней пробиваться к «голубой кривизне небесного моста».
У него появляются символические образы людей, порожденные представлением о человеке как звене цепи, ведущей от «камня к богу». В соответствии с этим совершенствование личности трактуется как движение от животного начала к божественному, сущность человека определяется его местом на лестнице, ведущей к богу (то ближе к животному, то ближе к богу).
Изменяется и характер его фантастики. Во второй половине 30-х годов он снимает границу между реально существующим и фантастическим, не ограничивается тем, что «пещера, заросшая травой, кажется открытым от ужаса ртом», а уверяет, что «как и я, живут, имеют душу, смеются, разговаривают в темноте чудовищные дубы, наполняющие леса».
Все это как будто подкрепляет мнение о том, что символика уводит в мистические сферы. И с этим можно было бы согласиться, если рассматривать символику Гюго вне его философской и политической программы, автономно от них, не заглядывая в конечную цель этого «ухода».
Хорошо известно, что именно в это время (начиная с 30-х годов) укрепляется демократизм писателя, растет его политическая активность, интерес к актуальным проблемам политической и социальной жизни и что все это происходит под влиянием освободительного движения. Его вера в прогресс, совершенствование приобретает иную основу, его стихийный демократизм превращается в осознанный. Добро и зло получают у него более четкий «социальный адрес».
Это проявляется и в выборе героя. Им становится человек из низов. Гюго включается в общий для тогдашней прогрессивной литературы процесс.
Уроки недавней революции сказались и в том, что писатель все больше осознавал политическую силу и возможности народа, верил в них. Если в конце 20-х годов он писал:
Опора нации, народ, терпя обиды,
Выносит на плечах всю тяжесть пирамиды...
Сдвигает с места все, на гранях вознесенных,
Как жалкую скамью, так потрясает троны
то теперь он идет дальше.
Народ идет. Настал его прилива час.
Смывая прошлое, навек он смоет вас! (Перевод Э. Линецкой),
Свою веру в грядущее народовластие Гюго выражает и в публицистике («Литературно-критические статьи», 1834), и в переписке. В дальнейшем, после революции 1848 г., когда Гюго окончательно откажется от монархизма, обратится к более сложной и обоснованной критике буржуазного общества, когда в его творчестве будет все явственней отражаться «веяние революции», он придет к пониманию «суверенности народа в революции» (Ю. И. Данилин).
В том же направлении развиваются и философские взгляды писателя. После «Собора Парижской богоматери» он утверждал идею «искупления через страдание», только на первый взгляд совпадающую с христианской. Для него она означала отказ от безнадежности, веру в возможность земной, а не только небесной компенсации за страдания, отказ от идеи неискупимого греха, социальный оптимизм. Позже он писал: «Не бывает страдания ради страдания... в страдание входят и из него выходят». Отличие от христианской теории здесь прежде всего в том, что речь у Гюго идет о земной жизни, земном существовании. Идеалист Гюго не отказывается от веры в потустороннюю жизнь, демократ и оптимист утверждает, что «в социальном зле повинны люди» и что его можно и нужно преодолеть: «Изображать двойное несчастье, несчастье человеческое, зависящее от судьбы, несчастье социальное, зависящее от человека,.. необходима вера в будущее человека на земле».
Одновременно тезис об «искуплении через страдание» ведет писателя к преодолению фатализма, к признанию человеческой активности. Виновные в социальном зле люди могут и должны против него бороться. Следовательно, Гюго признает необходимость критической оценки действительности, борьбы против угнетения, верит в возможность преодоления социальных пороков.
Новые взгляды писателя нашли свое отражение и в его эстетике, в частности в изменении трактовки отношений между художником и народом. Уже в 30-е годы он делит читателей на «народ» и «публику», все больше задумывается над обязанностями художника по отношению к народу, ответственности перед ним. «В век, в который мы живем, горизонты искусства расширились: когда-то поэт говорил — публика, сегодня поэт говорит — народ». После 1848 г. Гюго пойдет дальше. Он откажется от деления народа на «народ» и «чернь». Он с гордостью заявит, что и художник «чернь», что он — порождение и голос народа: «Ты великое лоно. Гении рождаются тобой, таинственная толпа». Теперь художник уже не только пророк, вещающий людям истины. Он сам учится у народа: «Полезно, необходимо, чтобы дыхание народа проникло в их всемогущие души. У народа есть, что сказать им».
С народных позиций он не только отрицает чистое искусство («Понятно, когда цари говорят поэту: «Будь бесполезен», но невозможно, чтобы так говорили народы»), но и признает революционную полезность искусства: «Нет, патриотическая или революционная полезность ничего не отнимает от поэзии».
Все сказанное выше подтверждает, на наш взгляд, известное положение П. Бере: «Испытывая, самые различные влияния, он не остановился ни на одной определенной доктрине и искал среди различных учений элементы веры, согласующиеся с его социальными ожиданиями и требованиями».
И действительно, демократизм и социальный оптимизм определяют философию Гюго.Поэтому важно подчеркнуть и то, что бог Гюго — «Сумма естественных и нравственных законов, неуклонно осуществляющихся в физическом и общественном мире», и то, что эта закономерность обеспечивает лучшее будущее для народа. Вот почему бог Гюго, как и бог Мишле, Луи Блана, — это бог угнетенных, «народный бог». Процесс их сближения писатель завершит утверждением: «Есть народная поговорка, образующая из бога и народа два члена одного уравнения».
Другими словами, перед нами одна из частых в прошлом веке попыток поставить идеализм на службу народа, его счастья и будущего. И, следовательно, отвергая философию Гюго, нельзя игнорировать ее демократическую и гуманистическую основу, которая дает себя знать во всем его творчестве, во всех его теориях, даже самых запутанных и наивных. Так, в «Философском предисловии» к роману «Отверженные» он пишет, что расположенные вокруг источников света — солнц планеты делятся на миры наказания, очищения, вознаграждения, т. е. и тут он пытается обнаружить все то же движение от несчастья к счастью, которое считает основным законом развития общественной жизни. Вот почему и его утверждение, что «могучие дубы дышат и разговаривают», нельзя рассматривать просто как уход в мистику, поскольку духовная жизнь природы используется им как аргумент в пользу все того же социального оптимизма. Утверждение П. Альбуи: «Религия бессмертия звезд не отделена у Гюго от его политической доктрины. Она ее продолжает и обосновывает» — может быть распространено на всю его философию природы.
А это позволяет Гюго не ограничиться в 30-е годы традиционным романтическим конфликтом между «природы вечным гимном и воплем души людской» и искать в гармонии и красоте природы залог будущего человеческого счастья: «Человек! Не бойся ничего. Природа знает великий секрет, и она улыбается». Правда, в дальнейшем у Гюго будет не раз появляться и мотив грозной природы, враждебной человеку силы, но в целом и его философия природы скорее оптимистична и способствует борьбе за лучшее будущее.
Социальная и политическая окраска символики Гюго не вызывает сомнений. Разве не симптоматично, что его первые символические образы людей — образы людей из народа? Рассказывая о звонаре парижского собора, писатель приводит в движение систему символов (судьба, портрет, преображение), гиперболы и антитезы, чтобы раскрыть политическое положение и политические возможности народа. Символичен и образ Рюй Блаза, о котором Гюго скажет: «Народ, у которого есть будущее и нет настоящего; народ — сирота, бедный, умный, сильный... Народ — это Рюй Блаз».
Социальная основа символики Гюго обнажена и в образе Гюинплена, известное заявление которого раскрывает и идейное содержание образа и эстетические «секреты» символики Гюго: «Маска вечного смеха на моем лице — дело рук короля... Вы считаете меня выродком! Нет, я символ... я воплощаю в себе все... Я представляю человечество, изуродованное властителями... Милорды, народ — это я».
Следовательно, представление о символике Гюго как средстве ухода от действительности было бы упрощенным, хотя, естественно, нельзя игнорировать ее отличие от символики реалистической. Для Гюго она не прием, а порождение его мировоззрения, философии, признающей существование иного мира, наличие сверхчеловеческих сил, управляющих судьбами человечества. Отсюда и неизбежность отлета в мистические сферы, но цель его — не уход от земли, а решение земных дел. Он взлетает, чтобы вернуться. Гюго и сам хорошо сказал об этом в стихотворении «Продиктовано перед Ронским ледником» (1829): «Так, мои мысли идут... от земного океана... поднимаются к небу и непрерывно опускаются с неба в море». В прямой публицистической форме эта идея выражена в книге о Шекспире: «Очерчивая вокруг поэта подобные магические круги, вы ставите его вне человечества... что он может мгновенно исчезать в глубинах — это хорошо, так и должно быть, но при условии, чтобы он появлялся снова. Пусть он уносится, но пусть и возвращается».
Именно эта земная, социальная направленность символики Гюго при всех потерях, вызванных идеализмом писателя, и определяет ее действенность, ее реальное участие в анализе общественной жизни, борьбе против политического и социального зла. Тем более, что она не изолирована у него от конкретной образности. Одновременно с попытками прочитать «вторую страницу неба», поэт обращается к социальной и политической проблематике, вместе с другими прогрессивными писателями протестует против безработицы, голода, нищеты и бесправия народа, критикует Июльскую монархию (лирика 30-х годов, «Клод Ге») и еще более настойчиво и энергично Вторую империю («Возмездие», «Наполеон малый», «История одного преступления»).
Прямое изображение реальности идет и по другой линии. «Начиная с 30-х годов, он часто рисует в соответствии с натурой».
Речь идет не об отдельных частных случаях. Удельный вес конкретной образности у Гюго так значителен, что его называли реалистом, реалистом среди романтиков и т. п., игнорируя при этом романтическую сущность его творчества. В нашем литературоведении теперь от этого отказались, но возникает опасность другого рода. Г. Гачев, стремясь подчеркнуть специфику романтического искусства, определить значение фантастики для романтического образа, делает односторонний вывод: «Кричащие диспропорции романтических образов прямо выражают уродующую человека сущность капиталистического общества. И в открытии этого способа видения мира (а не в том, что у Байрона или Гофмана можно встретить и непосредственные резкие обличение буржуазии)... выразилась специфическая для романтизма форма гуманности и народности, форма протеста против общества отчуждения».
А куда в таком случае отнести прямое обличение общества отчуждения? Снова за пределы романтизма? Это привело бы и к ошибочной идейной оценке творчества романтиков, поскольку самые остро обличительные произведения оказались бы чем-то случайным, нехарактерным для них; и так была бы сделана уступка тем, кто пытается преуменьшить критическую силу прогрессивного романтизма.
Очевидно, типичная для него форма протеста против собственнического общества обеспечивается сочетанием символики с конкретной образностью. Прав С. Бочаров, утверждая, что «изображение романтического характера невозможно без образа среды». А это влечет за собой и политическую остроту, и злободневность, и точный рисунок, и «раскрепощенную» лексику, которые оказываются не внеромантическими, а внутриромантическими элементами.
Собственно, все это говорил и сам писатель: «Точность и поэтичность вполне совместимы», понимая под точностью верность факту, действительности, под поэтичностью — их оценку в свете идеала. Романтическая специфика в том, что предпочтение отдается идеалу, но это совсем не исключает прямой характеристики жизни, ее событий и явлений.
Органическое единство символического и конкретно-образного строя подтверждается и тем, что рост первого из них сопровождается ростом и усилением второго. Самое живое, политически острое, прямо вторгающееся в жизнь произведение Гюго «Возмездие» оказывается и самым символическим.
Торжеством этоголорганического единства двух строев является образ Гавроша, предельно конкретный, национально, социально и исторически точный и в то же время символический. Бойкий, смышленный, остроязыкий парижский гамен вырастает в символ борющегося народа. Он «душа баррикады», «Гавроша видели непрерывно, его слышали непрестанно. Он как бы наполнял собой воздух. То была своего рода вездесущесть». И как вывод: «Вы, что зоветесь Предрассудком... Подлостью, Угнетением... Тиранией,— берегитесь гамена... Этот малыш вырастет».
Органическая связь между символикой и конкретной образностью обеспечивается общностью их философской, мировоззренческой основы. Анализируя поэму «Веселая жизнь» (сборник «Возмездие»), Е. Эткинд справедливо отмечает ее политическую остроту, ее «контрастные образы, которые отражают социальные противоречия и со все большей силой и точностью формулируют открытую политическую идею произведения». Но завершается поэма «апологией слова», за которой стоит представление о «поэте боге», его всемогуществе, т. е. все та же философия, что и в произведениях, в которых преобладает условность, фантастика. Нельзя не согласиться и с общим выводом Е. Эткинда: «Нет. Гюго не реалист по самой сути своего миросозерцания, даже там, где в его стихах торжествует реальный мир».
Это легко подтверждается его «поэзией детства» и любовной лирикой. Именно символика приподнимает их над обыденностью, простой записыо фактов.
Известно, что философия детства и любви у Гюго идеалистическая. Дети в его представлении — посланцы иных миров:
Ведь вы еще вчера парили там, незримы,
Резвясь в кругу светил...
Вы в этот грубый мир явились, словно чудо
Сияющих небес
(Перевод М. Донского)
Но в силу указанных выше особенностей философии Гюго («Бог — это человек», «Бог — это народ», «Если бы я был хорошим богом, я был бы хорошим человеком») дети у него — носители истинной человечности, народности, демократизма. Это позволяет писателю противопоставить детей антинародным силам, привлечь «поэзию детства» для борьбы против них. Отсюда и введение прямых политических мотивов даже в самые «семейные» книги. В «Колыбельной» («Искусство быть дедушкой») он пишет:
О Франция, воспрянь! Поэт, свой долг исполни!
Освобождение! Еще не перестали
Пылать в душе — огонь, во взорах — отблеск молний
И стали (Перевод Н. Зиминой)
В интимной лирике Гюго чувство раскрывается глубоко и сложно, убедительно анализируется внутренний мир человека, причем поэт не отказывается от физической характеристики чувства, что отличает его от спиритуализма Ламартина. Формула «Люблю тебя, женщину, обожаю тебя, ангела», раскрывает основной принцип его любовной лирики, сочетающей конкретность с «поэтичностью».
И любовь характеризуется как чувство божественного происхождения. «Любовь — приветствие, которое ангелы шлют людям», но в силу указанных выше причин она одновременно рассматривается как идеальная земная норма, за которую сражаются на баррикаде Анжольрас и его товарищи: «В грядущем никто не станет никого убивать, земля будет сиять, род человеческий любить».
И в любовной лирике Гюго находит свое выражение демократизм. Истинное чувство оказывается у него достоянием человека из общественных низов, а верхушка общества знает лишь «похоть, порождение оргий». Обращаясь к Джильберту, Мария Тюдор («Мария Тюдор») заявляет: «Право, они совсем безмозглы, эти люди из народа... Ты обманут женщиной и разыгрываешь великодушие... Но я-то не намерена быть великодушной. В моем сердце ярость и ненависть». Это, кстати, ограничивает общепринятое мнение о том, что романтики, рассматривая любовь как вечное начало, полностью изолируют характеристику чувства от социальной оценки действительности.
И, наконец, ошибочность противопоставления «реалистических элементов» творчества Гюго «элементам романтическим» подтверждается тем, что бесспорные завоевания в области прямого изображения жизни неотделимы от его символики. Дело в том, что романтическая реформа не сводилась к отказу от некоторых правил классицизма, введению «цветового эпитета», прямого слова, разговорной лексики. Все это было и во французской поэзии начала XIX в. Делиль, Лебрен-Пиндар, Мильвуа, Шенодоллэ модифицировали оду, пытались вводить разговорную лексику, прямое слово. Ж. Делиль протестовал против того, что «барьер, отделяющий верхушку от народа, разделил и их язык. Появились, так сказать, благородные и просторечивые слова. Язык, став более приличным, стал и более бедным». Возражал он и против правил. Обращаясь к «гению французского языка», он жаловался: «Вы часто лишаете меня живости оборотов, быстроты движения и особенно несравненной помощи инверсий». Он утверждал, что «эти трудности не являются непреодолимыми для большого писателя», т. е. признавал право на нарушение правил.
Неудача всех попыток реформы в поэзии начала XIX в. объяснялась ее эмпирической сущностью, взглядом на поэзию как на «красивую безделушку». Большой популярностью пользовались формулы Морелэ, который утверждал: «Обман и поэзия дружили во все времена», Мармонтеля: «Задача оратора утверждать правду, задача поэта — обман, который за правду не выдается». Поэты этих лет в своем большинстве озабочены тем, чтобы развлекать читателя, украшать, а не изучать жизнь. По меткому определению Сент-Бёва, описательная поэма «производит своеобразные игрушки... при ее посредстве Лавуазье, Монгольфьер, Бюффон и их наука преобразованы в салонные восковые фигурки».
Естественно, что на такой идейной и эстетической основе не могло возникнуть ни большого содержания, ни истинной реформы французской поэзии. Романтики, объявив войну эпигонам классицизма, боролись не за отдельные модификации и приемы. Суть их нововведений и, в первую очередь, нововведений Гюго, в попытке создать единую, внутренне связанную, освещенную большой идеей и согретую большим чувством картину жизни. Отсюда и присущее поэтике романтизма стремление к синтетичности, к созданию целостной универсальной картины действительности, отличающее ее от теории классицизма, отбрасывавшей многие стороны реальности, предписывавшей, чтобы ее явления изображались изолированно друг от друга (принцип чистоты жанра).
А прямое слово, «цветовой эпитет», точная деталь, факт входят в эту универсальную картину как ее необходимые составные элементы.
Само стремление к созданию целостной картины жизни вызвано представлением о литературе как о связанном с определенной идейной программой средстве познания и совершенствования человека и общества. Для Гюго такой программой была сначала философия тождества, а затем ее продолжение и развитие — философия прогресса, которая и определила всю идейно-художественную систему писателя, в том числе и сочетание в ней символики и конкретной образности.
Л-ра: Филологические науки. – 1972. – № 2. – С. 35-44.
Произведения
Критика