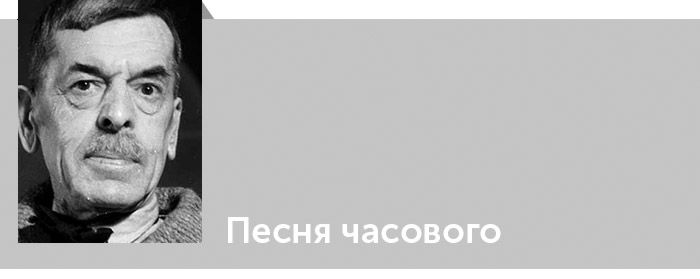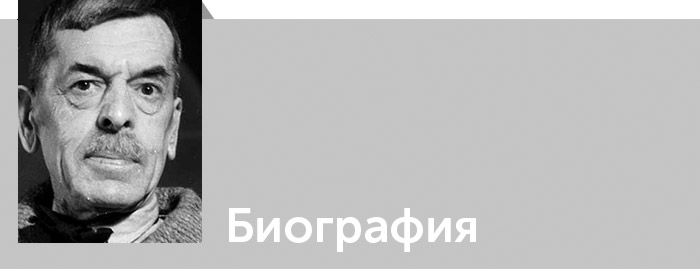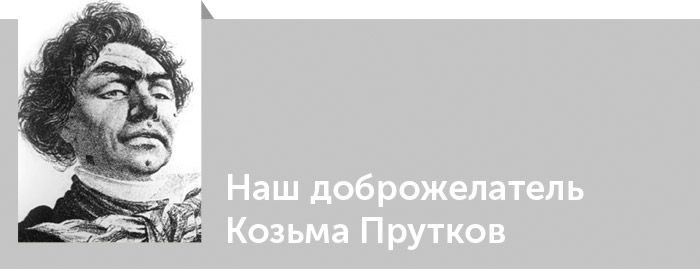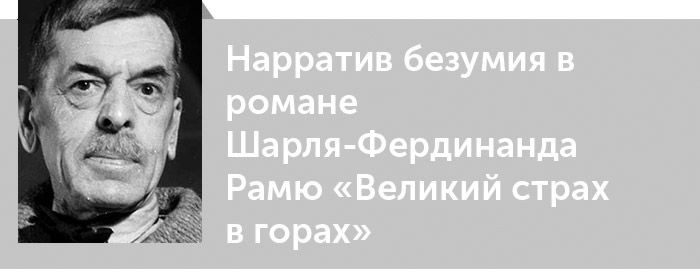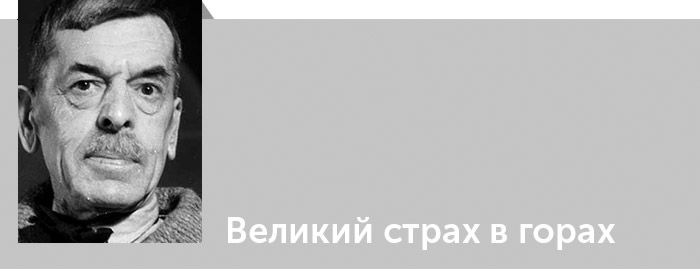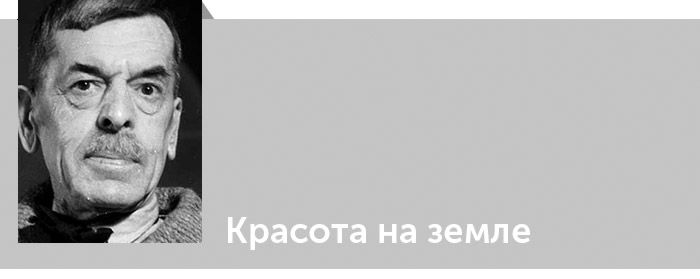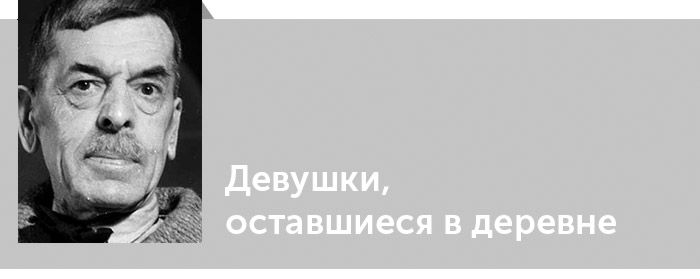История швейцарской литературы. Том 3. Глава 10. Шарль-Фердинан Рамю
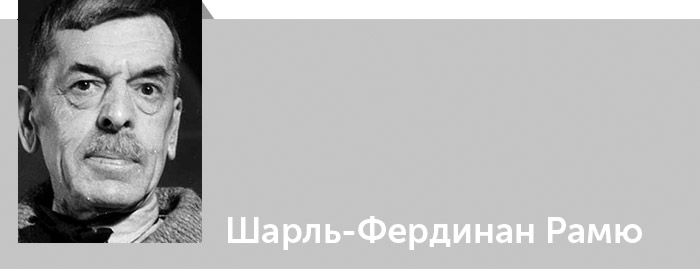
Ш.-Ф.Рамю (Charles-Ferdinand Ramuz, 1878-1947) — крупнейший писатель франкоязычной Швейцарии. Произведения его давно получили общеевропейскую известность, и творчество его занимает заметное место в общеевропейском литературном процессе.
Ш.-Ф.Рамю родился 17 мая 1878 г. в Лозанне, в семье служащего. Уже с 12 лет он начал тайком писать стихи. Немного позднее место стихов заняли романтические драмы в духе Виктора Гюго, героями которых были короли, папы, герцоги. Однако эти произведения начинающий писатель не пытался публиковать.
В 1904 г. Рамю отправляется в Париж для работы над диссертацией о французском писателе Морисе де Герене и остается там, довольно часто, впрочем, приезжая на родину до 1914 г., затем последние 33 года ведет почти отшельническое существование под Лозанной, целиком отдавшись творческой деятельности, итог которой — около 25 романов, множество эссе и очерков и несколько сборников рассказов.
Сам писатель считал первые годы пребывания в Париже поворотными в своей писательской судьбе. Именно с этого времени определилась направленность его творческих поисков, именно тогда он поставил перед собой вопрос: «Как бы писал Эсхил, если бы он родился в 1878 г.?» Рамю понимает теперь, что героями его произведений будут отныне не короли, герцоги и папы — персонажи его ранних романтических драм и стихов, — а простые люди, жизнь которых полна глубокого смысла, но которые сами этого смысла не в состоянии выразить. Писатель сравнивал своих персонажей с королями Расина, которые «не испытывают давления социальных условий и свободно отдаются своим страстям». Он понимает также, что его установка как художника — не сложная интрига, не варьирование различных тем, а сведение их к минимуму, их максимальное углубление. «Я думаю, — пишет Рамю, — что литература живет двумя-тремя общими местами, существует несколько общих тем, к которым она постоянно возвращается и которые постоянно обновляет»1.
Писатель обращается к «микромиру» швейцарского кантона Во как исходной точке развертывания вечных, «общих» тем. «В мире буржуа человек находится в зависимости от человека, в мире крестьян и королей он связан с природой или же с Богом. И король, и крестьянин повинуются метафизическим законам, буржуа же повинуется законам политики, рынка и повседневности»2.
Писатель сохранил чувство непостижимости, сокровенной нетронутости главных источников существования. «Что делать человеку, — пишет он, — как ему вести себя перед лицом тайны, если не выборматывать себя... И целью моей было бы постараться воспроизвести это бормотанье человека перед существованием, бытием, жизнью». По мнению Рамю, художник соревнуется с молчанием, и когда он говорит, то должен говорить так, чтобы слова его были лучше молчания.
«Примирить и согласовать стремление к общезначимому и отвращение к абстракции», — запишет Рамю в свой дневник 27 июля 1908 г.3 В этих словах — стремление к постижению действительности в ее самых первичных, элементарных пластах, к изображению только непосредственно чувствуемого, данного лишь в опыте непосредственно пережитого и понятого и вместе с тем желание найти такие темы, которые были бы общими для всех, волновали бы всех людей, были бы понятны и близки многим. Произведения Рамю создавались в основном во время Первой мировой войны и в период между двумя войнами, когда у многих писателей Запада пошатнулась вера даже в, казалось бы, незыблемые ценности, когда широкое распространение получили настроения скепсиса и нигилизма. Абсолютную ценность для себя Рамю усматривает в «верности тому топографическому месту, центр которого — Женевское озеро»4. Подобная верность для Рамю — наиболее надежная точка отсчета. Если бы Эсхил жил в наше время, считает Рамю, исходным пунктом его творчества должна была бы быть какая-нибудь простая тема, почерпнутая из самой непосредственной реальности.
По мнению писателя, темы, которые могут вызывать постоянный интерес, — это только любовь и смерть. Он приводит в пример искусство скульптора: «Скульптор — единственный художник, запечатлевающий объект во всех его трех измерениях. Он целиком прикован к материальному, вещественному и именно поэтому здесь важна постоянная связь и соотносимость с духовным. Это искусство двойственно: оно апеллирует к двум крайним способностям человеческого духа, и именно избыток материального делает необходимым наличие высшей духовности. Нужно, чтобы общая идея в каждый момент корректировалась и сопрягалась с непосредственным выходом к реальному»5.
Процесс сближения с первородным, исходным оказывался неким космическим, природным и даже в какой-то мере метафизическим процессом. Поиски соответствия между этим космическим и конкретным, социальным были проблемой, связывающей Рамю со многими другими художниками этого времени.
Литературная судьба Рамю складывалась нелегко. Он долго пробивался к известности. Виной тому были как крайне замкнутый характер писателя, так и то, что он оказался вне каких бы то ни было литературных школ и групп, способствующих созданию литературной репутации. Рамю — художник «негромкий», ему чужда приверженность энергическому «пружинящему» стилю. Он неоднократно подчеркивал свою «антилитературность». Многие критики и историки литературы долгое время причисляли его к художникам «сельского романа» или «регионалистского романа» (представителями которого во Франции были А.Пура, Ж.Жионо, отчасти А.Пулайль). Иногда Рамю относят к писателям популистского толка (Ф.Лефевр, А.Шамсон, А.Шатобриан). Это также далеко от понимания сути творчества писателя, посягнувшего на постижение самых достоверных истин и ограничившегося воспроизведением чувств самых сильных и самых простых.
С главой популистов Анри Пулайлем Рамю связывала активная переписка. Пулайль очень высоко ценил швейцарского писателя, считая его учителем, не только своим, но также и многих других французских художников. Через Пулайля Рамю связывается с парижскими издательствами «Нувель ревю франсез» и «Грассе», публикации в которых обеспечили ему доступ к более широкой аудитории и дали возможность получить признание у себя на родине. В 1926 г. Пулайль с целью популяризации творчества швейцарского писателя организует издание сборника статей, посвященных творчеству Рамю («За и против Рамю» — «Pour ou contre Ramuz». Cahiers de la quinzaine. Série 17, Cahier 1). В сборник вошли статьи многих европейских писателей (таких как А.Пулайль, Ж.Маритен, Г.Манн, Ж.Экоуд и др.). Рамю не одобрял этого мероприятия, но, поскольку выход в свет сборника был предрешен, пожелал, чтобы изданию было предпослано короткое вступление, где бы говорилось, что человек, о котором здесь идет речь, «еще не умер». Рамю не предпринимал никаких более энергичных попыток пробиться к парижскому читателю, он не испытывал желания, подобно многим романдским писателям (таким как Р. Де Траз, Ж.Шеневьер, Б.Сандрар и др.), стать «французским писателем швейцарского происхождения». Он сознавал, что творчество его теснейшим образом связано со Швейцарией. Во франции такая позиция отождествлялась прежде всего с регионализмом, и первыми проводниками творчества швейцарского писателя стали А.Пура и А.Пулайль, хотя в конечных целях творчества Рамю расходился с ними коренным образом.
Примитивистски нерасчлененный поток речи, объединяющий субъективное и объективное, частное и общее, реальное и фантастическое, должен был, по мнению Рамю, возродить потерянную цивилизованным человеком способность видеть вещи, понимать мир. Он должен был освободить речь от тех привычных связей, запасы которых, как полагал писатель, очень быстро истощаются, и эти связи мешают восприятию новых впечатлений.
Основным средством художественных поисков в области стиля, предпринятых швейцарским писателем, стали синтаксические изменения. Это явилось причиной ожесточенных нападок на Рамю многих критиков, обвинявших его в том, что он пишет не «на французском языке», и отрицавших за ним право считать себя французским писателем. Однако, помимо прочих причин, в стилистических модификациях именно в этой области сказалась верность писателя романдской традиции, близость его романдскому варианту французского языка, формировавшемуся в иных условиях, чем французский: французская Швейцария не знала той лингвистической и литературной централизации, которая имела место во Франции в период абсолютизма.
Фраза Рамю чрезвычайно чувствительна ко всем особенностям описываемого объекта. Ее прихотливая синтаксическая структура стремится в малейших оттенках выразить характер изображаемого. Она то поднимается и опускается, когда он рисует горные пейзажи; течет плавно и размеренно, когда в поле его зрения попадают равнины, скачет и прыгает, когда он описывает стремительное течение Роны. Стремясь найти способы передачи новых впечатлений, Рамю часто смотрит на мир глазами детей, сохранивших первозданную чистоту восприятия. Рамю нередко помещает своих героев в самые необычные для наблюдателя положения.
Стремление к передаче глубочайших импульсов и внутренних движений героев приводило писателя к необходимости сблизить свой язык с разговорным языком, превратить его из «языка-знака» в «язык-жест» (иногда с сохранением определенного косноязычия своих персонажей), сделать его основой упрощенные разговорные синтаксические конструкции. Здесь он расходился со многими блюстителями чистоты французского языка, неоднократно критиковавшими его. «Я согласен, — писал, например, М.Судей, — с тем, что Рамю самый благородный из идеалистов, согласен, что у него нет намерения нас мистифицировать и оригинальничать своими тщательно продуманными нелепостями. Но с чем я совершенно не могу согласиться — это с утверждением, что он — французский писатель. Если он хочет им быть, пусть изучает наш язык. А если он не хочет его изучать, пусть пишет на каком-нибудь другом»6.
Однако уже первая работа о швейцарском писателе, сборник статей «За и против Рамю», показывает, что некоторые писатели признали талант романдского художника, оценив и поняв его своеобразие. Так, Поль Клодель утверждал, что в лице Рамю «мы имеем одного из лучших строителей французского языка, давшего ему очень много в выражениях и оборотах... Через сорок-пятьдесят лет будут только смеяться, когда, листая журналы, поймут, сколько самых посредственных писателей провозглашалось знаменитостями, в то самое время, когда Рамю уже опубликовал к восхищению небольшого числа читателей романы “Земля небесная” и “Исцеление недугов”»7. Очень точную оценку творчеству Рамю дал Стефан Цвейг: «Когда очень крупный художник сознательно ограничивает себя крайне узкой сферой, то в этом может таиться для него или большая опасность, или же его произведения могут от этого очень выиграть. Из всех крупных писателей нашего времени Рамю, может быть, решительнее всех добровольно ограничил себя самыми узкими рамками жизненного горизонта»8. Цвейг правильно оценивает эту «узость», считая ее обратной стороной «поэтической интенсивности». Рамю, по-видимому, доставляет удовольствие и высокое художественное наслаждение работать с самым неподатливым, самым упорным материалом. Из самого обыденного он умеет извлекать необычайное, «высекать ярчайшие искры из самых твердых камней является его любимым занятием»9. Но все это имеет и свою обратную сторону: повседневность надоедает, чуть ослабевает «поэтическая интенсивность», и она может превратиться в монотонность. То, что, по мнению Цвейга, помогает Рамю избегнуть монотонности — это постоянная и неослабевающая «внутренняя напряженность». «На какой-то очень высокой ступени искусства не существует уже никаких обстоятельств, никаких объектов, никакого сюжета, а существует лишь чистое мастерство, для которого все равно, что явля-ется объектом изображения»10.
«Ш.-Ф.Рамю, — характеризует творчество швейцарского художника бельгийский писатель Ж.Экоуд, — пишет совершенно так, как рассказывают. Этот ломаный синтаксис, эти постоянные повторы подчеркивают истинность, правдивость повествования. Так бы рассказывали нянька из “Ромео и Джульетты” или шуты у Шекспира»11. «Могучим гением» назвал Рамю Ромен Роллан12.
Произведения Рамю прошли испытания временем. Со дня опубликования сборника статей «За и против Рамю» о творчестве писателя написано множество монографий, изучены все имеющиеся материалы, вплоть до заметок, сделанных на полях прочитанных книг. Работы писателя переиздаются и по сей день вызывают живой интерес читателя. Рамю продолжает быть активным участником живого литературного процесса.
Творческий путь Рамю был сложным и долгим. В первых произведениях писатель проявляет внимание к жизни «маленького человека», к отверженным и обездоленным. Художественная дальновидность помогла ему увидеть всю хрупкость и ненадежность существования в рамках патриархальной замкнутости. Даже сведение всех требований к самым элементарным не приводило к взыскуемому равновесию между человеком и миром. Стремление к «естественному», патриархальному счастью и его невозможность определяют главный конфликт романов «Алина» («Aline», 1905), «Обстоятельства жизни» («Circonstances de la vie», 1907), «Затравленный» («Jean-Luc persecuté», 1907), «Эме-Паш-водуазский художник» («Aimé-Pache — peinre vaudois», 1910), «Жизнь Самюэля Беле» («La vie de Samuel Belet», 1913).
Знакомство с Парижем расширило кругозор писателя, дало ему возможность узнать другие стороны жизни, о которых он не имел представления у себя дома, конкретнее выделило то, что было наиболее характерного и особенного в том укладе жизни, с которым он временно расстался. Он смог «сравнить два основных полюса жизни, один — представляющий исходную точку человеческого сознания, другой — его конечную точку»13.
Осознание писателем равноправности и самостоятельности существования этих «двух форм жизни» имело важные последствия для его последующего развития. Оно помогло ему преодолеть неоднократно осуждаемый им впоследствии «натюризм», очень характерное для некоторых писателей конца XIX — начала XX в. противопоставление чистоты природы и испорченности человека. Оно помогло ему понять всю неправомерность этого противопоставления, эфемерность мечтаний о не оскверненном человеком природном рае, не дало ему романтизировать природное состояние человека, позволило преодолеть влияние романтиков и особенно Шатобриана, которым писатель очень увлекался в детстве. «Если я сближаю и сопоставляю цивилизацию и природу, — признавался Рамю, — то совсем не с целью противопоставить их друг другу. Мне кажется, что неправильным было бы полагать, будто они исключают друг друга, так как то и другое дано и необходимо, как две крайние ноты гаммы, которую следует брать целиком»14. Эта позиция помогла художнику избежать условности натюристского изображения сельского быта, раскрыть противоречия самой природы и обманчивую видимость ее спокойствия и идиллической умиротворенности.
Стремление к подлинности и естественности не могло не отразиться и на стиле. Размеренный классический александрийский стих, которым Рамю писал свои первые, оставшиеся ненапечатанными стихи и драмы, уступил место «свободному стиху». В декабре 1902 г. Рамю пишет в «Дневнике»: «Если рассудок мой склоняется к классической архитектонике, то для натуры моей она оказывается недостаточной. И я стараюсь, бросаясь из одной крайности в другую, примирить противоположности. Ровный александрийский стих не казался мне больше приемлемым. Я должен был найти другую форму, передающую неровную походку, так как мне казалось, что моя страна и ее люди слегка прихрамывали, двигаясь неловко и скованно, как крестьянин, попавший в большой город»15.
Считается, что в своем обращении к внешней предметности, в выходе за пределы эгоцентрического субъективизма ранний Рамю оказался продолжателем некоторых тенденций французской литературы и поэзии конца XIX — начала XX в., одним из наиболее характерных выразителей которых был Ф.Жамм. Первые вещи Рамю, действительно, имеют некоторое сходство со стихами Жамма. Жамм призывал поэзию спуститься с облаков на землю, искать прекрасное и поэтическое рядом, вокруг себя. Как и швейцарский писатель, он прожил всю жизнь не в Париже, а в провинции. Для Жамма характерна потребность прежде всего не эстетического, а «человеческого» утверждения. Человек для него понятие первичное, художник — вторичное. Для него, как и для Рамю, привычно ставить занятие поэзией в один ряд со всеми другими занятиями, для него не свойственно эстетизирование художника, эстетические ценности занимают для него в общей аксиологической иерархии не безусловно первейшее место, как это было, например, у романтиков, символистов, «проклятых поэтов». Однако вряд ли можно согласиться с исследователем творчества Жамма Р.Малле, когда он причисляет раннего Рамю к так называемым «жаммистам»16, оговаривая все же, что после Первой мировой войны его манера существенно меняется. Но творчество даже раннего Рамю обнаруживает существенное отличие от поэзии Жамма уже его первого периода, т.е. до обращения Жамма в католичество. Несмотря на провозглашаемую простоту, в стихах французского поэта явно заметна определенная манерность (сам он именовал свое творчество «поэзией белых роз») и тяготение к экзотичности, перешедшее к нему от парнасцев.
Художественный мир швейцарского писателя гораздо трезвее, суровее и правдивее. Жамм любил писать о животных. Но страдания «всякой живой плоти» компенсируются у него раем, где и животных, и людей ждет блаженная жизнь. Животные являются у него аксессуаром этого рая, они сопровождают Франциска Ассизского. У Рамю же животные разделяют тяжелую жизнь людей. Это собака, лошадь, кошка: словом, все, что существует рядом с человеком, делит с ним лишения и страдания.
Мотив отверженных и обездоленных сближает Рамю с другим писателем начала XX в., Шарлем-Луи Филиппом (Charles-Louis Philippe, 1874-1909). В ранних рассказах Рамю много героев, выброшенных на периферию жизни. Но, как правило, их образы более цельные, у них нет той ущербности и болезненности, которые характерны для героев Филиппа, в основном сводящихся к двумя типам: хищного эгоиста, претендующего на роль сильной личности, некую смехотворную пародию на «белокурую бестию» Ницше, и типу затравленного и забитого маленького человека, подавленного ощущением своего ничтожества и своей неполноценности.
Однако у Рамю менее подчеркнуто социальное звучание темы обездоленных. Эти люди у него обижены не обществом, а скорее природой. Если у Филиппа жертвами общественных несправедливостей часто становятся и личности агрессивные, то у Рамю в галерее отверженных представлены в основном те, кто оказался вне общества не в силу социальных причин, а в силу своих изначальных природных недостатков и слабостей: это деревенская дурочка, сошедшая с ума, после того, как ее бросил возлюбленный (во время карнавала ей надевают дурацкое платье с бубенцами и уверяют, что их звон вернет обратно возлюбленного); дурачок Белье, предлагающий всем девушкам идти за него замуж; старые девы, много лет стирающие чужое белье; одинокие бездетные супруги, единственная отрада жизни которых — канарейка, такая же старая, как и они сами, — таковы те герои, которых можно привести в параллель филипповской «Бедной Мадлене», белошвейке Анжеле, ставшей жертвой Крокиньоля, «доброй Марии». Уже по этому можно судить, что эволюция швейцарского писателя шла в несколько ином направлении. Рамю стремится не к психологической сложности, противоречивости и многогранности этих образов, а к поискам неких изначальных корней человеческой ущербности.
До 1913-1914 гг. Рамю еще не находит собственной манеры, это произойдет в период Первой мировой войны и позднее. Время с 1903 по 1914 г. может быть определено как время поисков своего пути. Столкновение человека с чуждостью, «неорганичностью» природы и общества, стремление найти такой «микромир», который мог бы сконцентрировать в себе основные силовые линии всего «макромира», всего «большого мира», — все это должно было найти впоследствии свои художественные формы.
В ранних романах «Обстоятельства жизни», «Эме-Паш-водуазский художник», «Жизнь Самюэля Беле» писатель делает попытку найти эти формы в рамках социально-психологического романа. Основная тема этих романов — столкновение героев с обществом, бунт против него и конечное примирение с ним. Герои-индивидуалисты, терпящие крушение всех своих планов, так или иначе приходят к осознанию своей причастности к миру, своей связи с людьми. И молодой художник Эме Паш, преодолевающий творческий тупик только после возвращения на свою родину, и постоянно странствующий Самюэль Беле приходят к пантеистическому примирению с обществом и миром, растворяются в них.
В первый период творчества писатель пробует свои силы во многих жанрах: стихи, рассказы, психологический роман, исторический роман. Он стремится как можно точнее определить свой собственный путь. Здесь уже отчетливо просматривается общая направленность творчества, определяется эстетическая позиция.
Из всех романов Рамю «Эме Паш» имеет больше всего автобиографических черт. Некоторые эпизоды и ситуации почти детально воспроизводят отношения с отцом и матерью, а отдельные мысли Эме почти дословно — дневниковые записи автора тех лет. Рамю считает, что круг проблем, затронутый в этом произведении, специфичен для Швейцарии.
С раннего возраста в молодом Эме укореняется убежденность в своем даре. После долгих и мучительных поисков выхода своим творческим силам он, наконец, понимает, что его призвание — живопись. Вместе с тем в юном художнике уже возникло и сознание своей ответственности перед людьми, своей причастности их жизни. Параллельно с развитием чувства своеобычности человека искусства в нем постоянно живет стремление оправдать ее. Эме целые дни проводит у мольберта, надеясь в работе и уединенной сосредоточенности найти цель своему обособленному от повседневной жизни существованию. Творческие обретения Эме отражали интенсивную внутреннюю работу, происходящую в сознании самого автора. О том, насколько мучительными были искания писателя в это время, дают представление дневниковые записи. Как и его герой, Рамю полон сомнений в оправданности своей деятельности. Молодому Эме Пашу идти своим путем было тем труднее, что окружающие не понимали, «что он был одним из них, был плоть от плоти их». Сама внутренняя самопоглощенность Эме имела своей причиной именно эту погруженность в окружающий мир, выразителем которой он и становится. Эта книга в известной мере продолжает традиции романа воспитания. Но ее герой целиком поглощен поисками художественного самовыражения, выходы в мир в романе не имеют решающего влияния на формирование характера героя.
Гораздо ближе к этому жанру роман «Жизнь Самюэля Беле». Здесь жизнь простого человека из народа дается на фоне широкой картины швейцарской и французской действительности, которая и определяет развитие сознания героя. От фермы к ферме, от деревни к деревне, от города к городу, от страны к стране ведет своего героя писатель, сталкивая его с самыми разными людьми. Он нигде не может найти постоянного пристанища, судьба преследует его. Суровая борьба с миром, в конце концов, завершается для Самюэля Беле примирением с ним. Остаток своих дней он доживает, занимаясь рыбной ловлей. Беле, в отличие от Паша, возвращается не к «к родной земле», а к «миру», от абсолютного индивидуалистического протеста и эгоцентрических исканий он приходит к полному приятию «данного», «наличного». В романе явно прослеживается перекличка с той мыслительной работой, которой был поглощен писатель в это время. Стремление к полному освобождению от литературных воздействий, стремление быть «tabula rasa», куда только жизни будет предоставлена возможность вносить свои записи, оставалось доминирующим у писателя.
Тайны бытия, жизни, считает писатель, открываются тогда, когда мы, подобно альпинисту, совершаем восхождение на вершины духа, не отрывая своих ног от твердого грунта и скал. Но при этом взор не должен упираться в землю. И здесь, кстати, Рамю расходится с провансальским регионалистом Мистралем, он на стороне другого провансальца, Сезанна. В статье «Пример Сезанна» («L’exemple de Cézanne», 1914) он пишет: «Для Сезанна годен любой предлог: погруженный в страну, он не ищет большего... Другие искали в Океании, он нашел Океанию в своем сердце»17. Картины Сезанна лишены какой бы ни было этнографической экзотики, произведения же Мистраля, по мнению Рамю, возбуждают прежде всего «желание совершить путешествие, будят любопытство... О Провансе ли идет речь у Сезанна? Да, о Провансе, но только как основе, исходном пункте. Поверх строится умственное сооружение, обращенное к разуму. Прованс настолько стал Провансом, что перестал им быть»18.
Писателю понадобится еще около десяти лет, чтобы найти формы совмещения всеобщего, универсального со своей неприязнью к абстрактному, отвлеченному. Вполне можно согласиться со словами одного из исследователей творчества швейцарского писателя, В.Вагнера, что если бы Рамю остался автором только «Алины» или «Обстоятельств жизни», то «несомненно, он явился бы одним из крупнейших писателей романдской Швейцарии и, может быть, его известность даже и вышла бы за пределы Швейцарии. Но не было бы никакого основания говорить о так называемом “cas Ramuz”»19. Последующее творчество писателя убеждает в справедливости этого мнения.
С 1914-1916 гг. в художественной манере Рамю происходят изменения. На место рефлектирующего героя приходит «герой-коллектив»20. Это произошло в значительной мере под влиянием Первой мировой войны, вызвавшей у Рамю болезненную реакцию, углубившую его пессимизм и разочарование в возможностях прогресса. Большое воздействие на писателя оказало также сотрудничество с композитором И.Стравинским, укрепившим у него веру в тот путь, который он избрал. В Стравинском Рамю нашел человека, воплощающего его идеал гармонической личности, т.е. «человека рафинированного и одновременно “примитивного”, способного к восприятию самых сложных комбинаций человеческого духа и в то же время к самым непосредственным реакциям»21. Со Стравинским Рамю знакомится во время пребывания композитора в Швейцарии. Между ними завязывается дружба и сотрудничество, продолжавшиеся с 1915 по 1919 г., до отъезда Стравинского в Париж. В эстетике швейцарского писателя и русского композитора было много общего. Стравинский отталкивался от традиций поздневагнеровской музыки с ее монументализмом, тяготением к грандиозным образам. Он не принимал также субъективизма Бетховена. Как и Рамю, композитор стремился к предельной вещественности, конкретности. За время сотрудничества с И.Стравинским у Рамю окончательно сложились и оформились эстетические взгляды, связывающие его, по собственному выражению писателя, с «оголенной предметностью» живописи Сезанна. Стравинский в музыке, Сезанн в живописи, каждый по-своему, приближались, как считал Рамю, к взыскуемым ими формам непосредственного контакта с объектом изображения. Знакомство со Стравинским имело и еще одно важное следствие. Рамю близко узнал русскую культуру, русский фольклор. Сотрудничая с композитором, он познакомился с русской художественной литературой, и сказками и былинами, обычаями, обрядами.
Наиболее удачным совместным произведением Рамю и Стравинского оказалась «История солдата» («Histoire du soldat», 1918), сюжет которой был взят из сборника русских сказок Афанасьева. «История солдата» была первым сценическим произведением Рамю. Он больше не напишет ни одной драмы, но драматические элементы присутствовали уже в его довоенных романах, и в «Истории солдата» они получили законченное жанровое выражение.
Еще в «Обстоятельствах жизни», «Эме Паше» и «Самюэле Беле» писатель в совершенстве овладел флоберовской техникой несобственно-прямой речи. Это совпало с его поисками объективной манеры изображения, вживания во внутренний мир своих персонажей. Уже в ранних романах Рамю довольно трудно провести границу между несобственно-прямой речью, сказом и диалогом. В «Истории солдата» писатель подходит к новым формам эпического повествования, широко вводя драматический элемент, почти неразделимо переплетая (иногда даже в пределах одного предложения) разнообразнейшие жанровые формы. Этот прием становится ведущим в послевоенных произведениях Рамю. Сюжет «Истории солдата» давал известные возможности для такого слияния. В пьесе три персонажа: Дьявол, Солдат и Читающий (Le lecteur). Но Читающий не только повествует о действии, он время от времени превращается и в Солдата, реплики которого без всяких кавычек следуют за рассказом Читающего, текст Солдата незаметно входит в текст Читающего.
Если в драме принято дифференцировать тексты действующих лиц, более четко проводить различие между прямой и косвенной речью, то в романах Рамю, написанных одновременно с «Историей солдата» и позднее, все повествование ведется в едином речевом потоке. Вот подгулявший Грен, отец Мари (роман «Исцеление недугов» — «La guérison des maladies», 1917) возвращается домой. «Ему было весело, когда он возвращался к себе, около трех часов. Наше счастье неполно, когда мы счастливы в одиночестве. Я хочу свидетельствовать за братьев и сестер моих по веселию. Невозможно было сказать, слышали ли его, ему до этого не было дела, он продолжал петь. Он подошел к дому и снял шляпу перед изображением мадонны. Началась лестница, это было нелегко, лестница. Он взбирался молча, трудно идти по лестнице, это понятно, но каждый раз новая радость, так как каждая ступенька была как бы лицом, к которому он обращался с речью: “Ф! Это ты, ну-ну, давай”, и он преодолевал их одну за другой, хотя и очень медленно». Речевой поток состоит из сплава прямой и косвенной речи, различных времен. Точной границы временам и формам речи установить не удается: то, что было в прошлом времени, спустя миг оказывается непосредственно данным, затем оказывается в будущем. За речью рассказчика: «Ему было весело тогда...» следует несобственно-прямая речь: «Наше счастье неполно, когда мы счастливы в одиночестве». Затем следует прямая речь, в контексте становящаяся косвенной из-за того, что за ней идет речь рассказчика: «Я хочу свидетельствовать за братьев и сестер моих...» И, наконец, речь прорывается непосредственным обращением: «А! Это ты, ну-ну, давай».
Непосредственность, аутентичность изображения как раз и проявляются в нерасчлененности как можно более полного восприятия. Все своеобразие стиля Рамю — эллиптичность, обилие анаколуфов, повторы и многое другое — берет начало отсюда. Пантеистическое восприятие мира уничтожает расстояние между индивидуальным и общим, коллективным. Драматические элементы получают в рамках этого восприятия своеобразное преломление. Они возникают не в силу столкновения отдельных индивидуальностей, а в силу интенсивности присутствия индивидуального в общем, вовлечения универсального, общего в круг личного. Поэтому Читающий в «Истории солдата» так легко превращается в главное действующее лицо.
Стремясь к синтетически полному отражению мира, Рамю пользовался техникой флоберовской несобственно-прямой речи, но его отличает от французского писателя постоянное изменение перспективы, исходных точек наблюдения, изменение форм речи, начиная от прямой речи и кончая повествованием. Рамю стремится не к предельной множественности, он гипертрофирует неуравновешенность отношений частного и общего, неуловимость той границы, где одно переходит в другое. Самые различные моменты действия и места, чередование времен и лиц — все подчинено у автора одному — как можно прямее и непосредственнее дать выразиться действительности. Писатель задается целью запечатлеть, наглядно представить каждое движение, каждый образ. Второстепенные функции рассказчика, выявившиеся в «Истории солдата», в последующих романах становятся уже просто номинальными. Теперь не рассказчик ведет рассказ, его движут сами персонажи. Общее впечатление складывается из совокупности всех точек наблюдения, ни одна из которых не становится главенствующей, что сообщает рассказу большую объемность и достоверность.
Этот момент имеет существенное значение для выделения функции фантастического, соотношения элементов реального и ирреального. Непосредственное вписывание героя в коллектив уничтожает расстояние между ним и окружающим. Повествует не только сам герой. О нем рассказывается и повествуется в нескольких измерениях. Так, в главе III романа «Исцеление недугов» повествование о Парижанине дается с самых разных позиций. В начале его видят обыватели города. Затем чья-то соседка рассказывает о тех изменениях, что произошли в его жизни: он перестал встречаться со своей любовницей, прозванной Ожженной, устроился на работу. Затем следует панорама видений и переживаний самого Парижанина. Чересполосица объективных и субъективных образов, незаметный переход повествования в область субъективных эмоций создает ощущение достоверности, подлинности в передаче всей сложной гаммы ощущений.
Герой Рамю находит мир, вписывается в него, и мир его признает. Но то, что в довоенных романах происходило на уровне мировосприятия отдельной личности, в послевоенных происходит на уровне всего коллектива. В некоторых романах, например, «Радость небесная» («Joie dans le Ciel», 1921), «Присутствие смерти» («Présence de la mort», 1922) вообще нет главных действующих лиц. Есть множество персонажей, объединенных каким-нибудь общим сильным аффектом. В романе «Присутствие смерти» описывается страх перед надвигающейся космической катастрофой: приближение Солнца уничтожит на Земле все живое; в романе «Царство лукавого» («Le regne de l’esprit malin», 1917) воссоздается торжество человеческих чувств, оказавшихся сильнее дьявольского наваждения. В романе «Исцеление недугов» девочка Мария из семьи бедняков получает необыкновенный дар принимать на себя все болезни и недуги окружающих ее людей; роман «Радость небесная» — варьирование тех представлений о счастье, которые оказались недостижимыми для простых людей при их жизни.
Почти во всех «коллективных» романах обращение Рамю к приемам унанимистов совпадает с кульминационным пунктом. Все коллективные романы Рамю имеют чаще всего очень простой сюжет, какое-либо событие в центре, нюансируемое различными деталями и отдельными подробностями, причем у читателя возникает ощущение, будто автор может их варьировать до бесконечности. Чаще всего это связано с открытием чего-то неожиданного, постепенным осознанием и переживанием его всеми. Так, в романе «Царство лукавого» на жителей затерянной в горах деревни обрушиваются самые страшные и неожиданные беды, и только одному человеку, деревенскому юродивому, дано видеть причину этого: среди них уже некоторое время под видом сапожника живет сам дьявол, принявшийся губить и совращать людей страстью к наживе, роскоши, деньгам. В перечислении, подробном описании всех дурных предзнаменований, в умелом нагнетании атмосферы надвигающейся катастрофы Рамю достигает большой впечатляющей силы. Часто он, описывая какой-нибудь поворот действия, начинает с навязчивым однообразием и монотонностью перечислять и пересказывать все происшествия, подготавливающие этот поворот, являющиеся его предзнаменованием. Затем эта монотонность вдруг в какой-то момент прорывается в пароксическом напряжении, и все до того отдельные, случайные голоса начинают звучать в общем многоголосом хоре, перебивая друг друга, прихотливо сочетаясь в своих повторах.
В «Исцелении недугов» обстоятельно описываются все случаи исцеления Марией различных недугов и болезней. Вот она поднимает на ноги своего отца, упавшего и разбившегося, вот прозревает слепой, говорит немой, становится здоровой деревенская проститутка, прозванная «Ожженной»: пятно с ее лица переходит на лицо Марии. Снова и снова автор подробно останавливается на отдельных случаях выздоровления. Но вот однообразные перечисления прекращаются, все в какой-то момент понимают, что совершается чудо. И со всех окрестных деревень начинают стекаться бесконечные вереницы парализованных, хромых, горбатых, кривых, слепых, ведя нескончаемые разговоры, с недоверием переспрашивая и заставляя снова и снова повторять уже раз услышанные толки. Отдельных лиц здесь уже нет. Есть только голоса, сливающиеся в общем хоре. Эпизоды «единодушия» у Рамю подготавливаются целым рядом событий, определяются ими. Единодушие здесь не выступает, как у основателя унанимизма Жюля Ромена, в качестве некой константы, не провозглашается универсальным и всеобщим.
Характерный для Рамю способ сохранения интенсивности в описании ничем не примечательных, самых обычных и порой совершенно однородных событий — узнавание. Так построены романы «Исцеление недугов», «Великий страх в горах», «Царство лукавого». Некоторые исследователи объединяют их в цикл «мистических» романов на том основании, что они содержат элементы фантастического и сверхъестественного. Но фантастическое у Рамю — следствие художественной реализации тех самых «общих тем», к раскрытию которых писатель стал стремиться с самого начала своей творческой деятельности и которые были знакомы литературе и фольклору многих народов и стран. Рамю присуще «тайновидение» материальной вещественности, способность даже явление сверхъестественное воссоздать в его пластической четкости, передать во всей конкретности. Религиозные и мистические элементы входят в реалистическую структуру, поглощаются ею. Самое обычное приравнивается к нереальному, начинает существовать рядом, повествование приобретает обобщенный смысл. «Вечные темы» оказываются одинаково погруженными и в мир реального, обычного, и в мир сверхъестественного, фантастического.
То, что фантастическое становится в один ряд с реальным, согласуется с одним из основных положений эстетики писателя — нерасчлененным восприятием мира. Даже там, где идет повествование о событиях, при котором, казалось бы, должен быть слышен голос самого автора, в конечном счете происходит подмена его лицом, каким-то образом причастным к происходящему. Нет ни одного персонажа, ни одной точки зрения, которые были бы выдвинуты в привилегированное положение. Реальность происходящего ни в малейшей степени не подвергается сомнению. Нереальное еще настойчивее вписывается в окружающую действительность, когда дается через многоперсонажное восприятие.
Осуществляемые параллельно и равноправно разными лицами восприятия полусумасшедшего бродяги (роман «Любовь к миру»), вообразившего себя новым мессией, приводят к такому художественному эффекту, что «ясли, рождественская звезда, быки и ослы, среди которых появился в этот вечер Тот, Кто снова родился для нас», приобретают навязчивую реальность. Шествие на воображаемую Голгофу воспринимается не только религиозно экзальтированной мадмуазель Реймонд: в результате множественности восприятий оно начинает представляться как некая данность, существующая независимо от того, кем она воспринимается. Подобное ощущение усугубляется тем, что автор не дает никаких указаний, каким образом следует понимать эту сцену. Вот смотрит мадмуазель Реймонд: «Мадмуазель Реймонд попыталась смотреть: его стегали плетями, она не могла больше смотреть». Вот смотрят они: «Они продолжали видеть: они видели три креста, один посередине, два других по сторонам».
Фантастическое оказывается частью синтетически слитного, нечленимого воспроизведения действительности. Где начинается фантастическое и кончается реальное, определить так же трудно, как и то, где кончается частное и начинается общее. Одним из наиболее характерных примеров, определяющих роль фантастического в произведениях Рамю, может быть анализ узнавания сатаны в романе «Царство лукавого». В деревне появляется человек, ничем не отличающийся от других, приходящих в поисках работы: «они приходят и уходят, вот и все». Человек заходит в трактир, заказывает самый обычный ужин, ест не спеша, «не потому, что голоден, а потому, что пришло время есть». Сначала идут самые общие описания, всегда остается возможным взять свои слова назад — может быть, так, а может быть, это просто показалось. Ни один из перечисленных признаков в пришельце не позволяет сделать на его счет сколь-либо определенных суждений. Но приглядевшись к нему более внимательно, жители деревни заметили, что «на шее, руках и лице складки его кожи как бы свисали, напоминая нечто вроде дополнительной одежды, которую можно в любой момент сбросить». Кроме того, «в его облике было что-то вызывающее и, казалось, какое-то беспокойство, но, как будто бы, он не отдавал себе в этом отчета».
Затем начинается перечисление маловероятного. Степень невероятности постепенно растет. Обычно чужого человека не принимали в деревне: «не так-то у нас в обычае, чтобы первый встречный объявлял нам, что намерен у нас остаться». Но в пришельце было что-то такое, «чего не было ни у кого». Мало того, выясняется, что за день до его прихода умер старый сапожник, и, таким образом, освобождалось как раз то место, на котором он желал обосноваться в качестве нового члена общины.
Следующий этап узнавания — красный цвет, в который хотел было выкрасить незнакомец свою вывеску: «мой цвет — цвет пламени». Первые изготовленные им ботинки блестели, начищенные ваксой, сделанной «неизвестно из чего». Лишь некто Люк, неудачник и человек «не от мира сего», отказывается признать нового члена коллектива. Но Люка никто не принимает всерьез, он ни на что не годен, у него нет постоянного занятия, живет он у сестры, приютившей его из милости, на улице мальчишки бросают в него камни. Так что и этот момент узнавания не становится решающим.
Вторая глава — новый этап узнавания. Начинаются знамения; их очень много и они даются порой с некоторым однообразием. Кончает самоубийством второй деревенский сапожник, не выдержавший конкуренции с новоприбывшим. У охотника разорвалось ружье и ранило его. Кто-то упал со стены и размозжил себе голову. Кто-то заболел непонятной болезнью. Пали две коровы. Сгорел чей-то сарай. Но самое неприятное — начали меняться люди, и далеко не в лучшую сторону. Любящие мужья стали невыносимы, самые трудолюбивые потеряли вкус к труду, самые честные научились обманывать, правые всегда почему-то оказывались в ущербе и убытке, а неправые торжествовали. На деревню вдруг сразу обрушилась масса бедствий, но каждый находил им свою причину. Одни винили воздух, другие воду, третьи климат, четвертые все сваливали на эпидемию гриппа. Лишь один Люк ходил по улице и непрестанно твердил всем, что причина бед — поселившийся в деревне сапожник: «У него лик лицемера, все в нем обман». Однако на его предостережения никто по-прежнему не обращал внимания.
Новый член общества пока ничем не высказывает своего недоброжелательства. Напротив, в его помещении всегда много народу, он бывалый человек, которого охотно слушают; он отлично управляется один со своей работой и к тому же берет очень недорого. И опять все находят вполне трезвое объяснение: сапожному ремеслу он учился в Германии, а что касается платы, то он компенсирует низкие цены количеством. Все довольны своим новым соотечественником, никому и в голову не приходит видеть в нем причину происходящих несчастий. Даже когда он приводит в чувство потерявшую сознание мать одного из жителей деревни, всех устраивает его очень простое и реалистическое объяснение: «я немного разбираюсь в медицине и это дает мне возможность при случае оказать помощь». Первый раз легкая тень подозрения надвигается на Браншю, когда Лот после «воскрешения» своей матери начинает повторять повсюду, что Браншю новый Христос, которому повинуются мертвецы. Браншю со смехом возражает на это: «Ни Иисус, ни сатана, я в середине между ними, в середине».
И вот монотонное перечисление уступает место совсем иному тону повествования. Сатана узнан. Происходит это внезапно и вдруг. Один из пострадавших, жена которого, упав на землю, родила раньше времени мертвого ребенка и сама умерла, узнает, что это случилось как раз в то время, когда из дому выходил Браншю. Исчезновение Браншю окончательно укрепляет подозрения: «Он — король, король несчастья, сатана. Венчать его как короля! ...даже солнце сияло, как праздник, наш король с нами. Его несли, королей всегда несут, короли никогда не покидают трона, ему сплетут венок, ему вложат в руки скипетр». Рассказ приближается к одному из кульминационных пунктов — травестированному венчанию-казни. Короля несчастья решают распять. Здесь кончается то, чему можно было найти реальное объяснение, что происходило на почве реального. Подготовленный атмосферой венчания, происходит скачок в фантастическое. Браншю вдруг выпрямляется, раздается его хохот, и площадь пустеет. На ней остается Человек и распростершийся перед ним Лот. И опять начинается чередование, но уже событий другого рода: несчастье людей, бессильных бороться со злой силой, и их открытое соблазнение сатаной, который вместе с двумя жителями деревни, прельстившимися его силой, поселяется в гостинице.
Рассказывается поочередно то о страшных мучениях оставшихся в своих домах людей, то о веселье поселившихся в гостинице, которых с каждым днем становится все больше и больше. Это уже больше не спокойное перечисление происшествий, происходящих с отдельными людьми, это жизнь целого коллектива, вернее, двух коллективов; тех, кто в голоде и болезни пытается противостоять сатане, и тех, кто поддается ему, прельстившись предлагаемыми им богатствами. С одной стороны, гниение заживо сотен людей, болезни, предсмертные стоны, плач голодных детей; с другой — смех, веселье и музыка, раздающиеся из окон гостиницы: оттуда доносятся запахи самых изысканных блюд, рекой льется вино, звучат голоса женщин. Здесь больше нет никаких запретов, все ведут себя, руководствуясь девизом: «все позволено», здесь настоящее «царство сатаны». Апогея веселье достигает в сцене вакханалии в церкви, кончающейся надругательством над всей священной утварью. Все меньше и меньше людей остаются в своих домах, в гостиницу приходят уже толпами. Поступки теперь совершаются не отдельными лицами, а целыми группами; с одной стороны, люди сообща страдают, сообща совершают молебен, видя в этом последнее средство спасения, с другой стороны, они так же сообща предаются оргиям.
Этот же принцип органического введения фантастического в реальную действительность проявляется и в романах «Великий страх в горах» («La grande peur dans la montagne», 1926), «Любовь к миру» («L’amour du monde», 1925), «Красота на земле» («La Beauté sur la terre», 1927).
Фантастическое y Рамю — следствие художественной реализации тех самых «общих тем», к раскрытию которых писатель стал стремиться с самого начала своей творческой деятельности, которые были знакомы литературе и фольклору многих народов и к которым искусство всегда прибегало для решения стоящих перед людьми философских и нравственных проблем.
Как уже говорилось, Рамю далек от апологетического восхваления «патриархального рая». Творчество швейцарского писателя насквозь проникнуто конфликтностью. Выворачивается наизнанку патриархальный уклад жизни добропорядочных обывателей в романе «Исцеление недугов». В романе «Радость небесная» герои получают после смерти все, чего им не хватало при жизни, и выясняется недостаточность, несостоятельность этого «райского блаженства». В романе «Война в горах» («La guerre dans le Haut-Pays», 1915) автор показывает обреченность замкнутой патриархальной общины, сопротивляющейся новым республиканским идеям, идущим из Франции. Отец главного героя романа, фанатик, изрекающий библейские цитаты и без конца повторяющий страшные угрозы и проклятия тем, «которые оскверняют землю неверностью десяти заповедям», — воплощение идеи непримиримости и враждебности всему новому, всему движущемуся и обновляющемуся. И в конце романа он терпит полное поражение.
Но «малый мир» не только отрицается как мир самодовольства и ограниченности. Он воспринимается и как дополнение к «большому миру». У него своя сокровенная и глубокая жизнь, имеющая свои достоинства, свою красоту. В этом Рамю является продолжателем швейцарских традиций, наследником Келлера и Готхельфа. В Швейцарии лучше, чем в других странах, сохранилась возможность частной жизни, частного мировоззрения; человек не столь властно и стремительно втягивался в круговорот исторических событий. Такое положение обусловливало сложные взаимоотношения между «малым» и «большим» мирами, которые стали взаимопроникающими. Приближение космического, далекого, подчеркивание того, что делает его близким, — один из основных мотивов творчества Рамю. Космическое переводится в локальный план: «человек шел со своим светом, это был его свет, его солнце, его луна, его собственная луна».
Взаимосвязь между замкнутостью швейцарской действительности и тягой к космическому, универсальному наиболее характерна для романов «Любовь к миру» и «Пребывание поэта» («Passage du poète», 1923). Герои романа «Любовь к миру» поистине одержимы в своем стремлении выйти за непосредственно существующее. Они стремятся к абсолюту, к недосягаемому идеалу. Они — лишние в обществе и ежеминутно выбрасываются из него. Каждый поступок все ближе и ближе подводит их к катастрофе. Четкая и скрупулезная фиксация всех подробностей и деталей постоянно держит читателя в напряжении. Герои Рамю в своей одержимости какой-то «манией» слепо идут навстречу гибели.
Сходный круг тем затрагивается в романе «Пребывание поэта», главный герой которого, поэт Бессон, олицетворяет идеи автора о коллективном поэте, коллективном творчестве. Поэт чувствует свою причастность людям, но родственность и привязанность к определенному месту ощущает как стороннюю: прижиться, стать своим он не может — его все время тянет в новые места. «Пришел» поэт, и малозаметная, обычная жизнь тружеников-виноделов предстала совсем в новом ракурсе, приобрела свою поэзию и значимость: острый взгляд художника обнаружил бездну поэтического в самом повседневном, дал людям возможность осознать себя. Но сам поэт так и не смог вписаться в ту жизнь. Он оказался вытесненным ею, не враждебным, а просто обойденным: «для жизни прекрасного нужно, чтобы кто-то шел дальше, чем другие».
Бессон — поэт, посредник между «большим» и «малым» мирами. В нем олицетворяется все, что есть наилучшего в каждом из них. Он находится в «движении» (более точный перевод названия романа не «пребывание», а «прошествие», «прохождение» поэта). «Все стоит, а он движется: они неподвижны, каждый в своем квадрате стены, каждый на своей ступени лестницы, в то время как он все время идет, он как бы посланник, от меня к тебе, от нас к вам, он как весть и всегда в дороге». Те, кто в «поезде» — движутся, но они не могут найти никакого общего языка с теми, «кто на виноградниках». «Они — праздные путешественники, коммивояжеры» и т.д., словом, все те, «кто не хотел виноградника и кого виноградник не хотел». Иное дело Бессон. Он не праздный бездельник, он нужен людям, нужду в нем они ощущают постоянно, но в то же время он не может оставаться на одном и том же месте.
Два мира оказываются для писателя в равной степени истинными и необходимыми. За «большим миром» правота его масштабов, его универсальности, за малым — первородство его аутентичности, исходной и первоначальной данности. Именно здесь заключается вся история человечества, здесь зарождаются все самые известные мифы, здесь — источник глубочайшего сущностного бытия.
Первая половина 1930-х годов знаменует начало нового этапа в творчестве швейцарского художника. «В своей книге «Поступь человека» («Taille de l’homme», 1936) он задается вопросом, может ли существовать цельность и законченность без Абсолюта: «речь идет о том, можно ли заменить Бога, так как до настоящего времени он был единственным Абсолютом». Период «поисков величия» совпадает с окончательным утверждением политических и эстетических взглядов, начавших складываться уже во время создания «коллективных» романов. В работе «Потребность величия» («Besoin de grandeur», 1938) помимо прочего Рамю исследует и «русский опыт», рассматривая происходящее в России в контексте других «опытов», предпринимаемых некоторыми странами на пути к «величию». Писатель убежден в том, что поиски величия в России, с одной стороны, и в Италии и Германии, с другой, имеют качественно различный характер. Под этим «величием» Рамю имеет в виду отрицание обывательского существования. «Ничто великое — пишет он, — не совершается без отчаяния, во всей Европе назрела необходимость кардинальной ломки законов, институтов и самого общества. Действие стало нужнее, чем мысль. В то время, как одни народы продолжают вращаться в замкнутом кругу, другие делают попытку избежать этого вращения, отрываясь от него по касательной»22. Писатель противопоставляет социалистическую диктатуру и фашистский режим, подчеркивая «идеологическую пустоту фашизма»23. Как ни отталкивали Рамю самодовольство и бюргерская ограниченность швейцарского нейтрализма, «субстанциальная бессодержательность» фашизма была для него еще большим злом. «Реального движения не может быть, если существует только движение на месте, каков бы ни был пафос этого движения, какой бы энтузиазм оно ни порождало, его не может быть, если нет цели и направления этого движения»24.
Социалистические преобразования писатель истолковывает как преобразования, имеющие вполне определенную содержательную сущность. Социализм представляется Рамю травестией, изнанкой христианства, некой антиверой, но не в антихриста, а в пришествие Царства Божия на земле. Социализм организуется в борьбе с Богом, а не в забвении его, как буржуазное общество. Отрицание Бога становится для него в какой-то мере эмоциональным принципом (principe émotif)25.
Однако как социалистическое общество, так и буржуазное осуждаются Рамю за слишком утилитарный подход к природе, в чем, как он полагает, коммунисты не отличаются от буржуазных предпринимателей. «Отчуждение» человека можно, по мнению Рамю, преодолеть, лишь сохранив и восстановив непосредственную взаимосвязь его с окружающим миром. Никакого выхода из тупика отчужденности человека, сопровождающей прогресс и техническое совершенствование, писатель не видит. После потрясений Первой мировой войны у него усиливается неверие в прогрессивный ход исторического развития, в возможность преодоления «природного несовершенства» человека. Писатель все с большим недоверием и даже опасением начинает относиться к таким атрибутам могущества человека, как наука и техника.
«Поиски величия» и в то же время «одиночество человека» — две очень взаимосвязанные темы творчества писателя 1930-х годов. Романы предшествующего периода, героями которых выступают коллективы, сменяются романами, центром которых становится индивидуальный герой, мучительно ищущий свое место в обществе. Одной из ведущих тем романов этого времени становится конфликт личности и общества, индивидуалистический бунт против законов, отчуждающих человека. Герои романов «Савойский парень» («Le garçon savoyard», 1936) и «Фарине, или Фальшивые деньги» («Farinet ou la fausse monnaie», 1932) бросают вызов обществу, обрекая себя на полное одиночество и непонимание с его стороны: протест против принижения человека, стремление к «величию» приводит их к катастрофе, полному отчаянию и гибели.
В романах «Савойский парень», «Фарине, или Фальшивые деньги», «Адам и Ева» («Adame et Eve», 1931) начинает звучать мотив противопоставления «бренности», непостоянства, призрачности человеческой жизни и абсолютных идеалов, воплощающих цельность и полноту человеческих стремлений и восприятий. Одновременно с этим звучит тема борьбы с природой, с «первоначальным, первородным проклятием человека», тема, которая возникла еще в предшествующих произведениях, но наиболее полное выражение нашла в романах «Адам и Ева», «Дерборанс» («Derborence», 1934), «Если солнце не взойдет» («Si le soleil revenait pas», 1937).
Роман «Адам и Ева» — трансформирование одного из самых древних мифов, мифа о первородной греховности человека. Герой романа Белами верит в то, что простое и элементарное человеческое счастье легко достижимо. Его встреча с Адриенной — художественное воспроизведение мифа о первоначальном сотворении двух существ различного пола. Белами, по замыслу писателя, переживает то, что должен был переживать Адам, когда Бог сотворил Еву. Через шесть месяцев после свадьбы Адриенна уходит от Белами. Он в полном недоумении. Один из знакомых дает ему Библию. Тот начинает читать, доходит до места о сотворении Евы из адамова ребра, и откровение первородного греха так поражает его, что он бросает чтение.
Все его понимание мира находит теперь выражение в главе книги Бытия. Но Белами решает не мириться с этим проклятием. Начинается борьба с судьбой всего человечества. Уверенный в том, что Адриенна рано или поздно вернется, он начинает строить «свой рай», откуда уже невозможно будет «изгнание»: выбирает участок для сада, обносит его забором, сажает цветы и деревья. Общее парадоксальным образом трансформируется у Белами в частное. Он полагает, что сможет преодолеть проклятие, тяготеющее над человечеством, если преодолеет его в своей частной жизни. Но попытка создания своего «рая в миниатюре» кончается полной неудачей. В Белами просыпается стремление к бесконечному, к абсолютному соединению двух человеческих существ воедино, когда «один и один будет один, а не два». Но возвращение Адриенны не оправдывает его ожиданий. Проклятие, довлеющее над человечеством, дает себя знать и в его сознании. Так долго ожидаемого слияния двух существ, как бы воплощающих «состояние прародителей до греха», не наступает. Стать выше «человеческой судьбы» Белами не удается. Убедившись в том, что его идеал недостижим, он окончательно порывает с Адриенной.
«Адам и Ева» — не единственное произведение Рамю на библейские темы. «Знамения среди нас» («Les signes parmi nous», 1919), «Любовь к миру», «Присутствие смерти», «Исцеление недугов», «Разделение рас», «Радость небесная» — все они так или иначе касаются библейских мотивов. Но религиозная тематика в конечном счете оказывалась для Рамю объектом эстетического переложения.
«Я верю только в веру, но сам я неверующий», — писал Рамю в своем дневнике в декабре 1903 г. Он признавал, что на него большое влияние оказали два крупнейших французских писателя-католика начала XX в. — П.Клодель и Ш.Пеги, но, несмотря на неоднократные попытки Клоделя обратить Рамю в католицизм, швейцарский писатель продолжал оставаться атеистом. Клодель недоумевал, как в таком, по его мнению, глубоко религиозном произведении, как «Исцеление недугов», Рамю смог обойтись без образа священника или персонажа, символизирующего Бога.
Связь религиозного и эстетического опытов очень интересовала Рамю. Даже его выбор темы для диссертации обусловливался во многом этим: писатель хотел понять, почему столь близкий ему по мировосприятию Морис де Герен был католиком, каким образом оказалось для него возможным совместить художественное творчество и верность католическим догмам. Сам же Рамю, по его собственному признанию, так и не испытал откровения. Но Г.Марсель ставил ему в заслугу глубочайшее постижение самой сути религии. По мнению Ж.Маритена, примитивизм Рамю имеет мистический оттенок, так как «мистики, как известно, с большим вниманием относятся к частностям, к деталям, чувствуя, что Богу ничего не безразлично, что все им сотворенное имеет смысл, что все волосы на нашей голове им сосчитаны»26. Очень точно определил особенности творчества Рамю швейцарский писатель Ф.Шаванн (F.Chavannes), связав его с особенностями швейцарского исторического литературного развития, с народными традициями. «Минуя немощный романтизм, минуя королевское искусство эпохи абсолютизма, оставшееся ему чуждым, минуя осмеянный Ренессанс, Рамю поднимается, сам, может быть, этого не осознавая, к длительное время не замечаемым традициям, живущим, однако, в народе. Восстанавливая все необходимые ему связи и закономерности, он приближается к наиболее старой форме искусства. Я имею в виду ту форму, которая выразила себя в искусстве витража, в скульптуре соборов, но которая, быть может, не нашла выражения в литературе, оставшись нераскрытой, как бутон, воплотившись лишь в народных традициях, в рассказах о злом духе, об исцелении болезней, о знамениях, появляющихся среди людей»27.
Народные традиции составляют одну из отличительных особенностей творчества Рамю и еще с одной стороны проясняют характер стремления к непосредственному, «верности своей земле», характер интереса к религии. Без сомнения, этот интерес объяснялся во многом стремлением писателя выйти из круга художнической обособленности, неприятием позиций исключительно эстетического подхода к действительности. Неприятие эстетства, «укорененность» в бытии сообщают теме поисков Абсолюта, поисков «величия» оптимистическое звучание, в наибольшей мере проявляющееся в романах «Дерборанс» и «Если солнце не взойдет»*. «Дерборанс» — история конкретного происшествия, зафиксированного в швейцарских газетах. Группа пастухов направляется со стадом на летнее пастбище, где они намереваются провести два-три месяца. Во время горного обвала все они погибают, кроме одного, Антуана, оставившего внизу свою жену, готовящуюся стать матерью. Антуана засыпает обломками скал, все считают его погибшим, жена его носит траур. Однако два месяца спустя Антуан появляется в деревне.
Борьба Антуана со смертью, с равнодушной безмолвной стихией — одна из основных тем романа. Заваленный огромными глыбами Антуан не теряет присутствия духа и пытается выбраться из лабиринта, образованного бесчисленными проходами между камнями. Вследствие удачного расположения шале, хлеб и сыр, заготовленные как раз на несколько недель, остаются целы и доступны ему. Щели между камнями позволяют проникать воздуху, горный поток, перегороженный обвалом, просачивается между расселинами, и это в какой-то мере обеспечивает его водой. Сохранение самых элементарных условий жизни дало Антуану надежду выжить, выбраться из лабиринта.
Вернувшись к людям, Антуан остро переживает свое приобщение к ним. Он как бы обретает вторую жизнь, заново узнавая все ранее знакомые ему вещи, без конца повторяя их названия, восстанавливая связи между предметами и собой. Борьба за жизнь потребовала от него таких усилий, что возвращение в мир протекает как трудный и медленный процесс узнавания. За время пребывания под завалом Антуан потерял ощущение времени, пространства и после своего освобождения переживает их восстановление. «Он увидел, что ему нужно все узнавать снова, что ему нужно узнавать весь мир: небо, деревья, птиц, солнце. Он знал только, что его зовут Антуан Пон и что он был засыпан обвалом, вышел оттуда и теперь идет домой, где у него жена». Но Антуану предстоит пройти еще один этап «возвращения» в мир. После того, как он проводит среди родных и друзей первый день, ему начинает казаться, что родственник его жены, старый Серафим, заменявший ему отца и очень много сделавший для него, остался, как и он, заживо погребенным под камнями. Антуан хочет вернуться «назад, в камни», он уверен, что Серафим жив и он должен спасти его. Пафос рождения, возвращения к жизни — одна из ведущих тем романа. Когда Антуан собирается идти «в камни», он идет не один. С ним его жена Тереза, готовящаяся стать матерью. Антуан действует, повинуясь отнюдь не тем «темным силам», в подчинении которым его обвиняет старый Пон, утверждающий, что молодой пастух, пробыв так долго под землей, попал под власть «духов земли», господствующих над призраками и засылающих их в мир живых людей с целью поработить их души. Он хочет вернуть в мир еще одного человека. Поступок Антуана так же пароксичен, как и заключительные «жесты» Жозефа («Савойский парень») и Фарине. Но в основе его лежат совсем другие чувства. Антуана сопровождают не «духи тьмы», а Тереза.
Жизнеутверждающий пафос романа является большой художественной победой писателя. Описываемый случай воспринимается как выражение и воплощение тех изначальных и неистребимых движений человеческой души, которые оказываются сильнее и равнодушия природы, и индивидуалистического протеста, эгоистического утверждения своей личности. Художественные достижения романов предыдущего «коллективного» периода получают глубоко положительную содержательную насыщенность. Равнодушие стихии не порабощает человека; первозданной силой, таящейся в глубинах души, оказываются не «демоны» разрушения и смерти, а стремление к утверждению «человеческого величия».
Основой сюжета романа «Если солнце не взойдет» как и других «коллективных» романов, является «катастрофическая ситуация», оборачивающаяся в конечном счете победой жизни, оптимистическим прославлением ее постоянства и могущества.
Перед нами глухая горная деревня, куда солнце проникает только перевалив через высокий хребет, и поэтому даже летом появляется только поздно утром, а шесть месяцев в году его здесь вообще не бывает. Живет в деревне, один в каменном доме, доставшемся ему от дальних предков, старик Анзевуа, славящийся своим умением лечить от разных болезней. Целые дни в его доме горит свет: старик читает старинные книги. Все относятся к нему со смешанным чувством уважения, снисхождения и боязни. И вот, когда однажды глубокой осенью солнце давно уже ушло за хребет и следовало ожидать его восхода только в апреле, по всей деревне распространяется слух, будто Анзевуа прочел в самой большой книге о том, что в этом году солнце вообще не взойдет. Некоторые даже присутствовали при расчетах, которые он производил: все цифры сходились, действительно выходило так, что в апреле солнце больше не появится.
Возникает знакомый читателям Рамю мотив замкнутости, отрезанности от мира, затерянности в вечной непроглядной ночи. Апокалиптическая тема начинает звучать все отчетливее и грознее. Образ «солнца с отрубленной головой» заполняет сознание и мысли все большего числа людей. Предстоящая катастрофа изменяет поведение многих героев. Старый Арлетаз отказывается от попыток найти свою ушедшую дочь. Реваз, не соглашающийся на женитьбу своего сына, так как это повлечет раздел имущества, сам делит состояние и пишет завещание. Зловеще звучат слова старухи Бригитты, забивающей гвозди в дверь и отмечающей этим количество прошедших недель и время, оставшееся в их распоряжении до начала катастрофы. Низкий тяжелый небосвод, казалось, опускается к самой земле, заставляя людей пригибаться. Однако они оказываются способными противостоять наваждению. Изабелла, молодая жена одного из главных героев, Антуана, начавшего уже запасаться дровами на случай «всеобщего оледенения», делает все возможное, чтобы вернуть своего мужа к прежнему жизнерадостному и веселому настроению. Но Изабелла хочет вернуть к жизни не только своего мужа. Личного, индивидуального счастья ей мало. Она хочет «возродить» всю деревню. Вместе с несколькими из своих друзей, как и она, верящими в то, что солнце должно взойти, Изабелла решает предвосхитить его приход. Друзья подымаются высоко в горы и при появлении солнца приветствуют его восход звуками пастушеского рожка. Появление солнца, вписываясь в сумму всех разнообразных событий, воспринимается как явление изначальное, повторяющееся и постоянное. Изабелла и ее друзья верят в незыблемость утвердившегося порядка вещей, в то, что зима обязательно сменится весной, а весна летом. Встреча солнца людьми — один из древнейших ритуалов, нашедший свое выражение во многих мифах. С давних времен появление солнца и приход весны сопровождались праздничными обрядами, истоки которых уходят далеко вглубь, понятия о первоначальном генезисе которых были утеряны и которые поддерживаются вековой традицией. Одной из задач писателя было как бы восстановление первоначальных истоков этого мифа.
Встреча солнца Изабеллой и ее друзьями вписывается в картину всеобщего ликования. Множество сцен пробуждающейся жизни соединяются в одну. Раздается звук пастушеского рожка, кричит ребенок, потянувшийся к материнской груди, слышится жужжание мухи, почувствовавшей тепло и проснувшейся. «Если солнце не взойдет» — миф о «возрождении» земли и жизни, гимн ее постоянству и всемогуществу.
Творчество Ш.-Ф.Рамю вливается в тот поток литературы, который оказывался в определенной мере реакцией на «невещественность» символизма. Противопоставляя себя абстрактности и интеллектуализму последнего, Рамю стремился к первоначальной, исходной конкретности. В этом суть его «примитивистского спиритуализма», смысл обращения к мифологическим истокам человеческого существования, могущим вернуть человека к целостному мировосприятию, к постижению тайны происхождения всех вещей, к овладению качественно другим временем, временем «сакральным», одновременно исходным, первоначальным и в то же время бесконечно повторяющимся.