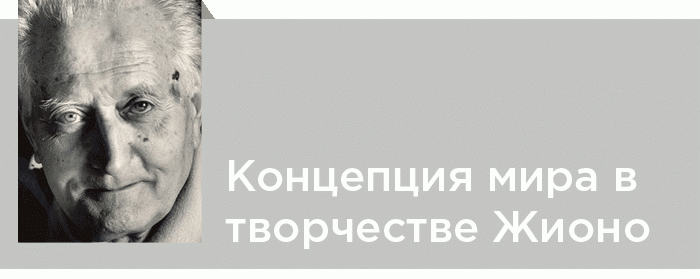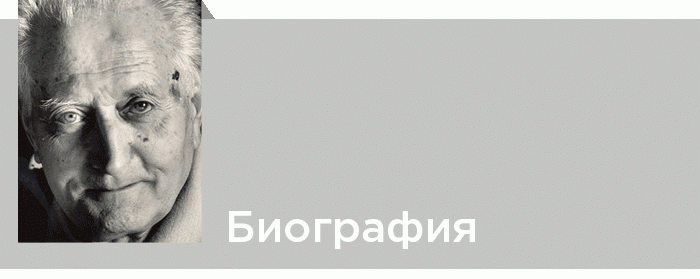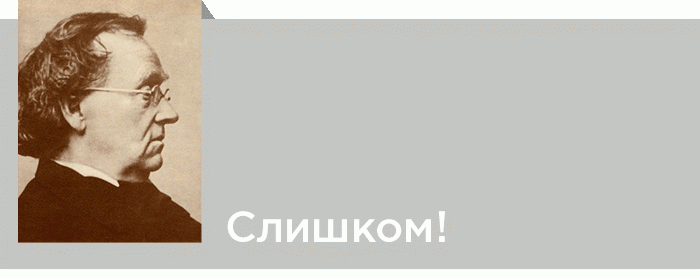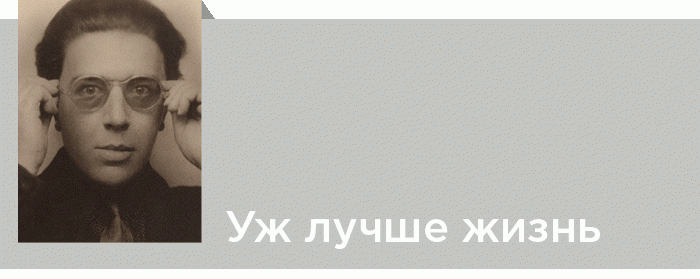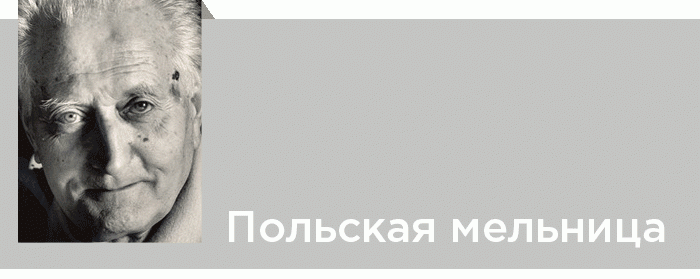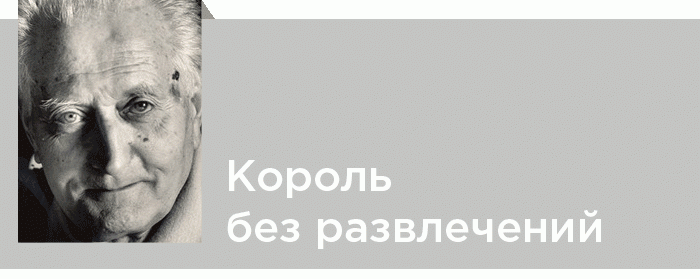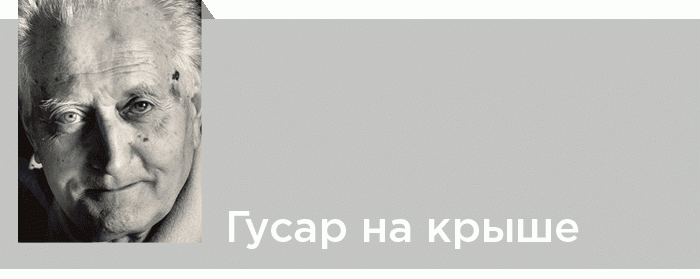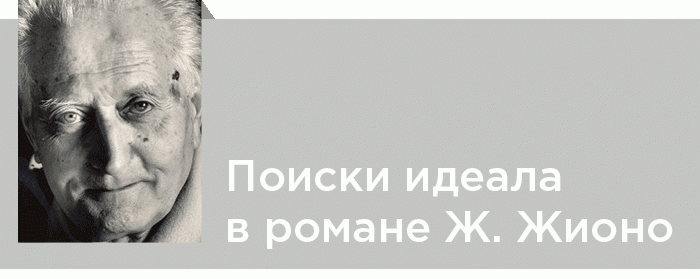Модусы времени в романах Жана Жионо
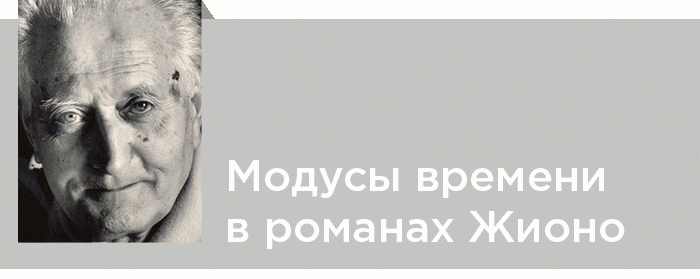
Н. Л. Литвиненко
Жионо принадлежит к поколению писателей, чье формирование, по мысли Анри Годара, было связано с опытом Первой мировой войны - Селина, Мальро, Монтерлана, Сартра, Кено, Симона, - независимо от формы участия в ней и дальнейшей судьбы. Однако Жионо не наблюдал войну со стороны, он прошел ее всю, участвовал в сражениях 1915-1919 гг. Вероятно, именно этот опыт сформировал в нем стойкую позицию пацифиста, - «яростного, ангажированного, бескомпромиссного», отвергавшего и войну, и фашизм, и коммунизм, что плохо согласовалось с умонастроениями французской интеллигенции и в предвоенные и в послевоенные годы. Только в 1950-е гг. Жионо удалось избавиться от возникшего на этой основе общественного осуждения и вернуть себе читательский успех.
На научных конференциях и в научных трудах имя Жионо звучит рядом с именами А. Жида, А. Камю, Ф. Кафки, Д. Конрада, А. Мальро, М. Дюра, К. Симона, С. Беккета, Ле Клезио, М. Кундеры, X. Картасара, С. Рушди, М. Варгаса Льосы, а также Ж. Деррида, что свидетельствует о поисках широкого контекста, о стремлении вписать Жионо в контекст не только модернистских, но и постмодернистских традиций, осмыслить специфику того плодотворного диалога, который вел Жионо с произведениями литературы и искусства различных эпох.
В нашей науке творчество Жионо, по-видимому, не привлекало особого внимания. В фундаментальном издании «Истории французской литературы 1945-1990 гг.» (М., 1995) имя писателя едва упоминается. Л. Г. Андреев называет его «самой яркой фигурой предвоенного популистского романа», подчеркивая, что и после войны в его творчестве сохранился «натуралистический романтизм» как основной принцип изображения. По мысли ученого, Жионо и после войны продолжает противопоставлять социальному миру «маленькие радости», свой клочок земли, «домик и осла», при этом литературовед особо выделяет роман-притчу «Гусар на крыше». А между тем наследие Жионо, воплощая одну из тенденций неприятия ангажированности, и литературы абсурда (т.н. «алитературы»), во многих отношениях весьма интересно, и простая отсылка к популизму не многое проясняет.
Интересным и актуальным оно представляется нам и в связи с той более обшей проблемой, которая волновала и продолжает волновать философов, культурологов, литературоведов XX века - проблемой границ, соединяющих и разъединяющих историко-культурные эпохи, в том числе - век XIX-й и ХХ-й. Этой проблеме, в частности, было посвящено коллективное исследование, инициатором и одним из авторов которого был Л.Г. Андреев.
Взгляд на историю литературы с точки зрения проблемы «границ» делает актуальным вопрос об отношении к «классическим» традициям: эстетическим системы великих романтиков и реалистов - Стендаля, Бальзака, Гюго, Жорж Санд. Канули ли они в лету как эпоха иллюзий, логоцентризма, повествовательного авторитаризма, неких абсолютов, хотя и включенных в парадигму относительности? Или они продолжают жить в системе новых ценностных и эстетических представлений, в интертекстуальном пространстве постмодернистских игр и, если да, то каковы их связи с ушедшим временем, ищет ли постмодернистская поэтика утраченное и что удается ей отыскать? Продолжают ли функционировать жанровые формы романистики, в том числе исторической, выработанные XIX в., и как они трансформируются?
Произведения Ж. Жионо дают свои, во многом характерные и в то же время знаменательные ответы на эти вопросы.
В центре нашего внимания два романа, посвященные XIX в. Первый - «Hussard sur le toît» («Гусар на крыше»), 1951, входящий в цикл «Романов о гусаре». Этот роман положил конец послевоенному охлаждению к писателю и даже преследованию его творчества. Второй - более ранний - «Un roi sens divertissements» («Король без развлечений»), 1946. Этот роман позднее был включен в цикл «Chroniques». В обоих произведениях писатель обращается к эпохе Луи-Филиппа, широко известной читателю по произведениям Бальзака, Стендаля, Жорж Санд, Э. Сю и многих других «массовых» и немассовых романистов XIX в.
Названные произведения Жионо представляют модификации исторического романа-детектива, романа-приключения и романа-хроники. Принцип «реставрации» прошлого и конструирования обладает своими особенностями: романист вписывает свои сюжеты в как будто уже существующий реальный и художественный мир, «продолжающийся», длящийся в метатекстовом пространстве прошлого-настоящего, истории-судьбы, жизни во времени, утратившей приметы социальной напряженности, вне которых не существовали романные структуры первой половины XIX в. В этом мире сюжеты Жионо не обнаруживают своей чужеродности, они как бы вырастают где-то даже не по соседству, а внутри этого мира, обладая в то же время безусловной художественной автономностью. Они на глазах читателя, в процессе чтения текста отпочковываются от него, обретают, обнаруживают собственную неповторимость. Писатель использует систему перифраз, интертекстуальных аллюзий, которые как будто заменяют экскурсы в историю, эпоху, в них просто нет нужды - в контексте решаемых писателем задач и общекультурных представлений широкого читателя середины XX в.
Так, в начале романа «Король без развлечений» вводится перифраз стендалевского текста - описания лесопилки, юноши, читающего - не «Мемориал Святой Елены», а «Сильвию» Жерара де Нерваля - ведь действие отнесено к 1840-м гг. Но и лесопилка, и бук, играющий столь важную, но совершенно иную роль, чем знаменитые верьерские платаны, и описание Гренобля «подсказывают» Стендаля, - как «Сильвия» - Жерара де Нерваля. Эти мотивы создают ложную стратегию ожидания и в то же время - игровое пространство сюжета. Жанровые признаки, нарративные модусы, восходящие к традициям классической романистики XIX в., выполняют двойственную функцию: направляя и в то же время «дезориентируя», с одной стороны, сам сюжет, а с другой - его восприятие. Особенно интересно эта стратегия обнаруживает себя в «Короле без развлечений».
Его герой задан как классический персонаж приключенческого романа, путешествующий по большой дороге, по возрасту и темпераменту близкий и героям Дюма, но еще более - Фабрицио дель Донго Стендаля. Со Стендалем сближает ирония, «дистанция» между повествователем и героем, возраст героя, страх «чувствовать себя смешным и неловким», «политическая дуэль», которая заставила его покинуть Италию. Однако приключения, которые бесконечным каскадом обрушиваются на Анджело на дорогах Прованса и в которых он участвует, обладают совершенно иной семантикой.
Ж. Жионо использует жанрово-семиотические элементы стендалевского дискурса, включая их в интригу, которая по насыщенности действием, событийной концентрации заставляет вспомнить итальянские хроники. Герой - незаконнорожденный пьемонтец, карбонарий, любящий народ, щедро и с любовью воспитанный матерью-графиней. По свободе эпистолярного общения с сыном и самовыражения она отдаленно напоминает Джину Сансеверину, а герой, с его пылкой душой, дуэлью, дружбой и одержимостью идеей освобождения Италии «указывает» уже более на Пьетро Миссирилли, хотя по-прежнему и на юного Фабрицио. Он столь же безрассуден и импульсивен, неопытен, искренен и героичен. Система аллюзий работает тем очевиднее, что писатель как будто временами стилизует саму манеру письма Стендаля, сдержанно-лаконичного, с открытым вторжением слегка иронических оценок повествователя и изрядной долей аинтеллектуализма героя. Последнее определяет и более общую специфику построения образа - очерченного весьма схематично. Заданный в начале романа герой-характер превращается в персонаж-маску, с несколькими устойчивыми чертами, неизменно программирующими поведение героя, - и в то же время - в размышлениях о трагическом опыте своей жизни временами возвращающий себе прежнюю ипостась. В этих размышлениях отзвуки тех проблем, которые волновали писателей XIX в.: о праве на насилие, о долге и чести, о соотношении целей и средств в процессе борьбы за свободу и справедливость. Множество проблем затрагивается, - и повисают, над их решением предстоит думать читателю, если он к тому будет иметь склонность.
Разумеется, Анджело не дублирует того же Фабрицио дель Донго или Пьетро, но он с ними как будто «одной крови». Герои Стендаля опосредованно, на уровне подтекста и текстовых аллюзий вводят героя Жионо в более обширный - текст культуры и питают его своей художественной субстанцией - так работает механизм идентификации, включающий двойное прочтение не только стендалевского, но и других повествовательно-аллюзивных пластов романа.
Семантика приключений героя отсылает читателя к художественному опыту Э. Сю и его «Агасфера». Очевидно, что впечатления от описания эпидемии холеры действительно повлияли на Жионо, однако, в изображении и трактовке ее сказывается более поздний - художественный опыт XX в.
Романтическая мифологизация, характеризующая поэтику «Агасфера» в изображении эпидемии холеры, уступает место постмодернистской - гротеску зла, страшного и неизбывного, — и в то же время «фрагментарного» и «игрового». Ж. Жионо наследует традиции готического в той его специфике, которая привлекала представителей «неистовой школы» эпохи романтизма и массовую литературу XX в. - изображения не просто ужасного, но ужасно-отвратительного. Гиперболизация отвратительного, перенос поэтики отвратительного в область физиологических отправлений, разлагающегося организма становится важнейшим лейтмотивом приключений героя, путешествующего не в град спасения, но по кругам дантевского ада и пытающегося спасти хотя бы одно живое существо вопреки абсолютному и неодолимому господству закона смерти. Здесь слышны только отголоски мотива пира во время чумы, на первый план выходит другая традиция, другой пласт аллюзий, связанных (от «Декамерона» до «Смерти в Венеции») с архетипом катастрофичности жизни. Наиболее заметен след от прочтения не столько Э. Сю, сколько «Чумы» (1947).
Подобно экзистенциалистскому роману своего великого современника, Жионо как будто сублимирует в гротескных картинах всю неизбывность накопившегося в мире и пережитого человечеством зла, всемирной катастрофы, которая поставила под вопрос все ценности европейской культуры. Речь в этом контексте не шла о конфликте социальном, но онтологическом: добра и зла, зла как иррациональной силы, разрушающей первооснову жизни - человеческие связи и отношения. Заметим - на основе иной поэтики автор «Ста лет одиночества» несколькими десятилетиями позднее (1985) создаст свою ироническую хронику бессмертной любви - во времена холеры, где флаг, поднятый на мачте корабля, станет символом ее торжества над законами реальной жизни - и счастливого - и иронического - ухода в вечность.
Французский литературовед Анн Бувье Каворе подчеркивает традиционно метафорическую функцию мотива холеры в романистике эпохи как зла, которое опрокидывает весь миропорядок и заставляет человека утратить все то, что составляет его человечность (humanité). Другой исследователь - Жиль Эрнст отмечает характерную для подобных сюжетов - от чумы и холеры до спида - хроникальность дискурса, которая позволяет обнаруживать разрушительный ход болезни и программирует хроникальность сюжета.
И, однако, стилистика Ж. Жионо ориентирована не на трагедию, хотя она и является предметом изображения. Парадигма воспитательного романа, романа становления - «поисков себя на пути... преодоления» разнообразных опасностей, «аллегорическое «путешествие в себя» только заданы, не сведены в целое характера. В отличие от Камю, Жионо эстетической доминантой изображения делает не столько трагическую и философскую модальность, сколько приключенческую и героическую, которая чуть-чуть сродни фольклорной героике Фанфан-Тюльпана, она находит особую реализацию в преодолении отвратительного и неуязвимости героя, который, выполняя бесполезную миссию спасателя и спасителя, не спасает никого, точнее почти никого.
Романическая интрига как раз и строится на том, что закон смерти и абсурда оказывается преодоленным в ситуации, которая обладает классической приключенческой семантикой, восходящей к традициям рыцарского романа. Наиболее значимый подвиг - в кульминации - это спасение дамы, он осуществляется в традициях рыцарства - поединков, бегства из крепости и т.д. - в то же время включает элемент пародирования - иронически сдобрен в меру отвратительными, хотя и как будто уже «стертыми» от использования, едва ли не злоупотребления физиологическими подробностями. Он вбирает элемент абсурда, но не в философском, а романно приключенческом смысле, обретающем иронически игровую трактовку. После спасения Полины и всяких медицинско-физиологических процедур, безусловно сблизивших героев, - вопреки всяким массово и традиционно программируемым ожиданиям читателя, он (герой) спокойно и с радостным сердцем, как ни в чем не бывало отправляется в путь, мечтая об исполнении миссии - по освобождению Италии. Тем самым вновь включается аллюзивно-ироническая стилистика, возвращая герою его особую реальность - без той установки на достоверность, которая была задана в экспозиции романа и которая свойственна романистике XIX в., но с новой, характерной для постмодернистского мышления установкой на игровое пространство романного текста и слова. Игра и избыточность зла выполняют функцию его преодоления и приручения во многих произведениях массовой литературы XX в., как и в романе Жана Жионо.
Однако приключение в романе может быть осмыслено как элемент жизнетворчества. Это бросок в будущее, подчеркивает современный исследователь, это проекция воспоминаний, которые скрывает сознание. «Благодаря приключению я становлюсь поэтом-провидцем... Подлинный искатель приключений (aventurier) - поэт. Он воплощает в действиях, поступках свою жизнь (existence), и по мере того, как это происходит, он создает смысл своей жизни». В то же время приключение - это мистический опыт «Другого». В этом контексте приключенческий роман может быть осмыслен и как философский и как роман-притча. Однако это лишь некое жанровое допущение, потенциальная модальность романов Жионо.
Приметы исторического времени играют второстепенную роль в сюжете. Они едва маркируют художественное пространство романа. В то же время писатель несколькими штрихами вводит в размышления своего героя целый комплекс «хрестоматийных» проблем, связанных с памятью об Аустерлице и Наполеоне, французах, «которым не с кем сражаться, кроме ткачей», о различиях между прошлым народа, живущего по ту и эту сторону Альп.
Элементы историзации в духе романистики первой половины XIX в. определяют экспозицию «Гусара», просматриваются в контексте размышлений героя. Но Жионо использует и другой принцип: исторический контекст в романе - это контекст восприятия - воспринимающего сознания. Он определяется общекультурным уровнем читателя. История же в собственном смысле - как ряд тех или иных, имевших место в XX в. событий оборачивается своей вневременной сущностью, в данном случае - эпидемии, которая создает ситуацию эксперимента - того эксперимента, который в разных вариантах использовали в XX в. столь разные писатели, как О. Хаксли, А. Камю, Р. Мерль, Дж. Фаулз, Г. Гессе или У. Эко.
Пейзаж, обладающий мифопоэтической функцией, выстраивает свою поэтичность на основе эстетики непоэтического, апоэтического - устрашающе-безнадежного, чувственно-смрадного - воображаемого, отсылающего не только к птицам Хичкока - к миру земному и миру с пробудившимися хтоническими силами зла, а затем - в конце - по завершении цикла - к миру красоты и поэзии. Именно пейзаж вводит мифологический модус времени которое не течет, не движется, но пребывает, как пребывает зло и, только изжив его, мир может вернуть себе качество движения, исторический и человеческий смыслы, которые были утрачены.
Все как будто просто и совсем непросто в этом мире, по которому вместе с героем совершает свой путь читатель. Это не роман воспитания, не роман-притча, не роман-миф, не философский роман, но приключение и интрига включают аллюзивно, потенциально эти элементы в структуру текста. Быть может, есть основания говорить в этой связи о новой жанровой природе подобного постмодернистского романа, в основе которой аллюзивные модусы тех жанровых форм, которые он вбирает как текст культуры.
А в «Короле без развлечений» Жионо создает удивительно интересную полифонию повествовательных стилей - в новеллистическом детективе, который постепенно перестает быть детективом. И аллюзивные модусы позволяют увидеть в «Короле без развлечений» роман с подтекстовой, провоцирующей установкой. Это сказовый роман (roman parlant), в котором повествователи не договаривают, намекают и сущность событий только угадывается. Функция детектива-психолога переходит к читателю, который может создать свою версию зашифрованных в обыденных поступках и словах событий. Смысл их только затемняют слова, и он не совпадает с видимой поверхностью слов и смыслом, доступным тому или иному повествователю.
Этот роман обнаруживает романтическую традицию изображения исключительного героя, выбравшего компромисс со средой, который привел его к самоубийству. Но это и роман, «подстрекающий воображение», подстрекающий, если так можно сказать, жанровые модальности как способ и форму взаимодействия эпох и культур на уровне текста и восприятия и в этом наследующий отдельные составляющие поэтики романтизма.
«Гусар на крыше» и «Король без развлечений» - принадлежат постмодернистской разновидности исторических романов, и в качестве таковых дают основание говорить не об историзме в духе XIX в., а о модусах времени, которые находят здесь свое воплощение - прежде всего, через нарративно-стилистическую, аллюзивную и провокативную стратегию. Но важнейшим становится все-таки мифологическое время, выпадающее из времени стилизованно-исторического и обретающее модус вечности, где, вписанные в пейзаж, в «вечное» природы движутся фигуры и фигурки, несущие бремя судьбы и того вызова который лучшие бросают ей, побеждая или погибая - в подчеркнуто игровом и в то же время жизнеподобном пространстве текста.
Л-ра: Литература ХХ века: итоги и перспективы изучения. – Москва, 2004. – C. 99-104.
Произведения
Критика