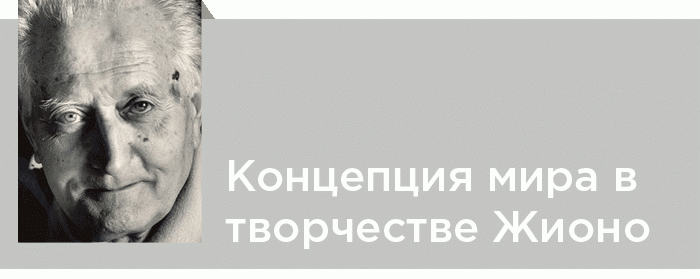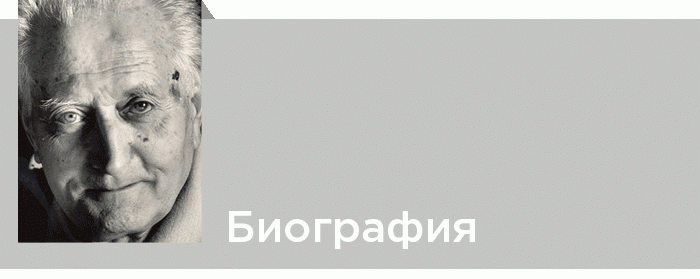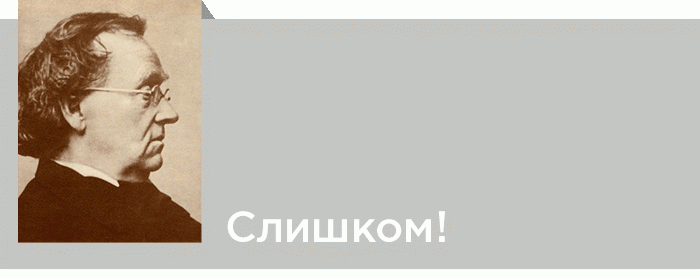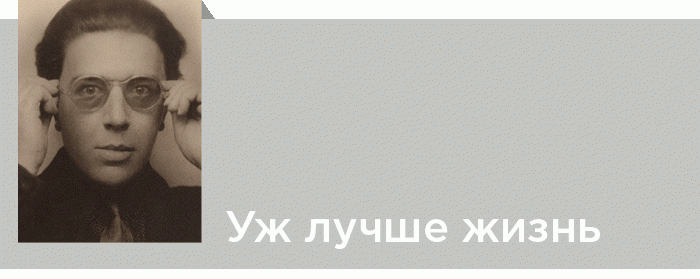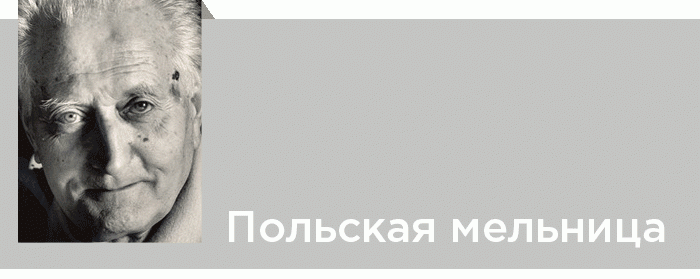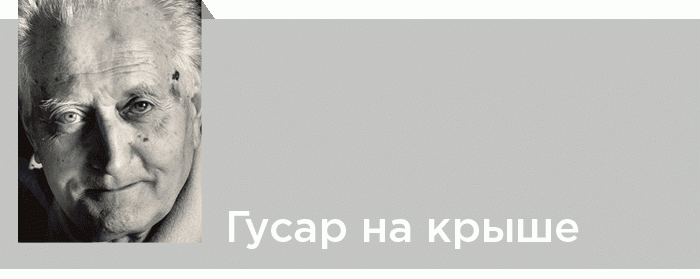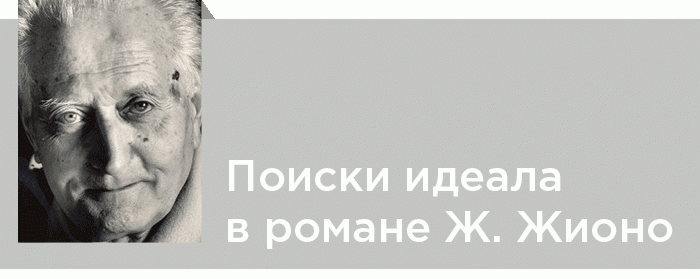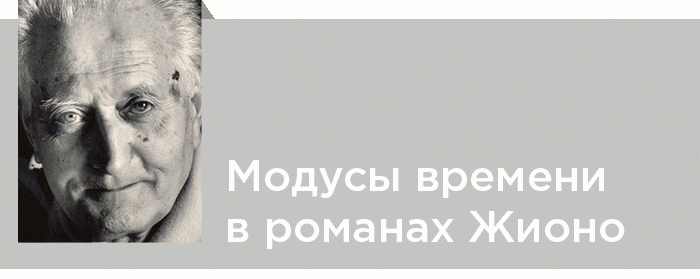Жан Жионо. Король без развлечений
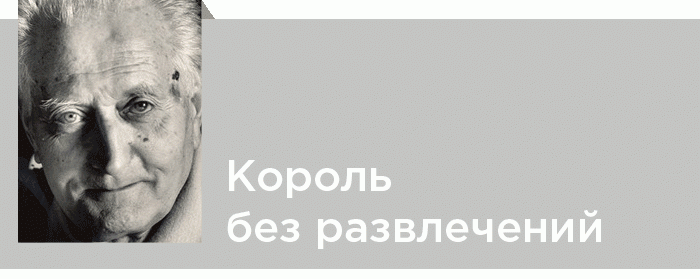
(Отрывок)
…Если бы вы прислали мне свою волынку и все штучки, к ней относящиеся, я бы их сам приладил и стал бы играть какие-нибудь очень печальные мелодии, весьма соответствующие, я бы сказал, моей тяжелой доле узника.
Письмо Одлъ-Рекки
Лесопилка Фредерика стоит возле дороги, что ведет в Авер. Она досталась ему в наследство от отца, от деда, от прадеда, и всех их звали Фредериками.
Стоит она возле крутого поворота, там еще огромный бук растет. Уверен — нет его красивее, просто Аполлон, а не бук. Не сыскать на земле другого такого, с такой складной фигурой, правильными пропорциями, с такой гладкой, красивой корой, чтобы было в нем столько же благородства, грации и молодости. Именно Аполлона он напоминает при первом же взгляде, и сколько бы на него ни смотрел, тебя не покидает это впечатление. Самое необычное заключается в том, что он и прекрасен, и вместе с тем прост. Несомненно, он знает себе цену и может сам судить о себе. Может ли такое совершенство не осознавать себя? Достаточно ведь легкого дуновения ветерка, случайной игры вечернего освещения, незаметного колыхания листьев — и красота нарушается и уже совсем не кажется такой волшебной.
В 1843 году, в 1844 и в 1845 годах господин В. часто пользовался этим буком. Господин В. был родом из Шишильяна, это в двадцати километрах отсюда по извилистой дороге, в ложбине, что лежит довольно высоко. Никто туда не ездит. Ездят в другие места: в Клелль (это в том же направлении), в Ман и даже дальше; во многие места ездят, но не в Шишильян. А чего там делать, зачем туда ехать? Чего там не видали, в Шишильяне? Там все, как и здесь. Как и в других местах, конечно. Но в других местах, к востоку или к западу, встречаются кое-где открытые горизонты, пейзажи с рощицами или с живописными перекрестками дорог. В 1843 году двадцать один километр — это немало. Ходили тогда в рабочей блузе, в сапогах, ходили пешком или ездили верхом на муле, неторопливым шагом. Так что поход или поездка в Шишильян были делом редким.
Не думаю, что сейчас в Шишильяне остались какие-нибудь представители рода В. Семья не вымерла, но людей с этой фамилией там не осталось. Не найти ее на вывеске бистро или бакалейной лавки, нет ее и на доске, прикрепленной к памятнику тем, кто погиб.
Есть люди с фамилией В. подальше, в сторону перевала Мене. Дорога туда ведет через лес, где есть сотни огромных и очень красивых буков, но ни один не сравнится с тем, что растет возле лесопилки Фредерика. А вот если спустишься по склону, то за перевалом, в Ди, вот там — да, там есть люди с фамилией В. На третьей ферме справа от дороги, на лугу, где вода из родника вытекает по желобу, сложенному из двух черепиц, там, в палисаднике, какие бывают перед домами кюре, растут мальвы. Если вы попадете туда летом, во время каникул, или на Пасху (хотя на Пасху там еще бывают заморозки), вы увидите, быть может, возле мальв худощавого юношу с очень темными волосами, небольшой бородкой, подчеркивающей огромные мечтательные глаза. Когда бы я его ни видел, он сидел с книгой. Читал «Сильвию» Жерара де Нерваля. Так вот он — один из рода В. Он учился в педагогическим училище то ли в Балансе, то ли в Гренобле. А читать «Сильвию» в этих местах — занятие необычное.
Под перевалом Мене проходит тоннель, приспособленный для проезда не больше, чем какая-нибудь старая галерея заброшенной шахты. А склон в сторону Ди, куда выходит тоннель, — это просто хаос застывших волн из камней серо-голубого цвета между темными полосами елей, спускающимися откуда-то сверху, среди скатов породы грязно-розового или серого цвета, похожих на земляных моллюсков, а ниже на многие километры тянутся темные пятна озер, где во время сильных ветров бушуют волны. Вот почему я и говорю: «Сильвия» здесь выглядит довольно странно, потому что ферма, которая называется «Ширузы», расположена в стороне от других селений, и судя по ее толстым стенам, по крыше, по дверям и окнам, прячущимся между огромными арками, дом словно боится чего-то. Вокруг нет деревьев. Кажется, дом изо всех сил старается уйти в землю, поскольку только там он может спрятаться. Выгон, что за домом, словно нависает над крышей. Палисадник окружен, если не ошибаюсь, проволочной изгородью и там непонятно почему растут мальвы. Вот на их фоне я и увидел господина В. (Амедея), сына. Он читал «Сильвию» Жерара де Нерваля. Ни отца его, ни мать я не видел; не знаю, есть ли у него братья и сестры, знаю только, что он — один из этой фамилии, что в то время он учился в педагогическом училище то ли в Балансе, то ли в Гренобле, а каникулы проводил здесь, в своем доме.
Не знаю даже, родственник ли он, потомок ли того В., что жил в 1843 году. Факт тот, что он — представитель единственной семьи, носящей фамилию В. вблизи — сравнительно вблизи — Шишильяна.
Я не знаю точно, каким был тот, что жил в 1843 году. Никто не мог мне сказать, был ли он высок ростом или не очень. Мне он представляется с бородой, как тот юноша, что читает Жерара де Нерваля, с очень черными кудрявыми волосами, но борода не очень густая и сквозь нее просматривается форма подбородка. Не очень красивая борода, но все же борода, — мне кажется, я ясно излагаю, — борода необходима, обязательно нужна. Высокий? Право, не важно, он мог быть и невысоким, но коренастым, причем наверняка очень сильным.
Мой друг Сезара, что живет в Пребуа, написал несколько брошюрок по истории края. Я у него расспрашивал об этом господине В. Среди книг и картин у него я нашел немало портретов Картуша и Мандрена, изображений оборотней с оскаленными мордами (точность поразительная — все зубы видны). Есть у него портреты двух-трех злодеев, душителей пастушек, и даже немало сведений о некоем Броше, нотариусе из Сен-Бодийо, который растратил все свое состояние на какую-то светскую львицу. Но о человеке с фамилией В. из 1843 года — ни слова.
А Сезара, между прочим, знает эту историю. И все в округе ее знают. И вот решил я об этом рассказать, иначе вам никто ничего не скажет. Сезара сказал мне: «Все молчат из чувства деликатности. Его считали больным, умалишенным. Стараются не раздувать историю. Люди уверены в себе, знают, что не кинутся завтра же останавливать автобусы на шоссе, но допускают, что при определенных обстоятельствах все же могут выкинуть какой-нибудь номер. Так что не стоит говорить о таких вещах, привлекать к ним внимание».
Я ему говорю: «Ну так давай, расскажи, ты же не все сказал!» — «Да все я сказал, — отвечает он. — Чего мне от тебя скрывать?» Конечно, он историк, он ничего не скрывает: он объясняет. А то, что случилось, — намного интереснее, так я думаю.
* * *
43-й год (1843-й, конечно). Декабрь. Зима началась рано, но как бы нехотя. Каждый день дует ветер; облака собираются в дуге между Арша, Жоконом, Плени, Пастушьей горой и Авером. Тучи уже и в октябре достаточно черные, а к ним добавились ноябрьские, еще более черные, а потом — декабрьские, совсем черные и очень тяжелые. Все они скапливаются над нами и стоят неподвижно. Свет днем сперва зеленоватый, потом серый, потом черный, но какой-то особенный — черный с темно-красными отблесками. Неделю назад еще виден был пик Авер, что у Жокона, опушка ельника, поляна, заросшая горечавкой, небольшая часть пастбищ, спускающихся с гор. Потом тучи затянули все это. Вот так. Правда, тогда еще видны были Префлёри и стволы деревьев, оставшихся от лесоповала, потом тучи опустились еще ниже и закрыли Префлёри и стволы деревьев. Тучи остановились на уровне дороги, поднимающейся к перевалу. Видны были клены и старый дилижанс, отходящий на Сен-Морис в 12:15. Снег еще не выпал, и все, кому надо было, спешили пройти по перевалу в ту или в другую сторону. Еще хорошо был виден постоялый двор (сейчас этот дом называют «Тексако», из-за развешенной на стенах рекламы смазочного масла для машин), так что конные обозы спешили перебраться за перевал, пока проезд был еще свободен. Видно было, как спускается с перевала кабриолет фирмы, торгующей метизами в Гренобле. А когда он возвращался, то это означало, что скоро перевал занесет снегом. Потом тучи затянули дорогу, «Тексако» и все вокруг. Только внизу, на лугах Бернара, виднелись живые изгороди.
Сегодня утром еще видны все два десятка домов деревни, с густой пурпурной полосой под навесом, но уже не виден шпиль колокольни, его словно под корень срезала туча, как раз над башенками, указывающими юг, север, восток и запад.
И сразу после этого начинается снегопад. К полудню все становится белым, все покрывается снегом, и тогда уже никого и ничего не видно, звуки — и те пропадают. Тяжелый дым из труб окутывает крыши домов. Снежинки, как белые бабочки, порхают на фоне темных окон, и из-за них дым вдруг каясется каким — то розовым, словно свежая кровь, а в каком-нибудь из окон появляется рука, словно похожая на качающийся метроном. Она стирает иней со стекла, потом из-за нее выглядывает усталое, жестокое лицо.
И у всех этих лиц, даже у женских и детских, словно бороды приделаны, так падает тень изнутри комнат, откуда они проступают. Все они похожи на жрецов какого-нибудь пернатого змея, даже католический кюре, над окном у которого написано: «Ora pro nobis».
Так проходит час, два, три часа; снег все падает. В четыре часа темнеет — зажигают очаг; снег все идет. Пять часов. Шесть и семь — зажигают лампы, а снег все идет и идет. За окном ничего не видно: ни земли, ни неба, ни деревни, ни гор, только падающая масса белой холодной пыли, пыли, наверное, оставшейся от какого-то исчезнувшего мира. И даже комната, где догорел огонь в очаге, перестает быть обитаемой. Остается только одно место, где можно жить и думать о мире, в котором существуют цвета, вроде тех, что на павлиньих перьях, это место — постель. И то, если хорошо укрыться, да не одному, а вдвоем, втроем, вчетвером, а то и впятером. До чего же они уютны, тела человеческие. Кто тут будет вспоминать о Шишильяне?
И тем не менее вспомнили.
День, два, три, двадцать дней снегопада, примерно до 16 декабря. Точная дата неизвестна, но в один из этих трех дней — 15-го, 16-го или 17-го — вечером пропала Мари Шазотт.
— Как пропала?
— Так, пропала.
— Что значит «пропала»?
— С трех часов дня ее никто не видел. Сперва подумали, что пошла к куме. Нет. И дома ее тоже нет. Искали, искали и нигде не нашли.
На следующий день, хотя снег и не утихает, а идет так же густо, все видят, как Берг на снегоступах двинулся вниз, в направлении Адрэ, к протестантскому кладбищу. Кто-то еще пошел наверх, в сторону Плени, по козьим тропам. А еще кто-то — в сторону Сен — Мориса, в долину, чтобы поискать там, а потом отправиться предупредить жандармерию.
Да, пропала Мари Шазотт. Вышла из дому около трех часов дня, накинув на голову только платок. Еще мать крикнула ей, чтобы она сабо надела, а то выскочила в домашних тапочках, сказала: только до сарая за амбаром. Зашла за угол и пропала.
Кто-то говорит… в общем, тысяча всяких историй, конечное дело. А снег идет и идет, весь декабрь.
Этой Мари Шазотт двадцать лет было или двадцать два года. Даже трудно сказать, какая она была, тут ведь говорят «красивая» про толстую женщину. Красивая? Значит, должны быть толстые ноги, толстые ляжки, пышная грудь, да чтобы быстро шевелилась, вот тогда считается красивой. А если нет — значит нестоящее дело. Скажут, может, «недурна» или «симпатичная», но никогда не скажут: «красивая».
У тещи Рауля, кстати, фамилия тоже Шазотт. Мало того, она даже является дочерью тетки той самой Мари, что жила в 1843 году, — тетки, которая была моложе своей племянницы, здесь такое часто бывает. Так вот она, жена Рауля, носит фамилию Шазотт. И малыш Марсель Пюнье по линии матери из того же рода, поскольку она была сестрой тещи Рауля. А семейство Дюмон тоже приходится им родней, приходится родней через дочь двоюродного брата тещи Рауля.
Так вот Дюмоны (правда, о мужчинах судят не так, как судят о женщинах), так вот Дюмоны — все очень красивые мужчины, тут ничего не скажешь. С этим все согласятся и в Сен-Морисе, и в Авере, и в Пребуа. Статные, голубоглазые, ласковые, вежливые, с красивой походкой — всё при них. У них красивые носы; у малыша Марселя точно такой же нос, и светлые глаза тоже такие же. Дюмоны, Пюнье и жена Рауля — темноволосые, такие темноволосые, какие здесь редко встречаются, волосы у них очень черные и блестящие. А вот у жены Рауля, несмотря на то что она всегда работала на воздухе, в поле, кожа осталась белой. В общем, она не так загорела, как другие. Руки выше локтя, как это видно из — под рукавов кофточки, у нее белые-белые, как молоко. У Дюмонов лица у всех бледные, хотя на здоровье никто из них не жалуется, не красные и не загорелые, а бледные. Вот такая, наверное, была и Мари Шазотт: маленькая брюнеточка с голубыми глазами, с кожей белой, как молоко, складненькая и живая, как жена Рауля.
Все эти люди, о которых мы говорим и которые и по сей день живут, известны своим благонравием и даже, может быть, несколько чрезмерной строгостью. Так же вот и в 43-м году никому в голову не приходила мысль, что Мари Шазотт могла удрать. Это слово сказал жандарм, но на то он и жандарм, к тому же жандарм из долины Грезиводан. Да и с кем удрать? Все парни из деревни оставались на месте. И не гуляла она ни с кем. К тому же когда мать кликнула ей, чтобы она надела сабо, Мари все-таки выскочила в одних домашних тапочках. Так что удрать она могла разве что с ангелом!
Об ангеле разговора не было, но зато прозвучало немало других предположений. Когда вернулись ни с чем Берг и двое других браконьеров, отлично знавшие все места, где можно было спрятаться, заговорили о проделках дьявола. Причем говорили так упорно, что в следующее же воскресенье кюре специально по этому поводу прочел проповедь. Услышали ее очень немногие — несколько любопытных старушек, а остальные сидели по домам. Кюре сказал, что дьявол был ангелом, черным, но все же ангелом. То есть, если бы он хотел заняться Мари Шазотт, он устроил бы все иначе. Среди его клиентов немало женщин, и они никуда не пропадают, даже наоборот. Если бы дьявол захотел заняться ею, он не украл бы Мари Шазотт. Он бы ее…
В этот момент с улицы послышались два выстрела из ружья и два крика. Снег падал не меньше, чем в предыдущие дни, и не только не перестал падать ради воскресенья, а, наоборот, даже усилился, и в десять часов утра было так темно, словно наступило время вечерни.
— Не двигайтесь, — сказал кюре своим десяти или двенадцати застывшим от страха старушкам.
Он спустился с кафедры и пошел открывать дверь. Был он статным, красивым мужчиной и своей фигурой заслонил весь дверной проем. На площади перед Церковью никого не было.
— Что случилось? — крикнул кюре громко, чтобы его услышали те, кого он смутно различал сквозь снег в окнах придорожного кафе.
Те вышли и сказали, что ничего не знают.
— Тогда идите сюда, — сказал кюре. — Видите, я в облачении и в обуви с пряжкой. Здесь женщины, их надо будет развести по домам.
Провожая тетку Мартуну, Берг и двое других мужчин, попивавших перед этим аперитив в придорожном кафе, повстречали группу растерянных людей, в центре которой стоял тот, кто стрелял. Это был некий Раванель, и фамилия его сохранилась (как, впрочем, и фамилии всех тех, о ком я говорю), потому что он чуть было не оказался замешанным в драму и по иным причинам, а не только из-за выстрела из ружья, заставившего кюре резко оборвать проповедь о дьяволе. Кюре был прав. Речь шла не о дьяволе. Дело было гораздо хуже.
Мартуна живет недалеко от Пелузеров. Как раз на углу, где булочная Фаго, где начинается улица, потом переходящая в дорогу, а затем в тропу, которая поднимается к Черному лесу. Местечко чудное, дома, дома и между домами — садики с цветниками и огороды. Дело было зимой, да еще такой суровой, снег шел без перерыва больше месяца и, конечно, занес все сады и огороды. Так что дома стояли, словно расставленные кем-то, на расстоянии двадцати метров друг от друга в ровной и белой степи.
Там-то, перед своим собственным амбаром, этот недотепа Раванель и стоял, дрожа от злости, с двумя своими ближайшими соседями. Когда Берг благоразумно забрал у него ружье, в котором еще оставался один патрон, Раванель рассказал:
— Я сказал малышу (малыш этот был Жорж Раванель, ему тогда было лет двадцать и, если судить по тому Раванелю, что водит сейчас грузовики и приходится внуком тому самому Жоржу, то малыш этот был не таким уж и маленьким), так вот, я сказал малышу: «Пойди, посмотри, чего там поросята делают». Оттуда слышался какой-то ненормальный визг (сейчас поймете почему). Он вышел. Завернул за угол, вон там, три метра отсюда. Хорошо еще, что я остался перед дверью и посмотрел в окошко. Вижу: он заходит за угол. Только завернул, слышу — кричит. Выхожу. Заворачиваю за угол. Вижу: он лежит на земле. Секунды через две заметил, что там, наверху, между домом Ришо и домом Пелу, какой-то человек пробежал к амбару Гари. Я скорей заскочил домой, схватил ружье и в него стрельнул, когда он поднимался к часовенке. А оттуда он спустился к дороге, что проходит в ложбине.
Жорж был уже на ногах, его ввели в дом и дали выпить ему немного настойки иссопа, чтобы он пришел в себя. И вот что он рассказал:
— Завернул я за угол. И ничего не увидел. Ничегошеньки. На голову мне кто-то набросил большой платок, взвалил меня на плечо, как мешок, и понес. А я, когда набрасывали на меня платок, то пригнул голову и рот-то у меня остался свободным, а платок хоть и душил, но не совсем, и когда меня понесли, то я смог крикнуть. Меня скинули на снег, и я еще услышал, как отец сказал: «О, мать честна!» И тут он выстрелил из ружья.
До свинарника он так и не дошел, а там какой-то шум продолжался. Мы пошли посмотреть и увидели что-то неслыханное: одна свинья была вся в крови. Если бы кто-то попытался зарезать ее, было бы понятно. Так нет! Ее всю искололи, ран сотню нанесли, если не больше, наверное, острым, как бритва, ножом. И раны-то большей частью не простые, а какими-то зигзагами: то змейкой, то кривулями, полукружьями по всей коже и глубокие-глубокие. Кто-то явно удовольствие получал.
Вот этого понять невозможно! Ну, совсем непонятно и так противно! Раванель оттирал свинью снегом, а на коже ее тут же опять появлялись пятна крови, точь-в-точь буквы какого-то непонятного языка. Все это выглядело до того зловещим, просто даже угрожающим, что Берг, уж на что спокойный и рассудительный человек, сказал: «Ну, сволочь, попадешься ты мне». И пошел за снегоступами и ружьем.
Но одно дело хочется, а другое — что из этого получается!.. Берг вернулся ни с чем, когда уже стемнело. Он нашел следы, причем кровавые, и шел по ним. Человек был ранен. Капли крови на снегу были свежие, очень отчетливые. Ранен тот человек был скорее всего в руку, потому что следы были нормальные, шел он быстро и след оставлял неглубокий. Кстати, и времени Берг не потерял, шел не больше, чем с полуторачасовым опозданием. И он был лучшим следопытом, ходил по снегу быстрее всех в деревне; на ногах у него были снегоступы, и его подгоняла злость, но перед ним были только ровные следы и капли крови на свежем снегу — ничего другого он так и не увидел. След вел напрямик к темному лесу и упирался в отвесный склон горы Жокон, где и пропадал в низких облаках. Да, в облаках. Тут нет никакой загадки или намека, что, дескать, речь идет о каком-то божестве, или каком-то полубоге, или четвертьбоге. Берг — человек прямой. Если он говорит, что след пропал в облаках, значит он точно исчез в облаках, затянувших склоны гор. Не забудьте, что погода не исправилась и что, пока я вам рассказываю, туча по-прежнему отрезает стрелу колокольни на уровне букв флюгера.
И тут уже разговоры пошли не только о Мари Шазотт, дескать, ах, Мари Шазотт, Мари Шазотт! Тут ведь оказалось, что и Раванель Жорж чудом избежал опасности (едва не погиб), что и любой другой мог попасть в беду, и вы, и я в том числе! Любой житель деревни, которую начал окутывать черный воскресный вечер. Те, у кого нет ружья (а есть в деревне и вдовьи семьи) провели очень плохую ночь. Впрочем, те семьи, где не осталось мужчин и не было слишком малых детей, пошли ночевать в те дома, где были крепкие мужчины и оружие. Особенно — в тот конец деревни, где живут Пелузеры.
Берг дежурил и всю ночь ходил от дома к дому. Его так усердно угостили после его погони подогретым вином, что он набрался, как дай бог каждому. Ходил без конца туда-сюда этаким командиром, стучал в двери, наводил страх на женщин и детей, и даже на мужчин, которые с наступлением темноты все сидели у себя тише воды, ниже травы, прислушиваясь к малейшему шороху. Раз двадцать, по крайней мере, ему чуть было не врезали в лицо дробью из ружья. Наконец, набравшись до полного отупения, он закончил ночь у Раванеля, который к тому времени заколол свинью, чтобы та не мучилась, и занимался разделкой ее на колбасы и окорока, стараясь забыться немного, а главное — стараясь, чтобы ничто не пропало.
Берга можно понять: он холостяк, по характеру немного мрачен, не умеет сдерживать себя ни в выпивке, ни в чем другом. Но вот когда он был у Раванеля, он стал то ли от усталости, то ли от возбуждения, а может, от алкоголя, говорить странные вещи, например, что «кровь, кровь на снегу, на очень чистом снегу, красное на белом — это было очень красиво». (Тут я думаю о загипнотизированном, усыпленном Персевале. Опиум? Табак? Что? Аспирин в век горожанина-авиатора, загипнотизированного кровью диких гусей на снегу?)
Это небольшое отклонение Берга, очень скоро вновь ставшего невозмутимым и спокойным мужчиной с трубочкой, не лишенным даже ленцы, заметили не сразу. Просто все, кто был там в ту пору, это заметили инстинктивно, а уже потом вспомнили. Во всяком случае, всем стало ясно, все поняли на следующий же день, что в ту суровую зиму с обильными снегопадами все жители подвергались равной опасности.
Уже говорили не только о Мари Шазотт, как я уже сказал, был еще Раванель Жорж, был платок, наброшенный ему на лицо, были следы на снегу до самого подъема на Жокон, где они терялись за облаками. Был еще этот… ну, как его, бродяга, в то самое воскресенье, около десяти часов утра, который искал (а правда, чего он искал?) и, в конце концов, очень нехорошо поступил со свиньей Раванеля, а потом попытался утащить Жоржа.
Сомнения-то уже не было никакого! Мари Шазотт утащили, заткнув рот кляпом. Задушить Жоржа оказалось труднее, все в этом убедились (хотя чуть было не утащили и его), а вот Мари — проще простого: легонькая, как пушинка, в вихре вальса носилась, как пылинка! Небось унести ее не стоило ничего.
Когда хмель прошел, Берг вернулся к себе. Остальным, вдовам и не вдовам, тоже надо было возвращаться домой. Один вечер — ладно, но не переселяться же к людям навсегда. Если будет страшно, положат камень в карман. А страшно было.
Временами снегопад прекращается. Облако поднимается вверх и закрывает колокольню не до флюгера, как раньше, а только до шпиля, словно разрываясь о его острие. Этого уже достаточно. Виден белый пустынный пейзаж, он тянется до необыкновенно черных опушек леса, а в нем может скрываться кто угодно и происходить может тоже что угодно. Сгущаются вечерние сумерки. Поднимается легкий ветерок, которого даже не слышно. Слышно только, как будто рукой кто-то проводит по ставням, или по двери, или по стене; словно жалобно кто-то стонет или, наоборот, весело посвистывает. И на чердаке что-то вдруг стукает. Все прислушиваются. Отец вынимает трубку изо рта. Мать застывает неподвижно со щепоткой соли над супом. Они переглядываются. Смотрят на нас. Отец вздыхает, выпуская тоненькую струйку дыма. Нужно хотя бы, чтобы стук повторился. Все насторожились, хотят понять — опасный стук или нет. Но тишина полная. Не слышно ничего. Непонятно. Все может быть. Трудно сказать. Струйка дыма, вышедшая изо рта отца, вытягивается все длиннее. Мать начинает бросать соль в котел, и слышно, как падают крупинки: ток, ток, ток…
На столе лежит ружье. Мать подносит руку к чугуну и бросает в суп всю щепотку соли. Пять часов вечера. Рассветет, да и то еле-еле, только через семнадцать часов. За окном какое-то гибкое движение — Обычно так падает с веток ивы тяжелая лапа снега. Что это?.. А может?.. Да? Нет? — Нет. Опять нежно падает снег, слышен только шорох по крыше, словно мягкие тихие шаги по соломе.
В стойле Бижу топает ногой. Да! Надо задать корм скотине. Оставить жену одну. Пойти одному вниз, в хлев. Вот если бы младшему было двадцать лет… да что толку? Вон Жоржу двадцать. Вот если бы иметь трех-четырех здоровых парней. Отец говорит: «Пойду, покормлю коня». Конь внизу. Спуск — по внутренней лестнице.
В эту пору все лошади стучат ногой в конюшнях. Мать зажигает фонарь. В соседнем доме — то же самое делает хозяйка того дома, дальше — хозяйка следующего дома. Во всех домах медленно топчутся люди: пора кормить скотину. Слышатся одни и те же звуки, успокаивающие голоса, шум шагов, позвякивание ручек-колец керосиновых ламп.
Здесь, как и по всей улице, как на всех улочках деревни, как во всех отдельно стоящих домах Пелузеров, огромные конюшни со сводчатыми потолками расположены в полуподвалах и почти примыкают друг к другу не только своими фундаментами и капитальными стенами, но и замковыми камнями сводов, нисколько не заботясь о том, кто их хозяин: Жак, Пьер, Поль… И по всей деревне в подвалах слышны одновременно позвякивания уздечек, стуки о перегородки, прямо через стены доносятся блеяние, звон цепей, ведер, вил, корыт, голоса хозяев, нежно окликающих скотину: Бижу, Каваль, Рыжуха, Серко, причем все эти звуки сливаются в общечеловеческую музыку полуподвалов, усиленную акустикой этих сводчатых пещер. Пещер, ставших когда-то первой броней человека, а в этот вечер подтвердивших свою способность быть прекрасной защитой. Да, хорошо бы иметь много — много детей, детей мужского пола и взрослых мужиков, и хорошо было бы жить в этих пещерах, в этих сводчатых хлевах, где чувствуешь себя так спокойно, - не так, как в тех прямоугольных зданиях с прямыми стенами и потолками, в зданиях, похожих на картонные коробки, несерьезных и непрочных и тогда, в 1843 году, и в нынешнее время: ведь снаружи бродят опасности, вечные опасности, существующие во все времена, а не только в наше время. Как хорошо жить под сводчатым потолком, в тепле от скотины, в запахе скотины, слушая шум жующих сено челюстей, видя большие, красивые животы спокойных животных. Именно тут осознаешь чувство семьи и человечности. И отец отставляет ружье в сторону, к перегородке, а мать гладит по голове твою младшую сестренку.
(И тем хуже для тех, кто этого не понимает и говорит: «Это грубые крестьяне, навозные жуки». Жизнь заставит их когда-нибудь понять. Хватает в ней и убийц с платками-удавками, и любителей вырезать кровавые иероглифы, хватает и зим, подобных той зиме 1843 года; хватает и времен года, и месяцев, и дней, и часов и минут, секунд и даже сотых долей секунды для действия от которого они не то что в «навозных жуков», а просто в навоз превратятся. Тогда они поймут без всяких чертежей, что никогда еще люди не изобретали и никогда не изобретут ничего более гениального, чем сводчатое помещение. В то время, когда вокруг пустоты и одиночества бродит бродяга — бродяга бродит вокруг пустоты и одиночества.)
Но приходилось подниматься из полуподвалов наверх. Хотя книгоноша и заходит сюда не чаще, чем раз в год, он оставляет достаточно экземпляров «Сельских бдений» по два лиарда за штуку, чтобы здесь знали и о Гарибальди, и об испанском генерале Хуане Приме, и о требованиях свободы. Не знать, в каком веке они живут, люди уже нигде не могут. Приходится предпочитать страх сводчатому потолку.
И опять люди держали ружье под рукой, клали его на стол, рядом с тарелкой похлебки. Ставни закрыты, двери забаррикадированы. Тьма ночная остается снаружи, ее не видно. Слышно только, что опять пошел снег. Все стараются громко не вздыхать, чтобы не пропустить никакого постороннего шума с улицы, а если он послышится, лучше понять, откуда он доносится и что означает: сломалась ли ветка под тяжестью снега, бумажка ли, приклеенная к разбитому стеклу, затрепыхалась, забарабанила, щеколда ли постукивает, подпорка кряхтит, или крысы бегают.
Еще пятнадцать часов ожидания. Остается лишь ждать.
Конечно, ждать… ждать… когда придет весна. А вот и пришла весна. Вы ведь знаете, какая здесь весна: серое время года, порыжелые пастбища, снег на деревьях, как яичная скорлупа, на солнце припекает, порывы ветра, резкие, как прикосновение железа, грязь и вода повсюду, бегут ручьи, а дороги блестят, как след от улитки. Дни становятся длиннее (светло уже до шести часов вечера), а днем, чуть подует с севера, слышится шум: это из школы в Сен-Морисе выпускают учеников, они шумно радуются золотистому солнечному свету и воздуху, пенящемуся, как сельтерская вода.
Давно уже виден шпиль колокольни, открылись луга возле Бернара, лужайки, Плени и Жокон. Все опять увидели, что тропки, хотя и поднимаются на Жокон круто вверх, но уже не уходят в облака: небо чистое. Красивое небо, цвета генцианы, с каждым днем оно все чище, все ярче, охватывает все больше деревень, все больше склонов гор, складок и вершин хребтов. И даже, быть может, слишком много света…
Мари Шазотт! О ней, конечно, думали, но что толку. Думали о ней, потому что ее так и не нашли. Да и в самом деле, если бы нашли, то похоронили бы на кладбище, хорошенько подумали бы о ней целый день, помянули бы, как положено, а потом жизнь потекла бы своим чередом. Напрасно Берг рыскал, выискивал, вынюхивал, как только наступили теплые дни: так он ничего не нашел. Ложбины, и близкие и дальние, хранили запах трав, прошлогоднего сена и подмаренника.
Надо было совершить траурную процедуру. Хотя бы для матери Шазотт, которая не знала, что думать и как жить дальше. Куда носить покойнице цветы? Что делать? И надо ли что-то делать? Где же она все — таки, ее дочь? Надо сказать, что если бы она уехала к кузинам или еще куда, или, например, пошла бы в прислуги к кому-нибудь в Гренобле, это было бы почти то же самое! Именно это можно было подумать, глядя на мать, ходившую этой весной с постоянно растерянным лицом и устало повисшими руками, в напрасном ожидании. Эта весна не собиралась ничего возвращать. (Обычно, когда кто-то пропадал среди зимы, она все возвращала.) Тут уж было не до шуток, огромное, небывалое горе грызло сердце матери, и утешить ее не могло уже ничто.
Пора теперь рассказать и о Фредерике. О деде. Назовем его Фредериком II, потому что лесопилка стала работать при Фредерике I, а потом продолжала работать при Фредерике II, при Фредерике III и при нынешнем Фредерике IV. Поговорим о Фредерике II.
Пользуясь весенней погодой, он очистил водоподводящий канал, от которого уже плохо пахло. Отошел метров на сто выше по течению от рабочего колеса, отвел канал прямо в реку и с помощью двух пьемонтцев стал усердно срезать с боков траву и соскребать черную грязь, от которой вонь шла, как от тысячи чертей. Но он не был неженкой и на запах не обращал внимания.
— Ты нас всех обвонял, — сказал ему Берг.
— Ну, а что ты хочешь! — отвечал Фредерик II. — Не чистить ведь нельзя.
И странно так получилось, что Фредерик II и Берг тут сказали (Кто из них первым сказал? Или оба вместе сказали?): «Так это же удобрение. Надо положить его под бук, ему это пойдет на пользу».
О буке они подумали, потому что он рос (и теперь растет) рядом с подводящим каналом. Он уже и тогда был самым красивым буком, какой только можно увидеть.
По весне он был, как бог! Почки густого золотистого цвета, словно шкура какого-нибудь огромного доисторического быка, покрывают всю его крону.
И они все вчетвером перебросали вонючую грязь к подножью бука: оба пьемонтца, Фредерик II и знакомый уже нам Берг, которому тоже дали лопату. О пьемонтцах больше речи не будет, а вот о Фредерике II и Берге мы еще поговорим. Происходило все это весной 1844 года, в один из первых теплых дней, когда долины пахнут свежей травой, после той зимы 43 года, когда пропала Мари Шазотт. Первой пропала.
Летом были грозы, да еще какие! Во время одной, особенно сильной, особенно яростной, необычный напор воды в очищенном канале чуть было не снес рабочее колесо лесопилки. Поэтому через несколько дней, когда опять послышались раскаты грома и первые капли дождя зазвенели, как рассыпанные монеты, Фредерик II побежал вверх по течению, чтобы отвести воду в сбросной канал. Сделал он быстро все, что было нужно, и побежал назад под ураганным ветром и вспышками молний в наступивших потемках, но вдруг остановился, увидев какого-то человека, укрывшегося под буком. Он окликнул его, позвал к себе, но тот, похоже, ничего не слышал. А ведь любой ребенок знает, что нельзя в грозу прятаться под деревом, да еще под таким большим, да еще в такую ужасную грозу. Из-под навеса своего сарая Фредерик II видел, как тот ненормальный стоял, спокойно прижавшись спиной к стволу бука, словно отдыхал там, испытывая необыкновенное удовлетворение, словно сидел и сушил гетры перед огнем на кухне. Подумал: «Вот чудак несчастный, откуда он здесь взялся?» В первую очередь мелькнула мысль о заезжающих в начале лета коммивояжерах, которые предлагают сельскохозяйственные орудия, рекламируют разные машины. А гроза все усиливалась и усиливалась, вода хлестала по крышам и стенам, и, когда молния ударила пару раз совсем близко, Фредерик II решил: «Нехорошо все-таки оставлять этого типа под деревом, он что же, не видит, что рядом есть крыша?» Сложил мешок в виде капюшона, накинул на голову и побежал к дереву, взял мужика за руку и сказал: «Пошли, эмфизема ты этакая». Потянул его за собой, и весьма своевременно. Тут раздался такой раскат грома, что в ушах у обоих зазвенело; настолько сильный, что они не остались под навесом, а вошли в кладовку.
— Ну что? Видите! — сказал Фредерик II.
— Да уж, — отвечал незнакомец.
— И откуда вы? — спросил Фредерик II.
— Из Шишильяна, — ответил тот.
Ну а что Шишильян, что Марсель, что Ватикан — тут ведь все одно. Да и не велика важность, этот Шишильян: люди там, видимо, глупее, чем здесь, во всяком случае — в большинстве своем. Фредерик II так подумал и удовлетворился таким объяснением, поскольку теперь было понятно, почему этот тип добровольно остался под буком. Ведь он отлично слышал, как его позвали в первый же раз, он это честно признал. К тому же он прекрасно видел, что в десяти метрах позади него находится навес лесопилки, ведь он был не слепой. Но бывают на свете люди застенчивые, и даже не застенчивые, а просто глупые. Фредерик II подумал, что этот мужик был явно глуп.
Вам не приходилось видеть портрет Фредерика II? У Фредерика IV есть один его портрет. По этому портрету сразу видно, что это человек, верящий в глупость других людей.
Он не стал спрашивать гостя о Шишильяне. Он думал только об одном: выдержит ли плотина напор воды. Да и не разглядывал его особенно. А ведь пробыли они вместе около часа, присев на корточки рядышком в крохотном чуланчике, таком крохотном, что их руки соприкасались.
После этой грозы наступили у нас чудные дни, установилась отличная погода. Я говорю: у нас, хотя дело было в 1843–1844 годах. Но я стольких людей расспрашивал и выпытывал о тех годах, что в конце концов мне стало казаться, что я и сам тоже жил в ту пору. И я очень живо представил себе, что тогда была щедрая осень, хорошо нам всем известная, и вам и мне.
Я думаю, вы знаете, где начинается осень? Она начинается ровно в 235 шагах от дерева, помеченного номером М312, я сам отсчитал столько шагов.
Вы бывали на Крестовом перевале? Видели там тропу, которая ведет к озеру Лозон? Так вот, там, где она идет по лугу, на котором пасутся серны, склон горы очень крут; надо пройти мимо двух довольно неприятных осыпей, и сразу за ними — отвесный склон горы Ферран. Вокруг — типичный теллурический пейзаж: гнейсы, порфиры, песчаники, серпентениты, выветренные сланцы. Горизонт заслоняют горы и скалы, пики острые, как клыки, как резцы, — одним словом, как собачьи, львиные, тигриные, акульи зубы. Налево — тропа, ведущая к горе Ферран, где занимаются альпинизмом и любуются панорамой. Направо — еле заметные следы к россыпям породы, покрытым диатомеями. Если пойти по этим следам, которые огибают выступ, то из впадины, похожей на фаянсовую миску, открывается вид на просеку. На северной опушке там сотни две деревьев, и среди них ясень, а на нем суриком написано: М312. В двухстах тридцати пяти шагах от него, у самого края впадины — другой ясень. Вот именно с него и начинается осень.
Происходит это мгновенно, словно вчера вечером был отдан кем-то приказ, пока вы стояли спиной к окну и готовили ужин. А сегодня просыпаетесь и видите мой ясень, но уже с хохолком на верхушке, желтым, как перья попугая. Пока пьете утренний кофе и убираете постель, хохолок превращается в разноцветную шапку из листьев редкой окраски: розовые, серые, оранжевые. Потом появляются полосы такого же цвета, они превращаются в кожаное снаряжение, в эполеты, портупеи, аксельбанты, словно ясень надел на себя разноцветную броню или амуницию от вершины до самого низа. И вот он уже в полном облачении из рыцарских доспехов и украшений, слышится их шорох и легкий шум от соприкосновения друг с другом.
Дерево номер М312 не хуже других. Оно украшает себя пелеринами, сутанами медового цвета, юбками, как у епископов, епитрахилями с вышитыми на них гербами и карточными королями. Лиственницы покрываются капюшонами и плащами из меха сурков, клены обуваются в красные краги, натягивают алые штаны, подобно солдатам-зуавам, закутываются в плащи кровавого цвета, как у палачей, на головы надевают берет, какой носили в роду Борджа. Пока разглядываешь деревья, луга принимают голубоватый отблеск безвременника. А по возвращении вы, поднявшись на Крестовый перевал, любуетесь первым осенним закатом, ярко раскрашивающим стены домов. Потом внизу видите огромную раковину из трав, которая была, когда проходили здесь пару дней тому назад, просто стогом сена, а теперь превратилась в бронзовую вазу, вокруг которой выстроились индейцы-ацтеки, месильщики кровавого цвета, золотобои, шахтеры-добытчики охры, папы, кардиналы, епископы, лесные рыцари. Здесь смешались крашенные тиары, шапки, каски, вышитые пелерины из осенних листьев ясеней, буков, кленов, вязов, ирги, дубов, берез, осин, яворов, из хвои лиственниц и елей, чей темно-зеленый цвет подчеркивает все остальные краски.
Отныне небосвод каждый вечер будет окрашиваться этими красками, помогающими переживать суровость природы и освобождающими от угрызений совести тех, кто совершает жертвоприношения. Пурпурный свет с запада окрашивает скалы в кровавые тона, и это, несомненно, им идет больше, чем обычный атласно-розовый или лазурный цвет, каким освещают их летние вечера в час, когда Венера особенно нежна и светится, как зернышко ячменя. Тут есть разные цвета: бледно-зеленый, лиловый, желтый, а порой даже мазки алебастра там, где освещение оказывается наиболее интенсивным, а на других сторонах небосклона сгущается ночная темнота, не ровная, не гладкая, а подозрительная, вся из скоплений каких-то конструкций, пугающих, как созерцание фресок в горных монастырях. В темноте деревья непрерывно издают шуршание сухих листьев.
Тот бук, что стоит возле лесопилки, тогда еще не был, конечно, таким большим, как сейчас. Но в молодости своей (во всяком случае по сравнению с нынешним его возрастом), а точнее в подростковом возрасте, он был на сто локтей выше каждого из всех других деревьев, и даже выше всех других деревьев, вместе взятых. Листва его была плотной, густой и выглядела тяжелой, как камень, а ствол и главные несущие ветви, укрытые от глаз листвой, были на редкость великолепны в своей могучей силе. Тучи мошек и стаи птиц жили в нем в ту пору и было их больше, чем листьев на ветвях. В нем кишели рои мух, то и дело вылетали из него пчелы, осы, слепни. Он словно жонглировал разноцветными шариками синиц, зябликов, корольков, малиновок и зуйков, в нем распевали соловьи, гнездились вороны, соколы и вороны. Вокруг него вились нескончаемые хороводы птиц, бабочек и мушек, пробиваясь сквозь которые, словно сквозь водяные брызги, лучи солнца распадались на все цвета радуги. А осенью он со своими длинными багровыми корнями, тысячью переплетенных, как змеи, сучьев, сотнями тысяч веточек с золотыми листьями, играющими с пушистыми шариками птичек и хрустальными блестками паутины, поистине был похож не на дерево, а на чудо природы. Леса, рассевшиеся на ступенях гор, молча разглядывали его. А он только потрескивал, словно костер, танцевал, как могут танцевать только сверхъестественные существа, делясь на множество себе подобных, танцующих вокруг него самого, неподвижного. Он колыхался, обвиваясь вокруг самого себя, всеми золотисто-коричневыми трепещущими ветвями, как шарфами, до того опьяненный своим телом, что трудно было понять, что же его удерживает на месте: цепкость могучих корней или чудодейственная скорость вращения, на которой держатся сверхъестественные существа. Сидя, как в амфитеатре, на ступенях гор, леса в парадных облачениях не смели пошевелиться. Виртуозность красоты гипнотизировала, как взгляд змеи или как кровь диких гусей на снегу. И вдоль дорог, ведущих к нему, стояли строем, как во время процессии, клены в окровавленных одеяниях мясников.
Все это не помешало наступить зиме 1844 года, даже, скорее, наоборот. А Берг исчез. Заметили это не сразу. Он был холостяком, и потому никто не мог сказать точно, в какой момент он пропал. До этого он браконьерствовал, охотился на самых невероятных зверей, любил природу и поэтому отсутствовал, бывало, неделями. Но в зиму 1844 года о нем забеспокоились через пять или шесть дней.
В его доме все осталось так, что можно было опасаться худшего. Во-первых, дверь не была заперта, снегоступы и ружье были на месте, его полушубок, подбитый овчиной, висел на гвозде. И самым тревожным признаком было вот что: на столе стояла тарелка с остатками кроличьего рагу (а в тарелке — следы от кусков хлеба, которыми он собирал соус), рядом — недопитый стакан вина. По-видимому, он ел, когда кто — то позвал или что-то позвало его на улицу; он тут же вышел, возможно, даже не прожевав кусок пищи. Его шапка лежала на кровати.
На этот раз всеобщий страх охватил деревню, превратившуюся сразу в испуганное стадо овец. Небо было совсем низким, шел снег, делавший день еще более темным, синие тучи отрезали шпиль колокольни, женщины плакали, дети кричали, двери хлопали, и никто не знал, что надо делать, какое надо принять решение. Все говорили о жандармерии, но идти туда никто не хотел. Чтобы вызвать жандармов, надо было пройти в одиночку двенадцать километров под черным небом. К тому же всех смущало то, что на этот раз речь шла именно о Берге, который был взрослым, сильным и смелым мужчиной, самым ловким; теперь уже никто не чувствовал себя достаточно сильным, достаточно смелым и достаточно ловким. Наконец, решили, что пойдут вместе четверо мужчин.
От жилища Берга стали шарахаться, как от дома прокаженного. Дверь его была открыта настежь. Хотя шел снег, никто не осмелился закрыть ее, а небо казалось темнее, чем внутренности неосвещенного дома.
Когда четверо посланцев собрались идти в королевскую жандармерию в Клелле, все население деревни пришло и молча топталось вокруг них, а они, серьезные и бледные, поправляли ружья на ремне и подпоясывали полушубки поясами с патронташами, полными патронов на кабана, и еще у них был целый арсенал острых ножей без ножен и даже маленький топор. В конце концов надели они на ноги снегоступы и очень медленно пошли вверх по склону, за которым проходит большая дорога. Там они и скрылись. Деревне оставалось забаррикадироваться.
Нетрудно представить, что рассказали эти четверо в жандармерии Клелля, пройдя по безлюдной дороге на закате дня много километров. Несмотря на ненастную погоду и плохое состояние дорог, затруднявшие всякого рода перемещения, произошел, должно быть, довольно скорый обмен эстафетами между казармами Мана и Монетье, так как уже в одиннадцать часов ночи в деревню прибыли четверо эмиссаров, шестеро конных жандармов с оружием и багажом и их капитан по фамилии Ланглуа.
Все они были старыми служаками и принялись ворчать и действовать с такой уверенностью, что все селяне сразу почувствовали облегчение. Своих лошадок они поставили временно в конюшни крестьян и разбили бивуак на площади в середине деревни, с будкой, сколоченной из досок, часовыми, патрулями, паролями и прочее. Ланглуа достал из ранца длиннющую глиняную трубку и, усевшись у окна в придорожном кафе, стал руководить операцией.
Длинная глиняная трубка, теплые шлепанцы и меховая шапка, дабы защитить от холода уши, не мешали Ланглуа быть отпетым ловкачом. Он немного прояснил, что произошло: картина получилась мрачная, но появилась какая-то ясность.
Стол, за которым Берг ел в последний раз, стоял перед окном. Окно выходило не на улицу, а на луга. Ланглуа сел на то место, на котором сидел Берг, когда ел кроличье рагу. Ланглуа сделал несколько жестов, подобных тем, какие, по-видимому, делал Берг, доедая рагу и обмакивая хлеб в соус, отчего в застывшем жире на тарелке остались следы. При этом он все время поглядывал в окно и вдруг спросил: «А куда выходит это окно?» (и спросить, действительно, надо было, потому что, если смотреть в него, то окно выходило, как и все окна в это время года, просто на снег, похожий на вату — то на серую, то на голубоватую, то на черную). Окно выходило на дорогу, ведущую к Аверу. Ланглуа велел принести сапоги. А пока за ними ходили, объяснил, что, по его мнению, когда Берг ел, он увидел, наверное, что-то необычное, что заставило его быстро выскочить из дома.
Произведения
Критика