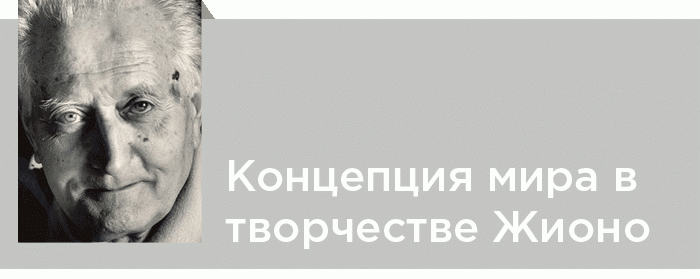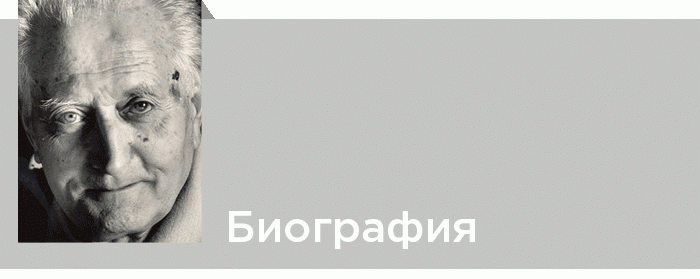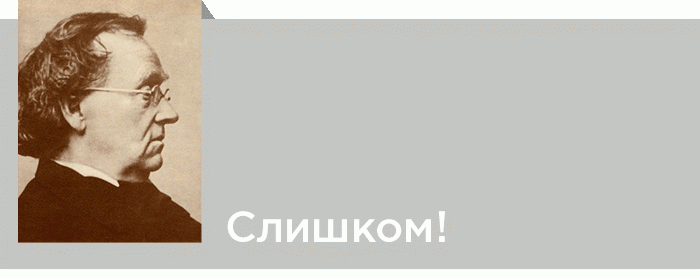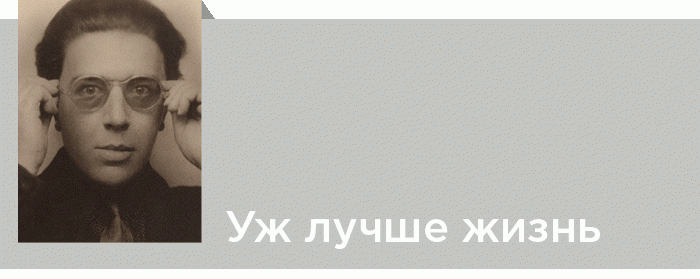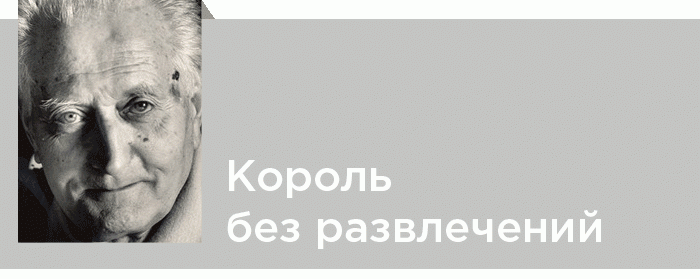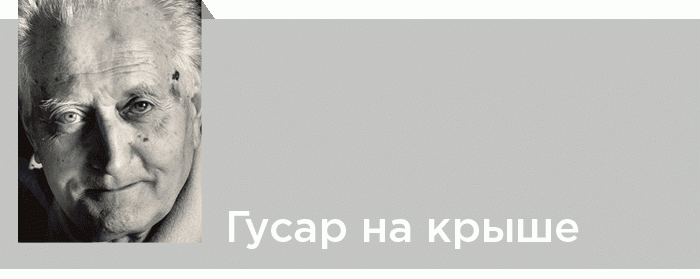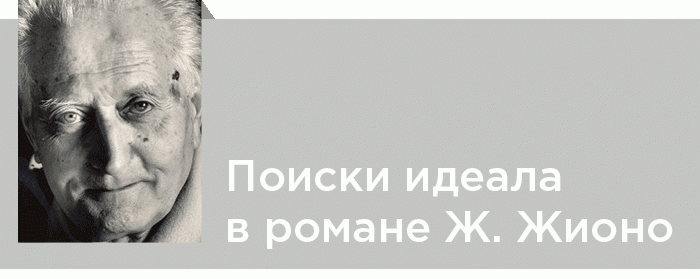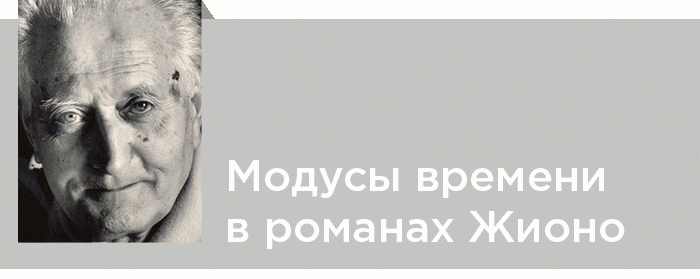Жан Жионо. Польская мельница
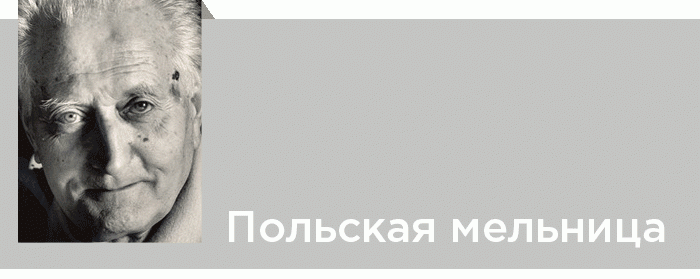
(Отрывок)
I
A wondrous necessary man, my lord.
«The Changeling»
Поместье Польская Мельница, столь славное в былые дни, попало в руки одного человека, которого все называли г-ном Жозефом.
Это был рослый энергичный мужчина лет сорока, с короткой черной бородкой, широко поставленными глазами очень красивого карего цвета с небольшой прозеленью и с носом совершенной формы, какой увидишь только на породистых лицах.
Он прибыл сюда в один из тех зимних дней, что пробуждают милосердие в чувствительных душах. С нами он не слишком церемонился. Из дома выходил редко и шел прямиком в кафе, чтобы перекинуться в безик, почти не открывая рта. Если бы он сам выбирал партнеров, то можно было бы сказать, что он пройдоха. Он всегда играл с важными особами. Но не он их выбирал: это его выбирали. Он ни перед кем не заискивал. По прошествии трех месяцев стало ясно, что ничего ему не надо, лишь бы оставили его в покое.
Все задавались вопросом, на какие средства он живет. Он всегда был хорошо одет, без всякой роскоши, но с определенной изысканностью. Его куртки, зимой — бархатные, летом из альпака, были, судя по всему, изрядно поношены, но очень искусно зачинены и всегда в полном порядке. Они на нем смотрелись как вещи высочайшего качества. Он носил небольшие скрипучие туфли, каждый его шаг, когда он шел по тротуару, сопровождался поскрипыванием.
Жил он у сапожников, в Барахольном тупике. Семья, которая давала ему кров и стол, была не в почете: муж пил, да и жена тоже. Когда они напивались, то не колотили друг друга, все было гораздо серьезнее: они пели. Голоса их были ужасны, и они могли горланить дни и ночи напролет без всякого отдыха. Не настолько уж мы бережливы, чтобы оберегать свою скуку, и нужно сильно постараться, чтобы довести нас до белого каления. Сапожникам это удавалось.
Барахольный тупик одной своей стороной примыкает к саду старинного монастыря. Огромные платаны возвышаются на тридцать метров и даже выше над монастырской оградой и образуют, вместе со своей обильной листвой, грандиозный свод, под которым голоса пьянчуг звучали, как в церкви. Была тысяча жалоб по этому поводу, и наш жандарм не одну сотню раз приходил стучать в их двери или ставни рукоятью своей сабли. В ответ они всего-то и делали, что меняли свою вакханалию на нестихающие заунывные песнопения, возмутительные своей грубостью. Эти люди обладали даром провоцировать громкий скандал.
С того времени, как г-н Жозеф поселился у них, они стали кроткими, как овечки.
Было непонятно, почему он пошел жить к Кабро (так звали сапожника). Барахольный тупик не пользовался славой места, удобного для жилья, и, как бы беден ни был г-н Жозеф, хватало таких домов, где, как говорили, он мог бы поселиться с большим комфортом и в лучшей компании. Его даже поощряли к этому, особенно две сестры мелкого служащего нотариальной конторы — пеньки родословного дерева старинной почтенной семьи, девицы из гостиной с зачехленной мебелью, из большого источенного жучком дома, выходящего на Церковную площадь. Долгое время они расточали ему улыбки и выражали глубокую почтительность, всякий раз попадаясь на приманку ответного торжественного приветствия черной фетровой шляпы. Но никогда он не заводил речи о том, чтобы съехать от Кабро.
Мало того, доподлинно было известно, что он питался за их столом. И не кто иной, как он, каждый вечер невозмутимо играл в карты с теми, кого мы считали сливками общества; здесь было о чем подумать. Пришлось все-таки к этому привыкнуть, как мы привыкли каждую неделю видеть мамашу Кабро стирающей в общественной прачечной большую скатерть и три салфетки, камчатные, с узором, напоминающим корону. В конце концов принято было решение признать, что сад старинного монастыря очень красив и, должно быть, очень приятно иметь его под окнами.
В первые месяцы после водворения у нас г-на Жозефа хозяйство его вела мамаша Кабро. Она от этого заважничала, и, конечно, ни у кого и мысли не возникло расспросить ее о том, что всех интересовало, а именно: было ли хорошо в доме у этого человека? Имел ли он, кроме красивого столового белья, еще и красивую мебель? Был ли он прежде женат? В общем то, о чем легко догадаться, посчитав количество простыней и их размеры. Но не могло быть и мысли расспросить об этом мамашу Кабро, про которую было известно, что она не стесняется в выражениях, когда не хочет отвечать на вопросы.
Мамаша Кабро была не проста. Она всегда понимала то, о чем не говорилось вслух. И она рассказала о нашем любопытстве своему жильцу таким заговорщицким, страстным тоном, каким люди, долгое время отверженные, признаются в любви предмету своей страсти. То была самая прекрасная пора ее жизни: долгие, многочасовые беседы с любезным мужчиной. «Он доставил ко мне вещи очень издалека», — говорила она. Потому что не в силах была удержаться, чтобы не поболтать на эту тему, не сообщая, впрочем, ничего действительно нового; она особенно упирала на то, какая честь ей была оказана (у нес имелся длинный список обид, за которые следовало рассчитаться). И на другой день после этого знаменательного разговора она сама пошла искать приходящую прислугу, чтобы та взяла на себя заботы о г-не Жозефе. Она выбрала из всех одну — и та не была даже ее приятельницей, совсем нет, — самую болтливую и невоздержанную на язык. В этом случае нас удивило еще и поведение мамаши Кабро; у нес был такой вид, словно она сохраняет какую-то тайну и посмеивается над нами.
Новая приходящая прислуга описала все вещи точно и в подробностях. Г-н Жозеф имеет стол из светлого дерева, стул и железную кровать. У него две простыни, три рубашки, одну из которых можно, при необходимости, накрахмалить, шесть носовых платков, два полотенца, три трубки, притом глиняные, и одна книга, так и не узнали какая: она не умела читать.
Ясно было, что он что-то скрывает. Никогда злобность, которая нам здесь свойственна — нам, живущим в скучном захолустье, — его, однако, не преследовала; мы умеем быть такими ловкачами, мы приходим к столь поразительным результатам, когда берем на себя труд быть злыми, что по отношению к нему можно сказать: его не преследовали. Мальчишки, которых посылали играть в сад старого монастыря и которым поручали забираться на те ветки платанов, откуда можно было видеть комнату г-на Жозефа, доносили, что он мирно расхаживает взад и вперед или же, сидя на своем стуле, весь день читает ту знаменитую книгу, названия которой никто не знал.
Несмотря на всю свою загадочность, тревоги он не вызывал. Это довольно трудно объяснить. По правде сказать, тревогу-то он вызывал. Но не внушал страха. Когда я это заметил, я еще больше удивился тому, что его не преследовала злоба. Во всяком случае, не преследовала по-настоящему.
У нас здесь два музыкальных общества — разумеется, соперничающих между собой. Когда встал вопрос о возобновлении билетов почетных членов, один такой билет принесли г-ну Жозефу. Он принял его с благодарностью и уплатил три франка. Другое общество также прислало ему билет, он принял и его тоже и внес три франка. На этот раз все были весьма раздосадованы его безразличием. Обычно мы такого не прощаем. Нельзя сказать, чтобы мы на этот раз простили. И неизвестно, каким чудом он вынудил нас оставить это без последствий. Если бы все пушки, нацеленные на него, выстрелили, он был бы стерт в порошок. Но что-то подмочило порох.
Нас сдерживала в наших естественных порывах главным образом, надо прямо сказать, некоторая доля опасений. Иначе, несмотря на его обаяние, с ним разделались бы, как и со всеми. Скатерти и камчатные салфетки, которые мамаша Кабро каждую неделю стирала в прачечной, наводили нас на размышления. Это было великолепное столовое белье. Ни у кого и никогда не было здесь ничего красивее. Это говорило о невообразимом образе жизни и о соответствующем ему могуществе. Мы были слишком осторожны, чтобы без получения более подробных сведений вступить в трения с кем-либо, наделенным подобным могуществом. Его посчитали скрытным и лицемерным, а это было то, что нужно, чтобы ему оказывали уважение. Особенно при личных встречах. И казалось, это все, к чему он стремился.
Нас привела в ужас непринужденность, с какой он пожертвовал на стол сапожника эти королевские камчатные ткани. Не надо думать, что мы — провинциалы, которые никогда не покидали своих домов, ничего не видели, удивляются всякой малости или легко поддаются на испуг. Вся верхушка нашего общества ездила добывать себе состояние в Мексику. Нужно ведь пересечь океан, где случаются штормы; нужно жить в городах, где есть горная болезнь; надо путешествовать с оружием и даже спать при оружии в подобной стране, где больше бандитов и змей, чем во всех других местах. Но мы меньше боимся ножей и диких зверей, чем поведения, не соответствующего понятию, которое мы имеем о жизни. Это разрушает все, чем мы владеем, с большей несомненностью, чем революция Панчо Вилья. А значит, с г-ном Жозефом следовало быть очень дипломатичными.
Похоже на то, что он более двух лет был для нашего городка источником беспокойства. У нас свои привычки, мы здесь от них не отступаем. Было очень неприятно иметь перед глазами кого-то, кто живет по-иному, и довольно неплохо живет. У него был такой вид, будто он нас уму-разуму учит. Мы этого не любим. Если бы не камчатное столовое белье и не опыт, который дала нам жизнь, он подвергся бы величайшим опасностям. Он и так им подвергался, но без серьезных последствий для себя, что было еще более неприятно.
Конечно, у нас есть свои козыри, чтобы выиграть; самый верный из них тот, что зовется «силой вещей». И применительно к г-ну Жозефу как раз этот козырь был особенно хорош. Бородка, обрамляющая лицо, глаза, в которых малейшее волнение зажигало зеленые искорки, походка, мужественная и мягкая, наводившая на мысли о море, — все это, в соединении с романтической таинственностью, камчатным бельем и столом светлого дерева, вскружило голову женщинам. Он был достаточно молод и имел завидное здоровье. Я не говорю о наших прелестницах. Тс, понятное дело, сразу же очертя голову кинулись в эту авантюру. Само собой разумеется, что скандал такого рода сослужил бы нам добрую службу. Среди этих дам были у нас и весьма элегантные, такие, что пользовались успехом в Париже и даже в других столицах мира; они были ловкими и очень вкрадчивыми. Но скоро пришлось расстаться со всякой надеждой. Улыбка г-на Жозефа говорила об этом вполне определенно. Мы по-настоящему и не рассчитывали открыть счет в свою пользу таким образом. Напротив, особые надежды мы возлагали на наших малышек. Конечно, за богатыми наследницами уже давно ухаживали или же их старательно держали взаперти, но оставалось немало других, и, как говорится, подходящего возраста. Большинство из них хорошо сложены: чуть-чуть раздобревшие или немного тощие, но с красивыми глазами, или, уж во всяком случае, с очень живыми глазами. Партии солидные, сулящие наличность, куда большую, например, чем та, которую могла дать Польская Мельница, где воцарилась чума. И наконец, девушки хорошо воспитанные, с чувством долга.
Это чувство долга у женщин — относительно него мы в высшей степени строги, и наши малышки являются самым совершенным его воплощением — было, скажу без стеснения, тем, на что мы больше всего рассчитывали в деле превращения г-на Жозефа в одного из наших. Нужно обладать смелостью, чтобы заставить мужчин определенного возраста без прикрас провидеть в будущем домашние туфли, целебные настои и освященные веточки самшита.
Г-н Жозеф, должно быть, почувствовал всю серьезность атаки; он ответил на нее с ловкостью, против которой у нас не нашлось оружия. Ни один из нас не дерзнул бы отказаться от малышек, от которых отказался он. При одной мысли об этом у меня холод пробегал по спине. Отцы были владельцами предприятий, домов или членами правлений, и если бы вы попытались представить себе подвластные им территории, то увидели бы все улицы, площади и перекрестки перегороженными цепями, как в средние века.
Он ухитрялся действовать так, что для него не было ни цепей, ни перегороженных улиц: совсем напротив.
Не могу похвастать, что я очень уж светский человек, но неукоснительное следование истине вынуждает меня сказать, что приличное общество нашего городка никогда не гнушалось моей скромной персоны. И в это приличное общество кого попало не допускают. У нас есть салоны, которые, скажу без бахвальства, могут соперничать с салонами столицы и в мудрости суждений, и в изысканности, и в политическом весе. У нас есть умники, которые наравне с верхами в курсе государственных секретов и играют ведущую роль в закулисной борьбе.
Однажды вечером один из таких умников, г-н де К., отвел меня в сторонку и сказал: «Обыватели делают ужасную глупость. Знаете, кто он на самом деле? Это иезуит без сутаны. Он даже имеет высокий чин». Это меня совершенно изумило и по-настоящему испугало. Токи легкой иронии, которые постоянно излучали глаза г-на Жозефа, обрели смысл, и смысл весьма тревожный. «Я не утверждаю, что это генерал ордена, — продолжил г-н де К., от которого не укрылось мое волнение, — но никто не может себе позволить оплошать перед человеком такого ранга. Так вот, мне кажется, эти жалкие людишки, не видящие дальше своего носа, заняты тем, что вертят юбками у него перед глазами». Я сумел лишь промямлить: «Откуда вы знаете?» «Про что? Про юбки?» — спросил он. «Да нет, — ответил я, — про юбки я и сам знаю, это видно, а про остальное?» Я был донельзя встревожен. Иезуит без сутаны — это судья, а у нас столько причин подвергнуться осуждению.
Г-н де К. был человеком хладнокровным. Я часто наблюдал во время торгов, например, как он шел навстречу опасности самыми надежными окольными путями, мгновенно обдумывая решение. У него не было обыкновения попадать пальцем в небо. Это был самый сведущий человек из всех, кто у нас есть. Он напустил на себя таинственность. Это был явный признак опасности, которой мы подвергались. Г-н Жозеф, похоже, выдал себя — и вне всякого сомнения, выдал умышленно, поскольку люди его склада ничего не делают по слабости, — он позволил себе какие-то туманные намеки во время партии в безик с г-ном Нестором Б. Туманные намеки, к которым вновь и вновь с особенным упорством г-н Жозеф возвращался из вечера в вечер. «И потом, — сказал г-н де К., - вы когда — нибудь видели его на мессе?»
Это давало слишком много доказательств, чтобы оставить место для сомнений.
Малышек, как по команде, снова задвинули подальше. И вокруг г-на Жозефа произошло в буквальном смысле извержение реверансов и поклонов.
Все объяснилось: стол из светлого дерева, железная кровать, камчатное столовое белье, бедность, которой он не стыдился. (Ему надо было обладать могуществом, чтобы совсем не стыдиться бедности!) Его бедность, поняли мы наконец, — добровольная, искомая, подстроенная бедность. Он был выведен на чистую воду г-ном де К., одним из наших умников, но мы горько сетовали, что сами не увидели того, что бросалось в глаза.
Во время охоты на мужа на передний край неосторожно выдвинули двух наших малышек: Элеонору Г. и Софи Т. Пусть их и убрали с большей поспешностью, чем других, они уже заняли настолько важные места на шахматной доске, что тень от них оставалась заметной. Это вызвало много язвительных насмешек в их адрес. Ибо нужда свой закон пишет, и мы все, в мгновение ока, приняли сторону г-на Жозефа. Слишком крепкая дубинка была у него в руках.
Элеонора и Софи были девицами хоть и перезрелыми, но очень нежными по натуре. Им было весьма трудно появляться в свете и улыбаться как ни в чем не бывало. Их семьи, парализованные страхом — да таким страхом, против которого эти бедные малышки значили не больше, чем пятое колесо в телеге, — так вот, обе семьи: отцы, матери, братья, тетки и даже их седьмая вода на киселе — заставляли Элеонору и Софи выходить из дома, бывать в гостях, на людях, на прогулках, везде. Их непрерывно муштровали дома, и, стоило им появиться на городском бульваре или в гостиных, на них без зазрения совести пялили глаза. Они слишком хорошо знали, что было в этих взглядах; прежде они сами часто так смотрели на людей. Краска стыда не сходила больше с их лиц. Нетрудно было догадаться, что в конце концов они от этого заболеют. Все очень веселились.
Если бы я отнесся легкомысленно к доверительному сообщению одного из наших умников и не уверовал бы в него крепко — чего никогда не случалось прежде и уж тем более не случилось теперь, — поведения г-на Жозефа с Элеонорой и Софи было бы достаточно, чтобы меня просветить. Я, конечно, не сумел бы копнуть так глубоко, как г-н де К., и точно определить социальное положение этого странного человека, но инстинктом был бы предупрежден о его необычайной значимости. В самом деле, нам не оставалось ничего другого, кроме как ожидать нервного расстройства у наших двух малышек, когда прежнее положение вещей было полностью восстановлено с таким блеском, от которого у нас пораскрывались рты и расходились нервы, ибо мы не знали больше, каким богам молиться.
Каждое воскресенье, в два часа пополудни, все, с кем стоило здесь считаться, тянулись вереницей, чтобы прогуляться по террасе, окруженной вязами, которая возвышалась над равниной метров на пятьдесят. Эта великолепная эспланада, простиравшаяся на развалинах наших древних крепостных стен, — творение одного из членов нашего муниципалитета, г-на Бонбона, который шестьдесят лет тому назад успешно довел до конца как повышение плодородия наших земель за счет оросительного канала, так и украшение места нашего проживания этой эспланадой, достойной большого города. Ее называют Бельвю, что значит «прекрасный вид» и отвечает элегантности, которая себя там являет.
Стоял май. То были дни теплые и серенькие, очень расслабляющие, когда так приятно быть жестоким без опасности для себя. Все наслаждались своей жестокостью к Элеоноре и Софи с легким сердцем. Семьи усердно выставляли их напоказ в Бельвю. Это был способ заявить, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Никто им нисколько не верил, и все открыто это показывали. Мы знали, что перед нами ломают комедию. Мы от всего сердца освистывали актеров.
Г-н Жозеф никогда раньше не приходил на прогулку. И вот он пришел. Мы поспешно его приветствовали. Его присутствие под нашими вязами, по моему разумению, значило, что он доволен нами, даже если его поклоны были слегка суховаты. Ведь имел же он право, не отступая от хороших манер, подчеркнуть свое превосходство над нами.
Даже по прошествии времени я не могу в точности представить себе, что он сделал. Это было слишком отлично от того, что мы в силах понять. Я рассказал уже о его суховатых поклонах. Одно ясно: он едва ответил на наши приветствия и, если придерживаться фактов, он прошел, непреклонный, как воплощенное правосудие, перед г-ном де К., госпожой Т., перед семейством М. и перед всеми нашими заправилами, как перед ничтожным сбродом. Он очень низко поклонился Элеоноре, стоявшей в окружении родни, потом, сделав полный поворот, который всех заворожил, очень низко склонился перед несчастной Софи, которая ковыляла между отцом и матерью. Спустя мгновение, невозможно даже описать, как это произошло, по правую руку от него уже была Элеонора, по левую — Софи, и все трое прогуливались под нашими вязами, словно так и надо.
Мы остолбенели. Если бы мы увидели Содом и Гоморру, то и при этом не остолбенели бы больше. У меня перед глазами до сих пор стоит г-н Б., и под усами у него вместо рта — дырка, и еще госпожа Р., которую событие застигло в момент, когда она открывала свой зонтик, и которая замерла в этой позе, как на картинке. Только он и две злополучные девицы жили полной жизнью. Он — глаза на этот раз совершенно зеленые и блестят, брови насуплены, а в бороде, откуда, похоже, лилась его речь, — белозубые улыбки; они — обе распрямившиеся, приосанившиеся, шагали с мыслью, что идут красивой походкой. Сразу видно, когда кто-нибудь живет в свое удовольствие: мы носим в самих себе чувство, похожее на тревогу, которое нас об этом предупреждает. Это было как раз то, что происходило и с девицами, и с нами.
Г-н де К. встретил меня вечером того же дня. Он никогда не заговаривал со мной на улице. А тут он мне сказал: «Вы все видели?» Я осыпал похвалами его проницательность, но ведь нас выхлестали розгами. «Смириться, — сказал он мне, — смириться, униженно терпеть — вот совет, который я даю. Сила не на нашей стороне. За ним стоит целое братство». Я признал, что действительно, чтобы осмелиться сделать подобную вещь, чтобы так бросить нам вызов, он должен был чувствовать поддержку в высших сферах. «Больше, чем поддержку, — сказал г-н де К. и поднял указательный палец. — Больше, чем поддержку: повиновение. Запомните, что я вам говорю: в высших сферах его не поддерживают, ему повинуются».
Мы остановились на тротуаре перед галантерейной лавкой сестер Атанас, и на нас смотрели сквозь оконные стекла; даже немного приоткрыли дверь, чтобы подслушать нашу беседу. «Пойдемте, — сказал г-н де К., и мы сделали несколько шагов по направлению к почте. — Нужно быть предельно осторожными». Я ответил смущенно, что мы всегда были осторожны. Не знаю, что потрясло меня больше: тот факт, что г-н де К. обращался со мной как с равным прямо на улице, или же опасное приключение, которое выпало на нашу долю. «Верно, мы никогда не были неосторожны, — сказал он мне, — разве что среди своих. А среди своих это не в счет. Мы достаточно знаем друг друга, чтобы позволить себе только неосторожность, не влекущую риска». Мы переживали столь исключительные времена, что я осмелился задать вопрос г-ну де К.: «Что он здесь делает?» Тот воздел руки к небу. «Что обычно делают подобные люди, где бы они ни были? — ответил он. Потом наклонился к моему уху и добавил: — Унижают нас — вот что они делают». Мы прошли дальше, но в молчании. Это был чудесный вечер, жемчужно-серый, похожий на те, что волновали мне сердце, когда я был ребенком. Ход жизни не позволяет больше наслаждаться этой невинной романтикой.
Я не обладаю, подобно г-ну де К., умом прозорливым и разносторонним, но, когда на кон поставлена моя собственная безопасность, я проявляю здравый смысл, который в мелочах мне очень помогает. Я говорю себе: «Самое простое, как и всегда, все делать так же, как другие. Ты будешь рисковать не больше, чем они. Если небесный свод рухнет, то ты будешь предупрежден; может, ты и сумеешь в последний миг отскочить в сторону, чтобы спастись. Слушай, наблюдай и извлеки из этого пользу».
Говорили, что в минуту расставания Софи целовала руки г-ну Жозефу. Если она так поступила, да еще перед всеми, на Бельвю, значит, существовала странная восторженность в этой малышке, которая всегда была очень неприметной. Кажется даже, что она «сама устремилась к его рукам».
В таких случаях всегда болтают больше, чем было на самом деле, но я не мог подвергнуть события критическому разбору: сцена произошла далеко от меня, далеко от всех, с кем стоит считаться. Пока длилась прогулка этой троицы, мы нашли себе пристанище и жались друг к другу на самом конце эспланады, возле бюста г-на Бонбона. Обо всем сообщили те ничтожные людишки, которых ничто и никогда не может пронять.
Увидев это «устремление», Элеонора, похоже, резко отшатнулась и сделала шаг назад. Но спустя мгновение — если все-таки поверить этим обывателям, лишенным воображения, — и она тоже «устремилась», но — к Софи, которую и обняла с проявлениями самой пылкой нежности. Здесь было над чем призадуматься. Нужно хорошо знать среду, в которой мы живем, чтобы понять, что же было в этих событиях страшным и удивительным.
Софи была единственной дочерью торговца железом, который никогда по-настоящему не числился среди за правил Просто ему повезло на четырех-пяти торгах, следовавших один за другим в те годы, когда сооружали мосты из металла. Цепь случайностей привела к его обогащению. Долгое время его считали обладателем одного из самых крупных состояний в наших местах. В ту пору Софи, не блиставшая красотой, но не лишенная свежести своих двадцати лет, примыкала к золотой молодежи. Она не входила в их круг: она касалась его черты. Когда молодые красавцы и прелестные барышни отправлялись в шарабане, со скрипачами, закусить и потанцевать под сенью грабов, вся компания любезно приветствовала Софи, если встречала ее по дороге, гуляющей на свежем воздухе. Что же до приглашения прокатиться с ними, то это дело другого рода, об этом никто и не помышлял. Возможно, Софи просчиталась, надеясь на деньги торговца железом? Рот, который был у нее большим и толстым, теперь выражал горечь; она втягивала голову в плечи и глядела только на носки своих туфель. И еще она начала полнеть с тех пор, как у нее была короткая интрижка с одним из коммивояжеров ее отца. Затем последовали как минимум десять лет опущенных глаз, и вторично она стала объектом насмешек из-за священника, явившегося в нашу приходскую церковь Святого Спасителя с проповедями о кресте, который впоследствии и воздвигли на вершине самого высокого нашего холма: на высоте более трехсот метров над уровнем моря.
Я только что упомянул о том, что Софи была неприметной. В действительности, оба раза, когда о ней судачили, по существу, и сказать-то особенно было не о чем. Коммивояжера скоропалительно выставили за дверь с довольно крепким словцом вдогонку. Это уж мы домыслили остальное. Со священником все было чуть более определенно. Никто не мог отрицать ни постоянного присутствия Софи на проповедях, ни усилий, которые она всякий раз прилагала, чтобы занять место у самой кафедры, и, наконец, стало доподлинно известно, что именно по ее настоянию папаша Т. решился бесплатно дать железо на крест.
Во всяком случае, теперь дела ее отца пребывали в бесславном затишье. Софи растолстела и стала иногда переваливаться при ходьбе, как гусыня. Для нас это была лягушка, которая хочет стать больше вола. Те, кто был к ней особенно расположен, говорили: «У нее есть голова на плечах». Мы неизменно отвечали: «Уж лучше бы ее совсем не было». Это был тонкий намек на ее некрасивое лицо. Кроме того, мы знали, что она чувствительна, и две-три черты ее характера пошли бы ей на пользу, если бы они не побуждали ее к совершенно неуместным проявлениям сентиментальности. Мы должны оставить занятие милосердием тем, кто предназначен для этого по рождению.
Элеонора была совершенно иной. С ней следовало по — прежнему вести себя деликатно. Прежде всего, семейство Г. состояло в родстве с древними уважаемыми родами, богатство которых не наживалось ни торговлей, ни трудом. Она была дальней родственницей — по женской линии — г-на де К. и племянницей Филиппа де Бовуара, который всегда заправлял всеми делами в субпрефектуре. К тому же ей было на кого равняться. Ее мать всегда заставляла плясать под свою дудку всех, кроме своего мужа, который сам вынуждал ее вытанцовывать под его особую, персональную музыку. Он пил и бегал за юбками. Это был рослый, грузный мужчина, всегда одетый в полупальто песочного цвета и всегда в штанах для верховой езды. В любую погоду он носил сапоги. У него была голова, похожая на шар, с лиловой кожей на лице и с глазами, как плошки; он завлекал податливые сердца своими закрученными кверху усами. Элеоноре досталась от него грубая манера слепо поддаваться своим прихотям, а от матери она унаследовала вкус к позерству. Мадам, высокая и тучная, с широкими ступнями ног, каждый день с шести утра затянута бывала в корсет, и затянута туго. Она отдыхала только стоя. Ее огромные груди нависали над пустотой, и в силу постоянного сжатия и удержания она заставила свой живот переместиться в ягодицы. Она носила лорнет, но не из-за близорукости, а в интересах дела; и я даже подозреваю, что довольно заметные черные усики, которые украшали ее верхнюю губу, появились у нее от усилий воли. И она и Элеонора были способны пройти среди белого дня возле г-на Г., валяющегося в канаве и покрытого блевотиной, не ускорив шага и не отводя глаз в сторону. Они перенесли все выпавшие на их долю унижения с такой бесчувственностью, что мы устали первыми.
Если бы сам г-н де К. поведал мне об «устремлении» Софи и о «пылком» объятии Элеоноры (утверждали даже, что она пробормотала: «Дорогая моя, о! Моя дорогая!» — и что на глазах у нее были слезы), то, несмотря на все законное уважение, которое я должен иметь (и имею) к нему и к его уму, я подумал бы, что он все это выдумал. Но факт был сообщен так, как я об этом рассказал, совершенно ничтожными лавочниками. Ну как поверить, что подобные люди могли фантазировать? На мой взгляд, все именно так и произошло. И последствия были чрезвычайно серьезными. Это было никак не меньше, чем крушение привычного нам мира. Все, что мы обдумали и выстроили на основе наших размышлений, разваливалось. Революции, о которых столько говорят, и есть не что иное, как именно это.
Тревоги, которые я описываю, одолевали не всех. То была горькая и исключительная привилегия лучших из нас. Я делил их только с нашими «умниками»: с г-ном де К. и с другими. Одному Богу известно, как они нас огорчили!
Что касается Элеоноры и Софи, то после пресловутой прогулки они стали неразлучны. Их встречали повсюду — в упоении дружбой. При иных обстоятельствах мы не упустили бы случая поднять на смех двух дряхлых горлиц, но я вынужден признать, что все это — с полным основанием — нас страшило и что мы, в своем кругу, довольствовались тем, что поглядывали друг на друга без желания позубоскалить и с очень вытянутыми лицами. Чем больше мы над этим размышляли, тем острее чувствовали, что как раз теперь происходит всеобъемлющее потрясение, от которого мы ничего не выигрываем и можем все потерять. И еще простой люд стал всячески расхваливать г-на Жозефа, а простой люд хоть и неразумен, да велик числом.
Их привели в восторг весьма далекие от утонченности манеры г-на Жозефа и особенно презрение, которым он поверг нас в уныние. Они говорили, что он — «рыцарь» (таким образом, даже те, кто отрицает значение аристократической иерархии, приходят к тому, что ссылаются на нее).
«Рыцарь», как мы его звали (строго между собой и шепотом), продолжал вести свой обычный образ жизни. Он получал много приветствий, в том числе и наших, которых мы для него не жалели. Очень обходительно он отвечал на все. И не пропустил ни единой партии в безик.
У меня состоялся еще один разговор на улице с г-ном де К. Я призвал его говорить как можно короче и заметил ему, что эти перешептывания могут нас скомпрометировать. Он с этим согласился. «Тем более, — сказал он мне, — что я попытался уточнить, нельзя ли двинуть вперед духовенство: попытался больше с целью выяснить для себя ценность моих умозаключений, чем ради самой акции. И обнаружил, что этим господам все как об стену горох; они ни о чем и слышать не желают. Я безуспешно старался показать им вес, который этот человек набирает в глазах черни. Они обо всем знают, но в ответ процитировали мне Евангелие. Мне — Евангелие! Теперь сами судите, действительно ли ситуация так серьезна».
Мы быстро расстались.
Для поверхностных умов, однако, все выглядело так, словно порядок был восстановлен. Они могли в это верить до ночи большого скандала.
II
Сложите ваши заботы в старый мешок, а мешок потеряйте.
Пословица
Я совершу довольно большой экскурс в прошлое, прежде чем подойти к событиям той незабываемой ночи.
Женщина, которая будет теперь нас интересовать, конечно же, была личностью исключительной. Я попытаюсь сейчас дать вам это понять.
Польская Мельница — загородное имение, расположенное не далее чем в километре от наших западных пригородов, если придерживаться дороги. В самом деле, бульвар Бельвю нависает как раз над ним. При желании можно плюнуть оттуда прямо на крышу замка.
Откуда это название — Польская Мельница? Никто об этом ничего не знает. Некоторые утверждают, что какой — то польский паломник, который шел в Рим, когда-то соорудил на этом месте хижину.
Вскоре после падения Империи некто Кост купил эти земли, возвел там господский дом и хозяйственные постройки, которые видны и поныне.
Кост был уроженцем здешних мест, но вернулся сюда после долгого пребывания в Мексике. Он был, как рассказывают, мужчиной тощим и молчаливым. Особенно часто поминают то, что его отличало прежде всего: резкие перепады настроения, которые побуждали его мгновенно переходить от ангельской доброты к дьявольской жестокости. Он, казалось, бился над задачей, которую пытался решить двумя разными способами, никогда не добиваясь успеха.
Он был вдовцом, но имел двух дочерей. Об их красоте рассказывают и поныне. Они были почти одного возраста. Послушать меня или всех тех, кто об этом говорит, так можно подумать, будто мы их знали. Все, кто жил с ними в одно время, умерли, однако общеизвестно, что они были брюнетками с кожей молочной белизны и что их огромные голубые глаза, отливавшие сталью, смотрели на мир с необычайной медлительностью. Рассказывают также о восхитительном овале их лиц и об их походке, от которой, говорят, все просто рты разевали.
Анаис и Клара вызвали переполох среди всего мужского населения. Очень трудно было к ним подобраться. В гости они не ходили.
Обеим были сделаны предложения. Что здесь, у нас, всегда ищут в браке, так это деньги. Кост, казалось, имел их хоть отбавляй. Несмотря на красоту обеих девушек, нельзя было ошибиться относительно смысла первых шагов, которые были предприняты в этом случае. Семья, которая высунулась вперед, была богатой и нахальной. Она однозначно дала понять, что просто и бесхитростно ищет способ доказать — два плюс два четыре.
Использовали для этих первых словесных поединков обычных свах, в частности некую мадемуазель Гортензию, которую придется часто поминать.
Это была женщина, дюжая, как лошадь, телом и душой и, похоже, способная до бесконечности черпать в себе самой новые силы. Судя по описаниям, она ела мясо с кровью, пила не пьянея, не боялась выпачкаться в грязи и напоказ выставляла свои фальшивые драгоценности, что соответствовало ее бойцовскому характеру, ну и конечно же, была хитрющей бестией. Она всегда водила за собой при исполнении поручений трех жалких дурочек, происходивших из лучших семейств и разодетых как на модной картинке. «Это для свиты, — говаривала она. — Без свиты нет и дипломатии. Настоящую ценность я приобретаю только тогда, когда меня оттеняет окружение».
Все названные дамы вышли от Коста в некотором унынии. Он принял их с исключительной любезностью, горячностью, приветливостью. На этом сухощавом мужчине, который, говорили, исколесил все пустыни, костюм сидел как на короле. Этот молчун владел даром ослепляющей улыбки, а когда брал на себя труд заговорить, то говорил красно. И в данном случае он, похоже, взял на себя такой труд.
Матроны были готовы к тому, что из-под каждого кресла на Польской Мельнице может выскочить чертик с хвостом. Они совсем не ожидали найти в этом человеке обаяние и сердечную грусть. И даже слабости, которые он без стеснения открыл перед ними, как перед близкими людьми: ведь перед близкими можно показаться хоть голым. Но окончательно обезоружил их тот оборот, который Кост придал всему делу.
Беседа состоялась в большой гостиной. У меня позднее была возможность бывать (вы еще узнаете почему) в этой комнате, которая своими шестью стеклянными дверьми обращена в сторону кленовой рощи. Мне доставляет удовольствие воображать, что эта беседа произошла в ноябре. Бог, который все делает наилучшим образом, должен был приурочить ее к тому времени года, когда отсвет багровых листьев окрашивает даже тени.
Стену напротив стеклянных дверей почти полностью занимала громадная картина. Недавно я снова взглянул на нее, когда набрался духа поинтересоваться, как умирали члены этой несчастной семьи. Теперь картина свернута и лежит в архивах мэтра Дидье, нотариуса. «Вы рассматриваете, — сказал он мне, — боевой стяг амаликитян»?
Это был рисунок на бумаге, грубо намалеванный и грубо раскрашенный. Я не прикидываюсь знатоком живописи; я сообщаю свое мнение. На нем была изображена стоящая женщина, гораздо больше натуральной величины, на фоне пейзажа с холмами, пальмами, с экзотическими птицами, змеями и городами из пирамид. В лице женщины, в том, как она держалась, в цвете ее глаз и в тяжести взгляда, в очерке рта и бровей, в изгибе рук, в ее высокой груди, в округлости ног и в движении ее царственных бедер, обрисованных крестьянской юбкой в зеленую и красную полоску, похоже, до нелепости было подчеркнуто сходство с Анаис и с Кларой. Кроме змей, птиц и городов вокруг этой матери Анаис и Клары помещены сценки, подобные тем, что можно увидеть на приношениях, развешанных по стенам чудотворных часовен в благодарность Господу за счастливое избавление от смерти на земле и на море: разбитые колеса, сломанные оглобли, обезумевшие лошади, лодки, в которых открылась течь, тонущие корабли (на картине они тонули в облаках), дома, извергающие пламя через двери и окна, бешеные псы, брызжущие пеной, разорвавшиеся ружья, охваченные огнем платья и даже камни, падающие с неба. Были, кроме того, некоторые атрибуты страданий людских, как на картинах с религиозными сюжетами: костыли, клюки, обувь для калек, лубки для лечения переломов, носилки и даже гроб. Все было расписано яркими красками: красной, зеленой, синей, много было и ослепительно яркого желтого цвета, который соседствовал со смоляной чернотой.
Теперь я достаточно хорошо знаю участников драмы, чтобы представить себе, ничего особенно не присочинив, их беседу и поведение.
«Поговорим немного об этих де М., которые хотят заполучить моих дочерей, — должен был сказать Кост. — Не скрою, сударыни, что за мною дело не станет». И когда эта старая дева Гортензия, расправив грудь в своем индюшачьем жабо, приготовилась исполнить начало своей бравурной арии, он ее остановил и приказал принести большую бутыль тминной водки.
Мне известно то, чего мадемуазель Гортензия в ту минуту не знала. Однажды утром, на рассвете, фермер семейства де М. повстречал Коста, который бродил возле построек господского дома и фермы. Они, как водится, поговорили про дождь и про вёдро, потом про двух братьев, которых прочили в мужья двум сестрам. Слово за слово, Кост начал задавать несколько странные вопросы. Его интересовали несчастные случаи, которые когда-либо происходили с младшими де М. Он полюбопытствовал, не доводилось ли кому-нибудь из них сломать себе руку или ногу. Такое вполне могло произойти с двумя здоровенными детинами, которые ездят верхом и у которых кровь кипит в жилах. «Ха! Вот что я тебе доложу, — сказал фермер, — они не из таковских. Не велик грех и прокатить с ветерком, но будьте покойны, кому Бог поможет, тот все переможет…»
Кост был очень щедр на свою тминную водку. Он разливал ее по большим бокалам, и дамы решили про себя, перемигнувшись, что на войне как на войне.
Тогда Кост сказал: «Я могу заплатить. Такую цену, какую спросят. Нет причин, чтобы нам не прийти к согласию, если только вы имеете для продажи то, что я желаю купить. Можно ли сказать про де М., которых вы мне предлагаете, что это люди, забытые Богом?»
Ни подобное поведение, ни тминная водка не могли помешать мадемуазель Гортензии заговорить низким, исполненным благородства голосом и торжественно сообщить: сам Бог не может позволить себе забыть про семейство де М.
Кост отвечает, что он придерживается другого взгляда, так что на этом они останавливаться не будут, и у него есть веские причины продолжить разговор. Он сейчас пояснит свою мысль. Сам он, Кост, — человек, про которого Бог не забывает. Не время и не место рассказывать обо всем подробно. Пусть они просто поверят ему на слово. Он дорого заплатил за это и знает, о чем говорит. Его не переубедишь. Он охотно выдаст своих дочерей замуж и отдаст им все, что у него есть. Но он требует, чтобы они вступили в семью или в семьи, о которых Бог и не вспоминает, которые он зашвырнул куда подальше и забыл про них, с которыми ему никогда не придет в голову выкинуть какой-нибудь номер в его обычной манере. Уж он эту манеру знает. Бог постоянно подвергает его испытаниям в выдержке, в мужестве или в стойкости и еще во множестве других подобных качеств. С ним все ясно, он со своей участью теперь смирился, но его дочки — это иное дело. Он их любит. Они все, что у него осталось, и он не желает, чтобы Бог развлекал себя тем, что резал бы их без ножа и скручивал в бараний рог. У них по две руки, по две ноги и все остальное. Пусть от них отстанут, чтобы они могли в полном покое насладиться тем, что имеют. Таково его мнение. Он от него не отступит. Гарантируйте, что вы предлагаете мне то, что я ищу, и дело с концом.
Что бы ни твердила мадемуазель Гортензия про свое двухсотое по счету сватовство, она была совершенно сбита с толку и какое-то время думала, что вся загвоздка в вероисповедании. Возможно, эти девушки, рожденные за океаном, принадлежат к какой-нибудь языческой секте?
Кост тут же вывел ее из заблуждения. «Вопрос совсем не в этом». Они такие же христианки, как все. Вдобавок он холодно заверил, что, будь это возможно, он охотно выдал бы своих дочерей за священников. «Это как раз такие люди, какие мне нужны. С ними никогда ничего не происходит, они, все как один, умирают от старости — лучшего и желать нельзя. Не будем говорить о них, чтобы люди нас не засмеяли, но предложите мне равноценный товар, и я куплю его за любые деньги».
Мадемуазель Гортензия призналась позднее, что, выходя из дома Коста, она себе сказала: «Все труды насмарку». Но она была не из тех женщин, которые сдаются без борьбы. Она пораскинула мозгами, пришла к выводу, что у этого человека превратные представления о Боге, и сказала себе: «Попробуем разобраться. Если ему важно, чтобы младшие де М. звезд с неба не хватали, они как раз то, что ему надо. А что до Бога, то тут-то чего он от меня хочет? Прежде от меня ничего подобного не требовали. У него, должно быть, свои причины. Он не похож на дурака». И она стала разнюхивать все про Польскую Мельницу.
Все были в курсе того, о чем я сейчас расскажу; мадемуазель Гортензия тоже, но то, что до поры она принимала за мексиканское чудачество, однажды вдруг показалось ей понятным.
Каждый божий день после полудня — сейчас как раз подходящий случай об этом рассказать — в легкий догкар запрягали пару лошадей. Этот экипаж производил впечатление невыразимой хрупкости. Пока лошадей крепко держали, Анаис и Клара усаживались в догкар, прикрывая маленькое ивовое сиденье оборками своих платьев. Как только оба конюха отскакивали в стороны, девушки хлестали лошадей, которые уносились прочь как ветер. И в течение двух часов, в гонке по дорогам или даже по песчаным равнинам, они правили лошадьми, отпустив поводья и с зажмуренными глазами.
Повсюду говорили про эти зажмуренные глаза. Факт, что при приближении этого облака пыли, этой кареты соломенного цвета, влекомой двумя шальными и необузданными лошадьми, с этим развевающимся на ветру атласом платьев, с этими развязавшимися лентами, все смотрели на лица двух проносившихся мимо женщин. И все в один голос утверждали, что они были с зажмуренными глазами. Крепко держа вожжи в руках, окутанные изорванными воланами (каждый день они теряли на дорогах больше чем на шесть франков басонов и лент, которые мальчишки отправлялись выискивать в придорожной траве, как крупинки золота), с длинными разметавшимися волосами, похожими на хвосты комет, эти две девушки держали глаза зажмуренными.
«Ну ты и дуреха, — сказала себе мадемуазель Гортензия, — да ведь за этим что-то кроется». Она подробнее разузнала обо всем в тот день, когда присутствовала при возвращении догкара. Лошади были совершенно загнаны и все в мыле. Кост ждал перед конюшней. Когда он спустил на землю обеих, то подошел к картонке, прибитой к двери, и сделал какую-то пометку. Мадемуазель Гортензия дождалась, пока двор опустел. Затем пошла взглянуть на плакатик. Это был календарь, где Кост зачеркивал дни; таких дней, когда его дочери ускользнули от рока, все-таки не поддались ему, стало на один больше.
Она снова пришла на Польскую Мельницу, на сей раз одна.
Она заявила: «Поговорим по-мужски. Поскольку Бог существует, поговорим о Боге. Что он вам сделал? Смело можете говорить, дальше меня это не пойдет».
Она была похожа на толстого неухоженного крестьянина, и маленькая плюшевая шапочка болталась на ее жестких седых волосах. Ее почерневшие губы и поросячьи глазки выражали суровую нежность, к которой Кост был очень чувствителен.
Он поведал ей о смерти своей жены, потом о смерти двух своих сыновей. Все трое погибли один за другим от совершенно поразительных несчастных случаев. В первый раз Кост сказал себе: «Это наш общий удел. Смерть, какой бы она ни была, общий удел». Во второй раз он ничего не сказал. В третий раз он сказал так: «Нет. Я не согласен».
— Вы не Иов, — заметила мадемуазель Гортензия.
— Нет, я не Иов, — ответил Кост.
Особенно возмущала его даже не сама смерть, а то обличье, в котором она являлась. Всякий раз это происходило внезапно и было похоже на северное сияние: редкостный феномен, кровавый и театральный. Он не мог забыть об этом. Он был подобен человеку, который, шаг за шагом, ступает по минному полю. Каждое мгновение он готов был взлететь на воздух или увидеть, как взлетают на воздух те, кого он любил. Он понял, что судьбу никак не проведешь. И что самое ужасное — это ждать. Вот отчего его приступы ярости. Он совершенно уверен, к сожалению, что его дочери несут на себе печать рока, но рассудил так, что, добавляя воду в вино, его разбавляют. Воздействуя подобным образом на исключительную судьбу, можно, вероятно, уменьшить ее «крепость». Мужья накладывают на жен собственный отпечаток. Здесь уж надо было хвататься и за соломинку. В этом, быть может, и состоял способ приготовления чего-то вроде безобидного вина из виноградных выжимок. Выступать против Бога с саблей наголо — это значит биться головой о стену, но — посредственность, что вы об этом скажете? Это, конечно, увертка, но именно ее-то он и считал действенной. Такова была причина, по которой он вернулся сюда. Он нас знал. И приехал сюда поразмышлять вот над чем: ничего нет лучше, чем нагреть себе руки. Он хотел, чтобы его дочки нагрели себе руки — и без лишних церемоний.
Эта речь взволновала лукавый ум мадемуазель Гортензии.
— Вам нужна посредственность, — сказала она, — но, дорогой мой, вы же не получите ее в свою безраздельную собственность! Вы требуете сокровища Эльдорадо — не больше и не меньше. Я вынуждена согласиться с вами. Я всегда наблюдала счастье только у людей посредственных, но посредственность доступна не всем, не стоит обольщаться на этот счет.
Она в немногих словах поведала ему собственную тайну, с иронией, однако и с большой горечью, и во всем угадывалась полная искренность.
Произведения
Критика