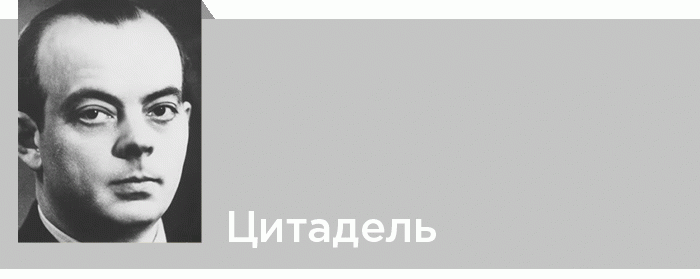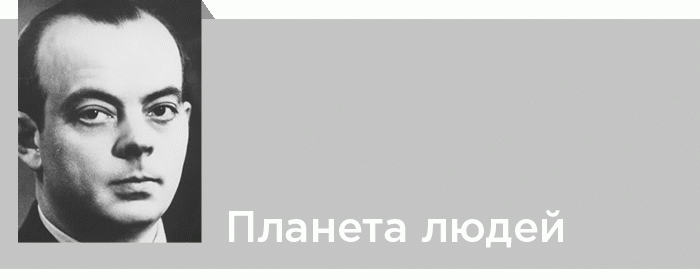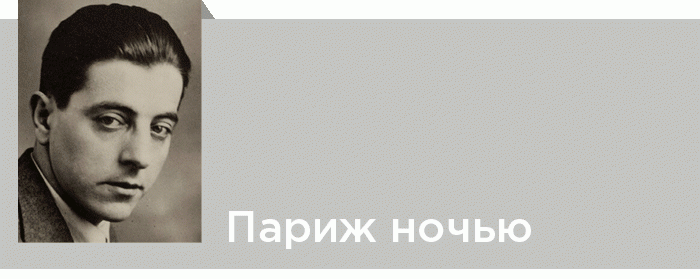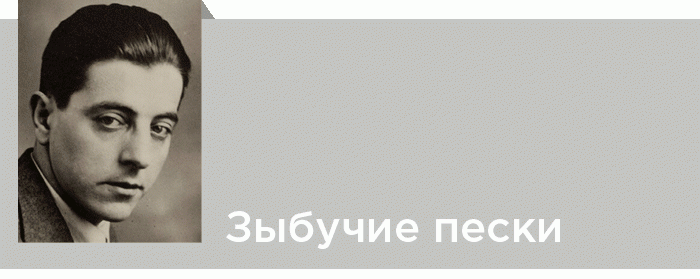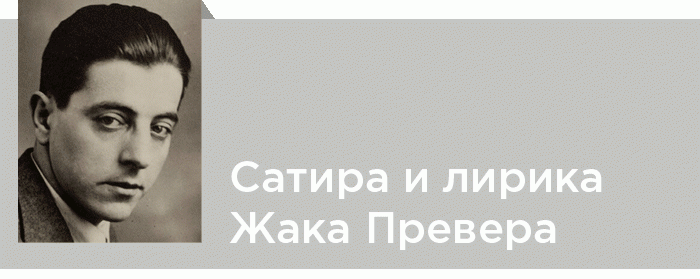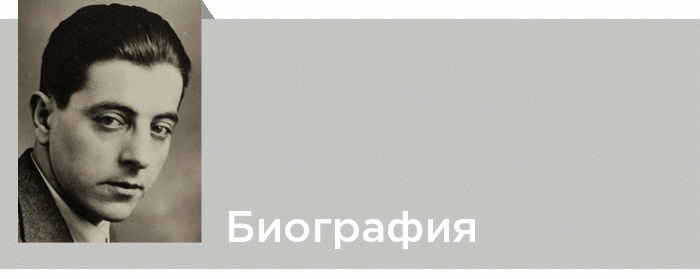«Игровая техника» сатирической инвективы: Жак Превер
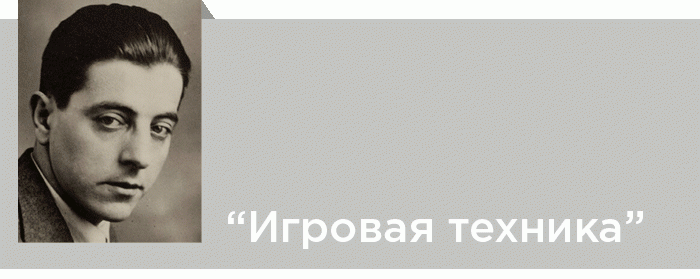
Т. В. Балашова
Рэмона Кено и Жака Рубо азартные игры со словом увлекали порой в среду, по сути им чуждую, — среду элитарных ценителей бессодержательных головоломок. И для того и для другого такие встречи были губительны, и если их произведения останутся в истории французской словесности, то, бесспорно, благодаря их высокой поэтической прозорливости, которая помешала им полностью отдать свой талант формалистическим игрищам. Имена тех, кто принял такие «опыты» всерьез, может быть, будут печататься в главках, излагающих деятельность отдельных «школ», но к движению поэзии в широкой перспективе они отношения не имеют. Иное дело поэты решительно предпочитавшие сухому формалистическому словотворчеству живую содержательную игру слов, звучавших то призывом, то обвинением, то яростным творческим кредо. По этому пути увереннее всех шел Жак Превер.
Творчество Жака Превера (Jacques Prévert, 1900-1977) — явление уникальное в истории французской поэзии. Оно заслужило восхищение и утонченных знатоков, и значительной части «массовой публики» не жалующей обычно поэзию своим расположением.
Выход первой книги стихов Превера «Слова» (Paroles, 1946) произвел, по свидетельству современников, сенсацию. Издатель Рене Бертеле, собиравший тексты Превера, по существу, вопреки желанию поэта, который не имел привычки хранить рукописи или держать в голове даты журнальных публикаций, был искренне поражен, разбогатев в течение нескольких недель. Резонанс «Слов» оказался столь внушителен, что книга переиздавалась затем чуть ли не ежегодно, параллельно с новыми сборниками. Критики и писатели самых разных направлений единодушно признали необычность этого феномена — «поэзия Превера»: «Без всяких усилий общается он с умами совсем неискушенными... вполне сведущ во всех самых изощренных вопросах поэтической выразительности», — писал Жорж Батай; «впервые после Гюго родился поэт, способный говорить с толпами», — подтверждал Рэмон Кено; «Превер — единственный из настоящих поэтов — сумел сегодня выйти за пределы более или менее узкого круга читателей», — свидетельствовал Гаэтан Пикон в «Панораме современной французской литературы». Предводитель так называемых «голубых гусар», восставших в конце 40-х годов против всяких оттенков «ангажированности», — Роже Нимье вынужден был констатировать: «Превер не моден, он скорее народен», — подтвердив тем самым авторитет искусства, пренебрегшего гусарскими башнями все из той же слоновой кости.
Кончина Превера вызвала поток статей, авторы которых пытались определить место Превера на карте французской поэзии. «Нас пытаются уверить, — писал обозреватель журнала «Экспресс», — будто наши дедушки зачитывались «Цветами зла» и стихами Малларме; они же знали только Гюго и песни Беранже. Те же выдумщики утверждают, будто сегодня мы легко читаем па память Элюара, Рене Шара, Ива Боннфуа. А в нашей памяти звучит только Арагон — наш Гюго, и Превер — наш Беранже».
Для мотивировки славы Превера выдвигались часто аргументы, совсем не основательные, искусственно противопоставлявшие его другим поэтам. Утверждали даже, что своей популярностью он обязан... равнодушию к социальным вопросам — тезис, абсолютно несовместимый с творчеством Превера.
Основная причина, позволившая ему завоевать широкую аудиторию, иная: «публика откликнулась па темы, затронутые поэзией Превера, и на манеру их поэтического выражения».
Каковы же эти темы и в чем секрет манеры Превера, так неожиданно снискавшей себе славу и в литературных салонах, и в рабочих бистро?
Когда говорят «читатели Превера», сразу напрашивается существенная поправка: сначала у Превера были в основном слушатели. Его первые стихи появились в журналах ограниченного тиража, но они звучали со сцен народных театров, с киноэкрана, по радио. Превер писал, например, сценарии для группы «Октябрь» (1932-1936 — одно из начинаний Ассоциации революционных писателей и художников), получившей Первую премию на Международной Олимпиаде самодеятельных театров в Москве (май 1933). Труппа выезжала на заводы, играла в цехах, выступала в мэриях, домах культуры, дворце Мютюалите. Читались с эстрады и стихи — «Попытка описания обеда голов», «Жалоба бедной лошади», «Время цветения орешников», «14 июля», «Иди иль подыхай», «Штык в землю», носивший посвящение: «Героическому испанскому народу, который борется за пашу свободу».
С начала 30-х годов Жак Превер одновременно много работает для кино (как автор диалогов и сценарист) вместе со своим младшим братом, известным режиссером Пьером Превером. «Послужной список» Превера-старшего насчитывает более восьмидесяти фильмов. Снимались и короткометражные фильмы, в основу которых было положено то или иное стихотворение Превера (например, «Ловля кита», «Опавшие листья»). Ряд произведений Превера пришел, таким образом, к читателю-зрителю с экрана.
Взаимодействие между строем его поэзии и кинематографом обнаружило одну из существенных особенностей манеры Превера — установку на яркий, запоминающийся образ.
Кроме театра и кино, путь Превера к читателю-зрителю-слушателю проложила песня. Когда в
Задолго до войны стали популярными песни на слова Превера «Опавшие листья», «Я такая, какая есть», «Песенка сардинщиц», «Охота на ребенка», «Семейное», «Ловля кита». Большинство текстов Превера, исполнявшихся Марианной Освальд, Ф. Лемарком, Мулуджи, Брассансом и др., были положены на музыку Жозефом Косма, который считал встречу с Превером для себя открытием; он мечтал писать нечто близкое брехтовским сонгам, и язык Превера, казалось ему, давал для этого большие возможности. По свидетельству современников, Жак Превер и Раймон Кено «сделали песню умной», придав ей ту интеллектуальную насыщенность, которой требовало время.
Превер-поэт далек от лирической исповедальности. Заостряя эту черту, некоторые французские критики утверждали, что Превер первым ввел в поэзию «он» вместо «я», занял позицию наблюдателя — ироничного, проницательного, сопрягающего разноречивые факты не для того, чтобы выразить свои ощущения, а просто чтобы «отстранение» показать: вот что происходит с вами. Этот тон, очевидно, и привлек Жозефа Косма, как привлек он и многих слушателей, привыкших, что поэзия — монолог смятенной души — напряженно-субъективна, и неожиданно открывших поэзию «объективную», снимающую кадр за кадром мгновения их ежедневной жизни, но в необычном ракурсе: им предлагали увидеть абсурдность их собственного поведения или их пассивности, когда ими манипулируют «сильные».
Превер-поэт, как и Превер-сценарист, брал темы с самого дна жизни; он видел голодных детей и посиневших от холода малолетних проституток; он полон симпатии к людям, спускающимся в шахты, спешащим к цехам заводов, убирающим улицы; ему, выросшему в семье ограниченного достатка (отец — мелкий служащий страховой компании), близки их заботы, беды, их человеческая отзывчивость. «На дне, среди нищих, среди мусорщиков, царят глубокие чувства», — комментирует Превер кадры документального фильма о бедняцком квартале Парижа Обервилье (1946); «Со дна раздаются самые громкие крики» — строка из более позднего поэтического сборника.
Непосильным трудом, усталостью окрашен пейзаж: когда идешь по утренней улице, «полусонный, полупроснувшийся», все вокруг видится серым и мрачным:
Пейзаж тюремный, пейзаж — затемненный...
а солнце — подобострастное, жалкое — угодливо греет только толстый карман:
лживое солнце, бледное солнце, севшее солнце,
солнце-собака, сидящая на задних лапах перед капиталом.
Надо приложить немало усилий, чтобы изменился этот пейзаж. Свое ожидание «настоящего солнца» поэт концентрирует в многократно повторенной конструкции будущего времени: полусонная пассивность рабочих оборвана чередой энергичных поступков, а капитал, напротив, уже бессилен: он «последний раз захочет помешать им смеяться»,
и они капитал убьют
и в землю его закопают —
под пейзажем нищеты, барыша и невзгод;
а потом сожгут
и с земли сметут
этот страшный пейзаж
и другой создадут,
настоящий, прекрасный пейзаж
Перевод М. Кудинова
Сначала социальный контраст увиден поэтом сквозь призму гротеска. В первой из сатирических поэм («Попытка описания обеда голов»).
[…]
Превер широко вводит в это своеобразное «описание» неологизмы: tricolorer — потрясать трехцветным флагом, andromaquer — притворяться безутешной Андромахой, jusculer — употреблять высокопарные слова. Получается обобщенный гротескный портрет чванливого, беспощадно эгоистичного Капитала.
«По необычайной мощи обвинения и сатирической страсти «Обед голов» не имеет равных в нашей литературе, — писал Г. Пикон, — с ним сопоставимы разве только отдельные рисунки Домье». Публикацию поэмы в журнале «Коммерс» активно поддержали Сен-Жон Перс, Поль Валери, Валери Ларбо, Жорж Рибмоп-Дессень.
К еще более укрупненному символу тяготеет стихотворение «Человеческий труд». Безмолвный гигант Народ (или его Труд — Effort humain)
работает, как негр, а негр работает, как он.
Народ не умеет устраиваться в жизни, у Народа не бывает разумного возраста, у Народа всегда возраст казарм, возраст каторги и тюрьмы, возраст церквей и заводских цехов, возраст пушечного мяса.
Одураченный хозяевами, он почти добровольно
forge sans cesse la chaine la terrifiante chaine ou tout s’enchaîne la misère le profit le travail la tuerie la tristesse lo malheur, l'insomnie, l’ennui...
кует себе беспрестанно цепь, чудовищную цепь, где все сцеплено: нищета, прибыль, работа, убийство, отчаяние, грусть, горе, бессонница, тоска...
Довольно скоро место символической фигуры Труда займет в поэзии Превера помешавшийся от голода безработный. Однако многие принципы стихотворной конструкции, характерной для Превера, выявились с самого начала.
Большинство произведений Превера построены с широким использованием анафоры. Строка за строкой начинается одним словом (или двумя-тремя одинаковыми словами), меняется лишь финал строки, причем с каждой новой лексической единицей (глаголы в «Попытке описания», эпитеты и дополнения в «Человеческом труде») нарастает сила гиперболы.
Повтор играет роль своеобразного поэтического рефрена: жизненный случай звучит как бы в ином регистре, превращаясь в лирическую миниатюру или обобщенную инвективу. Таковы стихотворения «На улице Сены», «Утренний завтрак», «Песня тюремщика». С социально-бытовых зарисовок благодаря рефрену снимается налет прозаического «пересказа», резче обнажен внутренний драматизм зафиксированного события. В «Скоромном утре» (в русском издании «Голодное утро») событие взято из газетной хроники: безработный, потеряв от голода рассудок, убивает прохожего, взяв у него всего два франка — на кофе с рогаликом и чаевые гарсону. Начата эта «история» размеренным четверостишием:
Il est terrible
le petit bruit de l’oeuf dur cassé sur ce comptoir d’étain il est terrible ce bruit
quand il remue dans la mémoire de l’homme qui a faim.
Он страшен,
стук этот слабый, когда разбивают о стойку крутое яйцо; он страшен, если всплывает в памяти человека, которому голод сводит лицо.
За навязчивыми видениями:
ces pâtés ces bouteilles ces conserves poissons mortes protégées par les boites boites protégées par les vitres vitres protégées par les flics flics protégés par la crainte
эти паштеты, бутылки, консервы, мертвые рыбки в консервных банках, консервные банки за стеклом витрины, стекло витрины под охраной ажанов, ажаны с дубинками под охраной страха
следует развязка:
oeuf dur café-crème café arrosé rhum café-crème café-crème
café-crime arrosé sang...
Повторены начальные строки, звучащие уже устрашающе — словно действительно кофе с ромом и сливками стало и причиной, и местом преступления, залитым кровью: — игра слов: café-crème — café-crime (кофе-сливки, кофе-преступление) , arrosé rhum — arrosé sang (с ромом, с кровью).
Превера часто спрашивали, почему «сюжеты» стихотворений он часто берет из газетной хроники. Превер отвечал: сама жизнь — есть цепь событий, готовых для газетной хроники, в ней не столько faits divers («разное» — рубрика в газете), сколько méfaits divers (méfait — преступление). Если поэзия хочет сохранить за собой право «быть самым точным, самым толковым определением жизни», ей не уйти от драматических эпизодов, из которых складывается существование человека.
«Истории», «сценки» у Превера, как правило, окрашены юмором; в этом отношении Превер достойный носитель французского национального духа. […] Превер, как истый француз, в девяти случаях из десяти подметит смешное рядом с трагическим и позволит себе пошутить, даже если ему невесело. Однако был период, когда юмор иссяк в творчестве Превера: все его стихи, написанные в дни войны, строги и как бы сознательно удалены от сферы фантазии. Резким диссонансом в творчество Превера ворвалось, например, стихотворение «Новый порядок». При этом, однако, лирика Превера военных лет хранит гораздо больше связей с его предвоенным творчеством, чем у ряда других поэтов, и вообще несколько необычна. Здесь нет описания разрушенных городов, терзаемой человеческой плоти, нет трагически-нервной интонации, столь характерной для поэтов самых разных направлений. В час исторического испытания Жак Превер воскрешает то, что было, рисует то, что будет. Варварству фашизма противопоставлено счастье мирных дней, когда под ласковым теплым дождем спешила к любимому Барбара, «такая красивая, промокшая и счастливая» («Барбара»; стихотворение положено на музыку Жозефом Косма), когда шла по улице Бюси, независимо вздернув нос, отчаянная девчонка, что «в легком платье совсем почти обнаженной казалась» («Улица Бюси теперь»). После полосы «дождя из огня и стали» неузнаваемо изменился знакомый парижский квартал:
Бедная, полуголодная улица,
хлеб у тебя отобрали,
тело твое осквернили,
песни твои задушили,
силу твою сковали
и украли веселость твою,
и алмазный твой смех свои зубы разбил
о завесу железную злобы и грязи.
Перевод М. Кудинова
Только тень от смертоносного дождя легла на картину преверовской лирики военных лет: в ней пульсирует воспоминание о радости, которую украли. Превер предпочитает не описывать настоящее, а вспоминать или заглядывать в будущее. В стихотворении, датированном августом
Так прослеживается тематическая преемственность: антивоенные стихи Превера имеют почти всегда отчетливый социальный подтекст, обнажая закон, согласно которому есть солдаты, которых убивают, и хитрые дельцы, «дающие пушки детям, отдающие детей пушкам» (ceux qui donnent des canons aux enfants, ceux qui donnent des enfants aux canons), a потому одна и та же кровь льется на поле брани и поле классовых антагонизмов (le sang de guerre, de misère, le sang des matraqués, des fusillés, des condamnés).
Кровь сражений... убийств...
кровь страданий и боли...
кровь под пыткой в тюремных застенках...
«Песня в крови». Перевод М. Кудинова
Охотно воскрешая в стихах военных лет судьбы, эпизоды, события предвоенной поры, Превер хранит верность форме сюжетного стихотворения. Знаменательно, что и более позднее политическое стихотворение Превера — «Послушайте, что говорят жители Вьетнама» — оформлено в виде сказки-притчи о счастливых вьетнамцах и жадных «монопольцах», явившихся «вылечить» целый народ «от любви к жизни».
Может быть, именно заостренная сюжетность в первую очередь и побудила исследователя Рене Лакота заключить, что дорога стиха Превера лежит далеко в стороне от перекрестка шумных поэтических течений XX в.
Действительно, в творчестве Превера как бы наперекор основному направлению французской лирики поэзия начинает брать на себя задачи, от которых принципиально отказалась даже проза (убежденность в анахронизме сюжета, разделяемая неороманистами и теоретиками текстового письма). При той размытости жанровых границ, которая существует в искусстве XX в., такой момент «обратной связи» не должен удивлять. К тому же мнение о бессюжетности лирики XX в. тоже не стоит абсолютизировать. Известно, что «история», «рассказ» возрождается в жанре стихотворения в прозе; сюжетные вставки появляются в «Зоне» Аполлинера, «Транссибирском экспрессе» и «Пасхе в Нью-Йорке» Блэза Сандрара, моментальные снимки событийных ситуаций — иногда в поэзии Рене Шара. Эти «исключения» складываются в определенную систему, позволяющую утверждать, что отдельные лирические поэты «во Франции, словно взявшись конкурировать не только с предметностью живописи, но с газетой, объявлением, афишей, рекламой, плакатом, стремятся включить в стихи максимум наглядной информации».
Бытовые оттенки сюжета у Превера так интенсивны, что требовались особые поэтические опоры, чтобы рассказ не оставался просто «информацией». Одной из таких опор и был рефрен-анафора, заставляющий не просто следить за развитием действия, но воспринимать его целостно, выявляя поэтическую аллегоричность. Не менее важны преверовская звуковая игра и сам принцип кадрирования сюжета. Событие у Превера не столько рассказано, сколько показано — чередой ярких, «видовых» снимков. А это предполагает живописность — качество, свойственное поэзии издавна и усиленное в наши дни влиянием кино. Превера по праву можно отнести к той линии мировой поэзии, в которой значимо визуальное начало; его образ сильнее тяготеет к зрительному, чем образы Аполлинера или Сандрара, чей опыт подтвердил в свое время, что поэзия хочет и может использовать язык кино.
Многие строфы Превера — целостные картины, остающиеся перед глазами после того, как перевернута страница.
[…]
Видно, как легко соединяет манера Превера различные принципы организации стиха — живописность, игру словами (présent du présent), понятиями (fraicheur — chaleur) и повтор (в данном случае повтор идентичных грамматических конструкций, цепочка назывных предложений).
Значимость каждого из этих моментов, столь характерных для поэтики Превера, менялась от стихотворения к стихотворению и даже от периода к периоду. В поздних сборниках интенсивнее звуковая игра, но чуть стерта визуальная конкретность. Однако все основные доминанты манеры Превера просматриваются от первых произведений к последним. Вот почему так программно звучат заглавия, выбранные Превером для своих книг, — «Слова» (1946), «Зрелище» (1951), «Истории» (1946), «Вещи и прочее» (1972). Поэт, совершенно не склонный что-либо комментировать или выступать с эстетическими манифестами, этими названиями как бы сам обозначил свою цель: свободно играя на всех регистрах французского языка, рассказать-показать «историю» — одну из жизненных драм, к которым часто равнодушны люди, но которые должна высветить поэзия.
Эти линии поисков необходимо воспринимать в неразрывном единстве, потому что только на их скрещении и возникает целостное своеобразное явление — поэзия Превера. Столь своеобразное, что исследователи имели право утверждать: «Имя Превера почти перестало быть именем собственным; это скорее имя нарицательное; du Prévert — это значит сразу злая сатира и теплый юмор, обыкновенные истории и фантастические приключения.
Стихи Превера хорошо «смотрятся» — как кадры фильма, но одновременно они отлично «слушаются», даже рассчитаны на слушателя; в них велика роль звучания, воспринимаемых на слух ассоциаций и каламбуров. Нередко стихотворение Превера читается как своеобразный музыкальный этюд, подхватывающий или варьирующий тот или иной мотив. Звуковой игре Превера посвящено специальное исследование, автор которого считает pun (англ.: каламбур) основным элементом стиха Превера, заостряющим критическое отношение поэта и к законам буржуазного общества, и к различным словесным клише.
Назвав свою первую книгу «Слова», Превер хотел заострить мысль о необходимости слышать слово. Конечно, Превер не единственный из французских поэтов, мастерски ведущих звуковую игру (достаточно вспомнить, например, Рэмона Кено). Но ни у кого все-таки игра словом не была столь прицельна, столь последовательно и гармонично подчинена идейно-художественной задаче: показать социальный разлом общества и красоту естественных человеческих чувств, вступающих в конфликт с миром наживы. Такой высокой смысловой насыщенностью игра словом до Превера не обладала.
Превер с удивительной проницательностью разламывает слово, чтобы уже в нем — атоме человеческого бытия — увидеть столкновение полярных сил. Так появляются, например, строки, где историческая роль генералов соотнесена с принудительной вербовкой солдат (le rôle — enrôlent), тяжкий труд чернорабочего (main d’oeuvre) — с бездельем миллионера (main d’or — буквально «золотая рука»); так появляется образ оставшегося без работы работника (manoeuvres désoeuvrés), которому удается есть хлеб насущный лишь раз в неделю (relativement hebdomadaire).
Превер отдает свои симпатии людям, встающим рано, хотя они не ждут от грядущего дня счастья (de bonne heure — le bonheur), он призывает свалить тех, кто хотел бы помешать биться сердцу революции (d’abattre ceux qui veulent l’empêcher de battre...).
Каждый из двух социальных миров имеет в поэзии Превера свой набор действий-глаголов. Одни доят коров, поят лошадей, выдувают стекло, метут улицы, выкручивают белье, отбивают лен, рубят лес, режут свиней, смеются и пляшут; другие отращивают животы, пьют вино, разглагольствуют, притворяются добрыми миротворцами, посылая других на смерть.
В первой группе — как ни странно — ключевыми можно считать глаголы rire et danser. Другие действия труженик вынужден совершать, а смех и танец — это то, что он делает по желанию, со свободной душой, раскрепостившись, хоть на час, от тяжкой повинности работы. Rire et danser — действия, в которых сосредоточен талант жизнестойкости, духовная основа.
Вот почему едва ли не самое большое преступление, на которое может осмелиться Капитал, — «помешать людям смеяться». Преверовский рабочий, отправляясь в цех, прекрасно отдает себе отчет в том, ради чьей прибыли отказывается он сегодня от танца, от песни, от солнца. И подобно лирическому герою Маяковского, запросто общавшемуся с Солнцем, герой Превера у ворот завода
Обернулся он и взглянул
На солнце круглое, красное,
И на небо ясное.
И, прищурившись, молвил рабочий:
— Скажи, товарищ Солнце,
Между прочим,
Разве это не дребедень —
Хозяину взять и отдать
Такой день?
Перевод М. Кудинова
Концентрированным выражением классовых конфликтов является для Превера война, на которую гонят — как стадо — молодежь.
«Много воды утекло И не меньше крови» — так «развернута» Превером банальная поговорка о быстротечности времени.
В книге «Дождь и хорошая погода» Превер, подхватив мотив глагола viser, обращается к щедрым мирным временам, когда визой будет только выражение лица (visa de visages) и канут в Лету «безликие жизни» (vies dévisagés).
Практика преверовской оркестровки стиха подтверждает, что момент звуковой игры или рождение неологизма «обычно является как бы... кульминационным пунктом в авторском суждении», т. е. в развитии поэтической мысли того или иного стихотворения.
Вслушиваясь в слово, Превер схватывает не только перекличку его с другими словами, но и различные смысловые оттенки, играя на сочетании буквального и вторичного (метафорического) значения.
Оратор, лицемерно взывающий к миру, выпускает из себя велеречивую пустую (creuse) фразу и ...падает (creuser — рыть, прорывать канаву) в нее; нечаянно открыв рот, он обнажает «нерв войны, торчащий из-под вывалившейся пломбы его умиротворяющих разглагольствований» («Речь о мире»); маршалы наращивают число захваченных стран и животы (prit du ventre et beaucoup de pays) и т. п.
Особенно часто извлекает Превер из обычного — стертого — контекста глагол faire (делать), который, являясь во французском языке и основным, и вспомогательным, открывает широкое поле для сшибки значений.
Стало хрестоматийным стихотворение Превера «Семейное», целиком построенное на вариациях этого глагола (la mère fait du tricot, le fils fait la guerre...) :
Мать занята вязаньем,
Сын ее занят войной.
Мать считает нормальным порядок такой.
А отец?
Как проводит отец свой день трудовой?
Отец — человек деловой,
Жена занята вязаньем,
Сын занят войной,
Он же в дела ушел с головой.
Перевод М. Кудинова
М. Кудинов, выявляя этот параллелизм, вместо «вяжет» (fait du tricot) или «воюет» (fait la guerre) предложил «занята вязанием», «занят войной», чем — в духе Превера — подчеркнул обыденность не только вязанья, но и войны. В результате все действия — вязанье, война, погоня за прибылью — как бы равноправны и оттого их соседство особенно зловеще. Чтобы резче оттенить ценность жизни, которой грозит война, Превер «разбирает» привычные идиомы, составляя свои, новые: вместо ivre mort (мертвецки пьян) появляется ivre-vivaüt — высшее напряжение праздничной энергии, союз с красотой. Дополнив поговорку «несчастье не приходит одно», Превер придает ей противоположный смысл: «Несчастье не приходит одно: за ним появляется радость». Иронизируя над словосочетанием, ставшим эмблемой экзистенциализма, — «Смерть в душе» (название одной из частей романтического цикла Ж.-П. Сартра), Превер приветствует радость присутствия «жизни в теле, тела в жизни» (...n’avait pas la mort dans l’âme mais la vie dans le corps et le corps dans la vie). Заставляя слово звучать наново, Превер пишет о любовниках, которые любят, о влюбленных, которые любимы, о любви, которую они вместе «любят», т. е. которой дорожат (amants aimants; amoureux aimés; amour aimé). Как высший миг счастья рисуется эта почти пасторальная идиллия:
Nous vivions d’amour et d’eau fraiche nous nous aimions dans la misère nous mangions notre linge sale en famine et sur la nappe de sable noir tintait la vaisselle du soleil Nous nous aimions dans la misère nous vivions d’amour et d’eau fraiche j’était ta nue propriété.
Напоены любовью и свежей водой, мы любили друг друга в бедности, утоляя голод ласками.
На скатерти черного песка звенела посуда солнечных лучей.
Мы любили друг друга в бедности,
Напоены любовью и свежей водой,
Я была твоей нагой собственностью.
Стихи, подобные приведенным выше, при всей их изящности могли бы принадлежать и другому поэту, не обязательно преверовского склада. Чисто преверовским является скорее иной ракурс художественного видения той же лирической гармонии. Каждодневное, примелькавшееся Превер превращает в драгоценный подарок судьбы.
Детское удивление каждым мигом бытия связывали в поэзии Превера с традицией Туле, Карко, Дерема. Конечно, сопоставление правомерно; споря с мятущимися, трагически надломленными героями, так часто встающими со страниц французской лирики, герой Превера снова влек к себе здоровым и мудрым вниманием к незатейливым радостям бытия, как в стихах Карко или Дерема предыдущих десятилетий. И все-таки эти линии пересечений не обнаружат своеобразия Превера, чей поэтический мир в целом гораздо сложнее, трагичнее, гораздо решительнее открыт историческим катаклизмам эпохи и личным человеческим трагедиям.
Чтобы почувствовать различие в оттенках мироощущения, достаточно поставить рядом характерную для фантэзистов строку: «Каждая минута ценный дар» — и афоризмы Превера: «Когда жизнь ожерелье, каждый день — жемчужина», «Когда жизнь игра — каждый день — карта»; «Жизнь нелепо устроена, но одновременно она всегда праздник», — привычно играет Превер словами faite (устроена) и fête (праздник).
Превера называют антиинтеллектуальным поэтом на основании тех инвектив, которые позволяет он себе по адресу «интеллигенции», «идей» и «мыслей». Однако слишком много в творчестве Превера остроумия, блеска, даже изощренности, чтобы на веру принимать его протест против мысли.
Преверу отвратительна лишь мысль засушенная, идея затасканная, интеллигентский снобизм.
Le monde mental Интеллектуальный мир почти моментально
Ment Лгать начинает
Monumentalement. Монументально.
Перевод М. Кудинова
— издевательски пишет поэт; именно такие книжные патриоты, «завязшие на Елисейских полях» (enlisés dans leurs champs élysés) н, легко превращаются в роботов, в «пишущие машинки, счетные машинки, мечтающие машины, машины, занимающиеся любовью или реализацией своих мечтаний» (Amour à la robot). Умничающие роботы не умеют ни смеяться, ни танцевать, вместо танца (danse) они входят в транс (transe); это и называется, — шутит Превер, — transcendance, т. е. трансцендентность.
Высмеивая логику вымороченной мысли, Превер изощряется в звуковой игре, нанизывая, как бусы, «заумные» слова и неологизмы.
Dans les coulisses du progrès des hommes intègres poursuivent intégralement la désintégration progressive de la matière vivante.
За кулисами прогресса интегрируемые люди интегрально занимаются прогрессирующим разложением живой терпящей бедствие материи.
Лишь однажды Превер как бы нечаянно соединяет слово penser (думать) со словом danser (танцевать), которые обычно фокусируют в его поэтической вселенной два противоположных полюса. Этот союз возникает, когда поэт говорит о женщине: «Женщина — самая мощная мысль, рожденная природой, но это мысль танцующая» (la femme est une pensée la plus forte de la nature, mais c’est une pensée dansante).
Превер отвергал упреки в антиинтеллектуализме напоминанием о равнодушии, которое демонстрируют «функционеры от науки» по отношению к мыслям, родившимся в «головах тех, кого принято звать маленькими людьми». Сам он, напротив, с подлинным уважением воспринимает «идеи», поднимающиеся снизу. Откликаясь на революционную ситуацию мая
Запирают на засов надежду.
Хотят упрятать в монастырь идеи.
Так оценил Превер действия полицейской машины, двинутой государством против недовольных. Но заточить идеи невозможно:
Истины плененные,
Молодежь с забитым кляпом ртом.
Закрывают!
Если молодость рот откроет, то силой хода вещей и силой порядка рот ей заткнут.
Закрывают!
Но молодость, сбитая с ног, дубинкой избитая, истоптанная, от газа ослепшая,
поднимается, чтобы настежь открыть двери.
двери ветхого лживого
прошлого.
Открывают!
Открывается жизнь, солидарность и свобода ясности.
«Май 1968»
К мысли, вскормленной реальностью, Превер внимателен, но презирает «старые задние мысли, пробравшиеся в авангард идей». […]
В сфере машинно-обезличенной техники и пустопорожней лжеучености находится у Превера и формалистическое, чуждое жизни искусство. Выше говорилось, что Превер избегает развернутых эстетических манифестов, но как поэт он часто затрагивает этот мотив. Достаточно вспомнить такие стихотворения, как «Жалоба Венсена», «Школа изящных искусств», «Как нарисовать птицу», «В наши дни», «Арань-художник», «Волшебный фонарь Пикассо», «Абстрактное искусство», чтобы почувствовать напряженность размышлений Превера о художническом долге. «Поэтическим искусством» называют стихотворение «Как нарисовать птицу». Нарисована может быть только клетка; сама птица должна прилететь из леса. Когда она освоится, надо осторожно стереть прутья клетки и ждать, затаив дыхание, начнет ли птица петь.
mais s’il chante c’est le bon signe
signe que vous pouvez signer
— снова играет Превер словами: signe — signer, только если птица запоет, с гордостью может мастер поставить на полотно свою подпись.
Превер, не щадя сатирических красок, издевается над художниками, глубокомысленно извлекающими из увиденного некую «потустороннюю суть». Такой «мэтр» «абстрагирует корову (глагол abstraier здесь одновременно играет роль глагола «доить» — traire), чтобы извлечь молоко, а из молока извлечь травинку, сжеванную коровой» («Art abstrus»). А в другой раз, раздавив на полотне муху, тратить все остальное время «работы» на изобретение названия: «Надежда»? «Грусть»? Превер подсказывает: если полотно по глупости купят, его стоит назвать «Подарок» («Арань-художник»). Разъяв идиому sourd-oreille (тугой на ухо, лишенный музыкальности), Превер ставит рядом с ним идиомы-неологизмы: oeil-aveugle и bras manchot, дорисовав таким образом портрет художника, создающего абстрактные «шедевры»: он не только глух, но вдобавок еще слеп, безрук («В ваши дни»).
Превер беспощаден к своим коллегам, уверенным, будто шедевром станет только нечто умопомрачительно непонятное, но мы ошиблись бы, если бы увидели здесь борьбу поэта за простую копию.
Два произведения, посвященных Пикассо (оба датированы
Такой взгляд на мир, по мнению Превера, берет за основу идеи, но идеи,
Обезвреженные радостью и наслаждением,
Разъяренные идеи, опрокинутые неистовым цветом любви.
В их движении возникает Вновь обретенный мир,
Мир, который не терпит ни споров, ни объяснений,
Мир, не умеющий жить, но умеющий радоваться жизни.
Мир трезвый и пьяный,
Мир грустный и веселый,
Нежный и жестокий.
В причудливых формах предметов и человеческих тел, запечатленных Пикассо, Превер увидел процесс своеобразного воскрешения самого земного из миров. Такой путь абстрагирования не испугал поэта, и он с готовностью принял сторону Пикассо против осторожного «художника реальности», страшащегося и искры фантазии. В стихотворении «Прогулка Пикассо» такой художник тщетно пытается «просто» скопировать яблоко, а оно «загадочно тихо крутится на тарелке, совсем не двигаясь». Пикассо посмеялся над незадачливым художником и съел яблоко, а тот, удивленный, увидел «обескураживающе реальные зернышки» плода: бесстрастная копия оказалась дальше от реальности, чем фантастический мир Пикассо.
Эти оригинальные стихотворения-манифесты помогают соотнести творчество Превера с другими потоками французской поэзии. Представляя собой явление действительно специфическое, которому трудно подобрать соответствия, поэзия Превера вместе с тем характерна для движения поэтики XX в. Ею отражены и существенные тенденции свободного стиха, укрепляющего свою поэтическую основу с помощью рефренных повторов, и взаимодействие языка поэзии с языком кино, и стремление сделать такой язык максимально «звучащим». В поэтике Превера эти разноплановые тенденции совместились, породив интереснейший синтез.
Превер как бы сознательно избегал крайностей, которые подстерегали поэзию на пороге любого из этих увлечений: он легко выстраивает ряды изощренных метафор, но не очень доверяет им, чувствуя, что для читателя нарастающая изощренность грозит обернуться пустотой; он мгновенно лепит «видовой» образ, но помнит, что поэзия — это в первую очередь искусство музыкального слова и, оставляя пассивным слух, она обезоруживает самое себя; мастер свободного стиха, унаследовавший богатую традицию, Превер бережет свой свободный стих от совмещения с прозаической речью и умеет создавать особую мелодию, основанную на смелых ассонансах, вольных рифмах, щедрой игре слов.
Предпочитая простое, из разговорной речи выхваченное слово, Превер охотно вступает и в область исторических, литературных ассоциаций, но при любых поворотах поэтической мысли стремится таинственное сделать ясным, перевести на язык повседневности.
Он владеет многими техническими секретами, которыми гордились (или гордятся) самые формалистические из французских поэтических школ, но его главный секрет — как заставить говорить Слово, чтобы его услышали миллионы читателей, не разгадан и не может быть разгадан никем из эпигонов формализма.
Исток новаторства Превера — в смысловой насыщенности «игровых» элементов стиха. Именно поэтому несостоятельны попытки сопрячь опыт преверовской звуковой игры с автоматическим письмом сюрреализма. Впрочем, такие попытки — редкий казус даже во французском литературоведении, обычно склонном родословную чуть ли не всех завоеваний поэзии XX в. вести от сюрреализма.
В случае с Превером исследователи чаще подвергают эту связь сомнению. Сам Превер, вспоминая время, когда он был членом группы Бретона, с улыбкой уточнял, что «действовал тогда охотнее кулаками, чем пером». Его пленяло в сюрреалистских вечерах то, что «приходили сюда люди самые разные. Сам я ничего не делал, ничего не писал, но участвовал в дебатах». И хотя в старости Превер называл сюрреализм «самым симпатичным из ,,измов“», он высмеял его как «интеллектуальную биржу, где оценки были совершенно произвольны и где игра на понижение-повышение целиком зависела от причудливых перепадов моды и субъективных вкусов».
Действительно, только исследователь, довольствующийся поверхностным сходством, мог бы назвать детьми одной поэтики ошеломляющие «обобщения» типа «мертвая крыса в мозгу желудка» (Жорж Рибмон-Дессень) и преверовские афоризмы, в которых отпечатались разные грани сложнейших общественных конфликтов нашей эпохи.
Мы найдем в его поэзии гораздо больше схождений не с текстами поры расцвета сюрреализма, но с творчеством поэтов, активно направлявших после войны поэзию к каждодневной жизни, к политической реальности, к герою, увиденному среди простых тружеников, — с творчеством Элюара, Арагона, Гильвика, Кено, Марсенака, Добжинского и др.
Отвергая и путь беспредметного искусства, и путь натуралистического копирования, Превер нашел свою, особую форму реалистической поэтики. Его поэзию не назовешь философской (как, например, поэзию Поля Элюара или Рене Шара), хотя она и настраивает человека на размышления о критериях оценки бытия; его образы редко несут в себе заряд субъективного лиризма (в отличие, например, от аполлинеровских или арагоновских), но далеки и от той формы вещественно-объективного видения мира, которая преломилась (правда, контрастно) у Гильвика или Франсиса Понжа. Поэзия Превера дает голос разным героям, пришедшим прямо из жизни: безработный и миллионер, туповатый мещанин, глава семейства, и поднаторевший в мастерстве демагогии оратор, сухой педант и пленительная в своей дерзости девчонка, отстоявшая право «быть такой, какая есть». Эта череда героев — феномен, необычный для французской современной поэзии, — окрашивает реалистическую манеру Превера в своеобразные тона. Хотя «герои» поэзии Превера попадают порой в неправдоподобные ситуации, едва ли стоит вслед за Жаком Кевалем считать на основании этого, что «Превер, конечно, не реалист». Для поэзии правдоподобие еще более сомнительный критерий, чем для прозы.
Палитра реалистической поэзии XX в. богата: ее не ограничить ни лирической исповедью, ни вольной вязью деталей, подмеченных в круговороте жизни, ни цепью метафор, отлившихся в философские формулы-афоризмы. Превер не повторил ни одну из дорог, пройденных французской поэзией; своеобразие преверовского голоса, обладающего даром «звучать» и быть услышанным, ценили даже те современники Превера, которые сами развивались как художники совсем в ином русле, — Анри Мишо и Жорж Батай, Сен-Жон Перс и Тристан Тзара. Превер, дорожа похвалами мэтров французской словесности, больше всего радовался тому взаимопониманию, которое установилось у него с читателями. «Структуралисты, — иронизировал поэт, — называют читателей «дикой критикой». Однако именно читатели лучше всего разбираются в литературе, если по-настоящему любят ее, не пытаясь прослыть знатоками». Может быть, именно потому, что он ориентировался на «дикую критику», не ожидая от нее снисходительности, Превер создал произведения такой художественной силы, что они были сразу замечены и «знатоками».
Стремление быть услышанным разными слоями общества отнюдь не обязательно заставляет снижать эстетические критерии. Доказательство тому — не только творчество Превера, высоко ценимое самыми взыскательными умами, но и такой особый феномен, как современная французская песня.
Л-ра: Балашова Т. В. Французская поэзия ХХ века. – Москва, 1982. – С.306-333.
Произведения
Критика