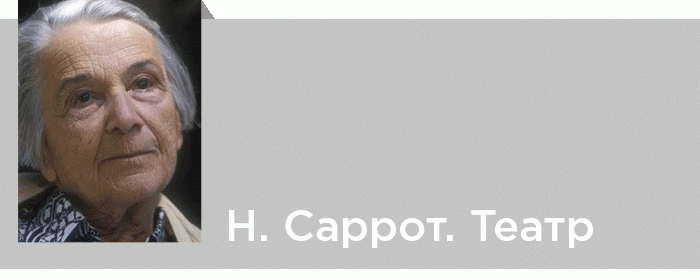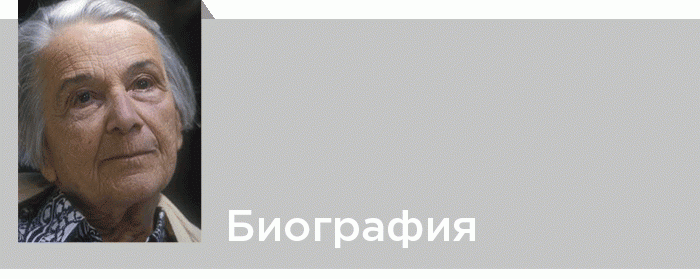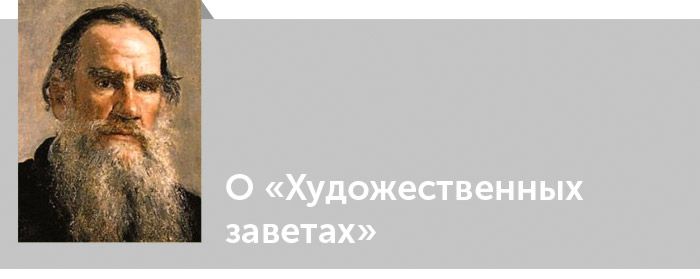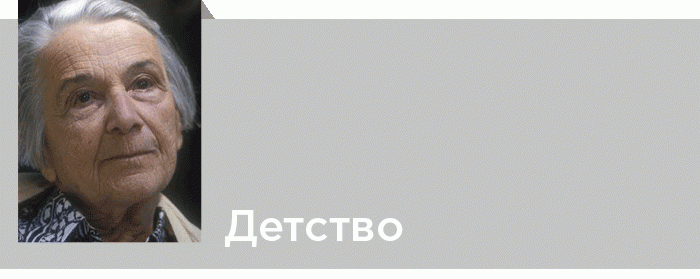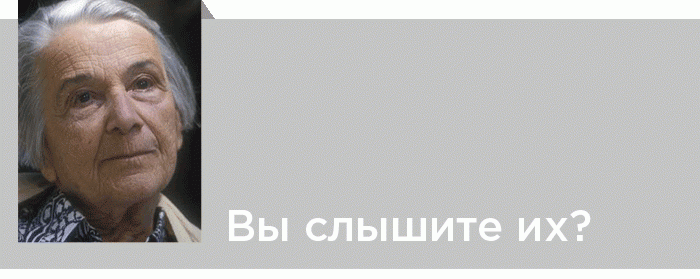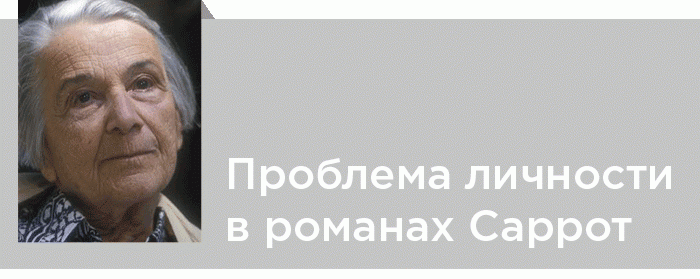Физиология успеха (О романе Н. Саррот «Золотые плоды»)

В. Лакшин
Известность имени автора иной раз обгоняет знакомство с его книгами. Натали Саррот принадлежит к числу тех западных писателей, о которых мы были наслышаны прежде, чем стали их читать.
Имя Натали Саррот встречалось в статьях наших критиков, полемизировавших с так называемой «алитературой» во Франции, авангардистским «новым романом». Натали Саррот едва ли не самая заметная фигура этого направления, и защитники жанра романа не раз укоряли ее как одного из разрушителей почтенной и заслуженной литературной формы. С другой стороны, Н. Саррот известна своими прогрессивными взглядами.
Однако о книгах ее мы знали до сих пор понаслышке, если не считать случайных отрывков из романа «Планетарий», появившихся несколько лет назад в «Иностранной литературе», «Золотые плоды» — первое серьезное знакомство нашего читателя с этим автором.
Нелегко войти в эту густо психологическую, как перенасыщенный раствор, прозу. Но пообвыкнув и освоившись с непривычной для нас литературной манерой, мы с интересом начинаем следить за существенным содержанием книги.
Название «Золотые плоды» забрано автором в кавычки. Роман под таким названием — главный герой книги, а его судьба составляет сюжет сочинения Н. Саррот. Случай более чем странный: книга о книге, роман о романе, история мнений, толков и критических суждений о нем, биография успеха книги — с ее начальной безвестностью, извлечением из небытия, нарастающей славой, триумфом, охлаждением к ней и, наконец, забвением.
Такой роман, по правде говоря, должен бы отбить у критика охоту рассуждать о нем. Лукавство книги в том, что она будто заранее предвосхищает возможные разнотолки о себе и того, кто решится ее оценивать, ставит в положение человека, как бы втянутого в сюжет романа и продолжающего его в натуре.
Тем не менее я рискну рассказать, о чем я думал, читая «странную» книгу Н. Саррот.
Внутренняя жизнь литературы и того, что происходит рядом с ней, вообще говоря, мало благодарный предмет для искусства. Когда художник творит, все время оглядываясь на себя, это чаще всего признак бедности впечатлений. Однако интерес книги Саррот в том, что она не поэтизирует артистическую среду, а подвергает ее скептическому анализу.
«Золотые плоды» больше напоминают литературный памфлет, психологический трактат, облеченный в изысканную художественную форму, чем собственно роман. Но не все ли равно, как назвать то, что умно и точно написано? Рационализм и дробность психологического письма, присущие школе «нового романа», предрасполагают к изображению состояний, но не характеров, положений, но не обстоятельств. Эти ресурсы, возможно, оказались бы бедны для более широкого и «позитивного» сюжета, но для иронического анализа окололитературных нравов пришлись как раз впору.
Книга Саррот — острая, язвительная и умная — тесно связана с французской традицией. Она пришла из той же литературы, что дала нам племянника Рамо и господина Бержере. Дело специалистов по французской литературе поставить эту книгу в связь с другими произведениями Н. Саррот и всей школы «нового романа», указать на то, какое движение означала эта работа в ее творчестве.
Быть может, при этом обнаружится, что «новый роман» в лице Натали Саррот как бы бросает здесь ретроспективный взгляд и на собственную судьбу, досадуя на непостоянство публики и критики и пытаясь оценить со стороны свою бурно вспыхнувшую, а ныне отчасти пригасшую славу. Ведь апогей интереса к «новому роману» в самом деле миновал. Позади опьянение литературных мэтров его оригинальностью и новизной, преувеличенные восторги, надежды и похвалы... Будь автор более самодоволен и поглощен своим успехом — охлаждение публики могло бы больно задеть его. Искренний и серьезный талант позволяет Натали Саррот критически оглянуться на свое окружение и на самое себя, угадать цену сенсационного успеха и неуспеха, создаваемого прессой и гостиными.
Впрочем, все это лишь догадки, и о том, в какой мере в «Золотых плодах» отразились отношения «нового романа» с публикой и критикой, лучше скажут знатоки. Нас больше занимает существенный объективный смысл этого очерка нравов.
Натали Саррот тонко подметила и изобразила самый процесс зарождения мнений о книге, постепенного образования, затвердения и падения литературных репутаций. Объектом ее исследования и насмешки стала среда людей искусства, живущих в замкнутом мире цеховых интересов, и еще более специфическая окололитературная среда.
Иногда искусственно подогретый успех той или иной модной книги на Западе мы склонны толковать упрощенно, лишь как продукт рекламной шумихи, раздуваемой в коммерческих целях. Между тем коммерция и реклама нередко идут по стопам приговоров, вынесенных в элитных артистических кружках, среди столичных знатоков, ценителей изящного. Эти приговоры мгновенно подхватывает и разносит глядящая им в рот приближенная публика, а там уже они становятся общим достоянием.
Заслуга Саррот не в том, что она указала на это известное и раньше явление, а в том, что, как естествоиспытатель, воспроизвела его, будто в колбе, в своем романе и на тонком срезе исследовала патологию и физиологию литературного успеха.
С плохо скрытым ядом говорит Саррот об ужасном суеверии, окружающем искусство, попавшее в моду, о случайности и ненадежности репутаций, оценок, какие определяют нередко успех книги, фильма, спектакля, картины художника.
Искусство не терпит утвержденных оценок и официальных приговоров. Но своим фанатизмом обладают и кружковые, неофициальные мнения, готовые навязать себя принудительной силой. Кружковая художественная среда выдвигает своих божков, своих идолов, поклоняясь им часто с полной безотчетностью, лишь потому, что так принято и освящено местными законодателями вкусов.
На первых порах репутация произведения может колебаться — приговор не произнесен и еще возможна свобода выбора. Но вот, обрывая минуту молчания и растерянности, кто-то, быть может лишь более других самонадеянный и дерзкий, произносит слово одобрения или хулы, к нему присоединяется один, другой, третий — и словно электрический ток пробегает по избранной публике, заставляя всех повернуть головы в одну сторону.
Натали Саррот прекрасно показывает, как возникает террор кружковых мнений, как захватывают людей «массовые галлюцинации» взятых со слуха оценок и похвал. Тут признают только «своих» и с высокомерным презрением третируют простаков, претендующих на самобытность суждений. Тут существует немой уговор: не шокировать общество, петь, как все, и если ты на это не годишься, у тебя почти вымогают одобрение тому, что здесь общепризнано. Трудно в иные минуты не поддакивать, не хвалить то, что хвалят вокруг, и случается — даже умный, серьезный человек, словно затиснутый в угол, начинает нехотя лицемерить.
В этой постоянно эстетически возбужденной толпе безопасно, пожалуй, проявлять свою точку зрения лишь в одном — в выборе все более звонких определений: «первоклассно», «грандиозно», «потрясающе», «неслыханно». Не худо также выкопать какую-либо малозаметную деталь, проходной абзац или страницу и горячо настаивать на их особой глубине и проникновенности. «Взгляд и нечто», по гениальному слову Грибоедова, все еще имеет неотразимую власть над тонко чувствующими душами. Примеры тому в изобилии дает роман Натали Саррот. Так, если пошла мода на Курбэ, надо не только спешить присоединиться к этому увлечению, но еще и разыскать в самом дальнем закоулке выставки никем не замеченную «голову собаки» и демонстрировать ее всем как личное свое открытие. Ибо вся штука в том, чтобы, подчиняясь гипнозу общего мнения и больше всего боясь отстать от других, в то же время продемонстрировать свою индивидуальность, отличиться хотя бы в малом — мол, и мы не лыком шиты.
Ужасное разочарование ждет того, кто ожидает получить в этой избранной среде объяснение и обоснование ее приговорам. В самом капище ума и вкуса — полнейшая безотчетность мысли, подчинение авторитетным предрассудкам, когда репутация — выше создания, имя автора — важнее его книги, фильма, полотна.
В ироническом изображении Саррот преследование мнений, расходящихся с суждениями кружка, предстает в виде драматической, едва ли не кровавой борьбы. Слишком дерзкое высказывание — выстрел,— и несогласный падает в крови! Накал страстей, возникающий из-за несогласия безумца с господствующим вкусом, Натали Саррот отмечает неожиданным образным рядом: в перипетиях отвлеченного спора ей чудятся ловушки, западня, тюрьма, пытки, нападение стаи волков и т. п.
Эти трагикомические сравнения оправданы. Насилие над вкусом вызывает в конце концов ненависть не меньшую, чем любой иной вид насилия над человеческой личностью. Бывает даже, что внутреннее сопротивление рождает в человеке желание сказать наперекор, вызывает дерзкий эпатаж, нарочитую грубость, а в критике ведет к тому, что Тургенев называл «обратным общим местом». К несчастью, за этим чаше всего сквозит то же желание утвердить себя, свое мнение, а не истину. А истина скромна, говорит твердо, но тихо и может показаться — почти всегда даже кажется в этой среде — неумелой, неуместной.
Вернемся, впрочем, к «Золотым плодам». Только немногие в романе Натали Саррот решаются поначалу сопротивляться общему дурману, наваждению принудительных похвал. То, к чему одних приводит размышление, для других — непосредственная реакция чувства, инстинктивное отвращение к фальши. Жан и его подруга хотят быть независимыми, сохранить верность непосредственному восприятию — и, бог мой, как трудно это им дается. В чем, в сущности, они виноваты? Им не нравятся «Золотые плоды» — и только, но их положению не позавидуешь. Мало того, что они рискуют быть уличенными в дурном тоне, отсталости, провинциальности — на них мгновенно обрушивается каскад привычных отговорок и софизмов. Вы говорите, что это место банально? А что, если автор как раз и добивался такого эффекта! Вы требуете разъяснить вам его достоинства с книгой в руках? Полноте, вправе ли мы вообще истолковывать искусство? Разве истолковать — не значит профанировать его?
Храбрецов, несогласных с большинством, давят высокомерием, запугивают и принуждают думать на свой лад. Их пытаются склонить к тому, что в области искусства нет решительно никакой объективной опоры для суждений и оценок. А раз так — значит, надо смирить свою заносчивость и, чтобы не попасть впросак, меньше верить себе и повнимательнее слушать тех, чей вкус на нынешний день авторитетен.
Таковы, к примеру, научные старички, поверх голов непосвященных ведущие свою беседу, нашпигованную терминами структурной поэтики, последним словом критической мысли. В воздухе плавают обрывки фраз: «непространственная структура», «семантическая модель», «герметичность». Эти дальние отголоски точных наук призваны на сей раз оправдать и освятить то, что неиспорченный вкус отказывается воспринять.
Лучше уж ничего не делать, чем делать ничего, — это суждение, если не ошибаюсь, принадлежит Толстому. Похоже, что ценители «герметизма», схватившие со слуха термины строгой лингвистики, в содружестве с самими его созидателями не покладая рук заняты тем, что делают ничего, производят мнимости и мнимо пытаются их объяснить.
Насмешка Натали Саррот над «герметической» литературой и «герметической» критикой показывает, как остро ощущает она исчерпанность и безысходность формализованного до самого дна творчества. Но также не по ней и мертвое академическое искусство, имитирующее классическую строгость и ясность.
Как все же научиться понимать, что хорошо, что дурно в искусстве? В чем искать опору своему чувству изящного? Как распознать, где живое искусство, где мертвое его подобие, где отважная новизна, а где спекуляция и шарлатанство?
На эти скептические вопросы сама Саррот не дает прямого ответа, но упорно внушает читателю: верь себе, непосредственному чувству и здравому размышлению, не поддавайся игу чужих мнений, пристрастным суждениям гостиных и кружков. Идя чуть дальше, придется признать, что критериями, почерпнутыми внутри искусства, доказательствами «от искусства» тут не обойдешься. Следующим шагом неизбежно должно стать движение искусства к жизни, проверка искусства жизнью.
Что и говорить, искусство играет еще прискорбно малую роль в жизни большинства людей на земле. Но есть на земном шаре и такие — не столько географические, сколько социальные — зоны, точки, уголки, где его, похоже, слишком много, где люди объелись искусством, пресытились им. В этих избранных кружках произвольность восторгов и похвал, обращенных к очередному шедевру вроде «Золотых плодов» Брейе, легко сменяется столь же немотивированным охлаждением и презрением ко вчерашнему кумиру, так что находить в нем какие бы то ни было достоинства становится попросту неприличным.
Когда не думают о жизни, когда единственной реальностью становятся само искусство и суждения о нем — неизбежно возникает «заговор мнений», кастовая нетерпимость, ожесточенность принудительного обращения в свою эстетическую веру.
Конечно, движение искусства к жизни не надо понимать плоско. Дело во всяком случае не в требовании лишь внешнего жизнеподобия. Важнее вот что: искусство может соединять человека с жизнью или разводить его с нею. Одни ценят то, что соединяет, дает возможность лучше, вернее понять окружающий нас мир, самого себя и иных людей; другие — то, что разъединяет, отвлекает, уводит от реальности, навевает «сон золотой» или, ближе к нашему сюжету, кормит золотыми плодами, от которых во рту остается металлический привкус.
И вот это второго рода творчество все меньше устраивает Натали Саррот. В комнатную атмосферу, где душно от теоретических споров, эстетических тонкостей, психологических нюансов и голых абстракций, вдруг беззаконно и непрошено является напоминание о живой плоти мира: пробившейся молодой траве, первом нежном запахе крокуса, доверчивой детской ручонке. Пусть эти образы не столь крупны и «масштабны», они приносят с собой свет и тепло живой жизни, напоминают о большом мире, где есть беды, борьба, горе, страдания и радости иные, чем те, что занимают людей, поглощенных выяснением смысла «жеста с шалью» в гениальном романе Брейе.
Взбунтовавшийся против традиций «новый роман» думал, что он порывает все связи со «старым романом». На самом же деле выходит так, что он достигает истинного успеха лишь в той мере, в какой своими утонченными средствами приближается к воплощению широкого мира человеческих интересов, социальных и нравственных идей, всегда занимавших внимание великих романистов прошлого.
Быть может, книге Саррот и не суждена у нас широкая читательская известность: для этого она все же слишком психологична и «умственна», слишком специфичен ее сюжет. Но вместе с тем можно не сомневаться, что многие прочтут ее не только с интересом, но и с пользой. Особенно должна она запомниться тем, кого более всего касается, — критикам, литераторам, вообще людям художественной среды.
Ведь нельзя сказать, чтобы история «Золотых пледов», характерная для культурной жизни западного мира, при многих очевидных различиях, была бы вовсе не актуальной для нас. Конечно, если взять всю совокупность литературно-общественной жизни, можно сказать, что решающее мнение о книге образуется у нас не в салонах и кружках; оно создается, как правило, куда менее стихийным, более целенаправленным и регулируемым образом. Но разве не бывали мы при этом свидетелями искусственного вздутия и ужасающего падения литературных репутаций, критических обольщений, увлечений и разочарований?
Так или иначе, но после романа Натали Саррот, думаю, уже не надо будет длинно объяснять: такая-то книга (или спектакль, или фильм) с раздутой, искусственной славой была лакомой приманкой для многих читателей и критиков, но прошло время, и вот уже никто не решится сказать о ней доброго слова... Достаточно произнести: «Это история «Золотых плодов» — и вас мигом поймут.
А если так — значит, автор в своем остром очерке литературного быта подметил и выразил какую-то сторону жизни с убедительной законченностью и рельефностью.
В этом я вижу главное достоинство книги, с которой наш читатель имеет теперь возможность познакомиться в виртуозном по словесному мастерству переводе Риты Райт.
Л-ра: Новый мир. – 1968. – № 4. – С. 169-173.
Произведения
Критика