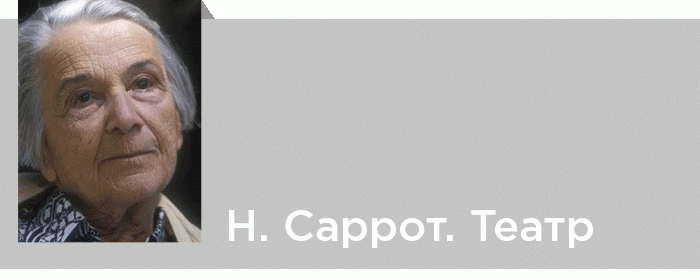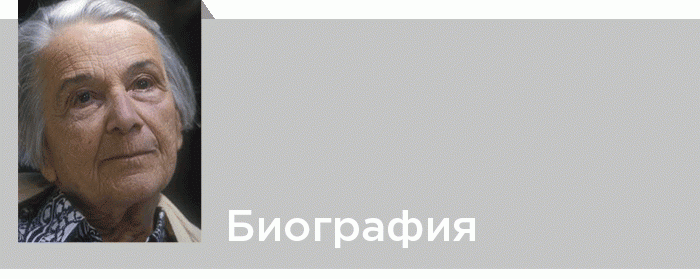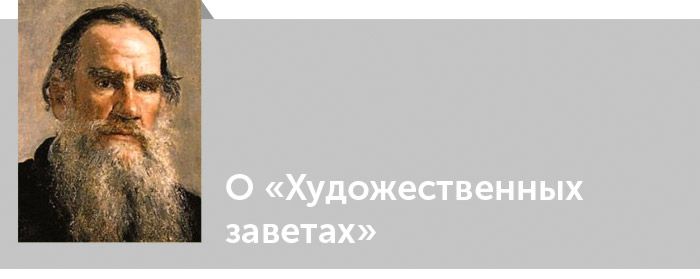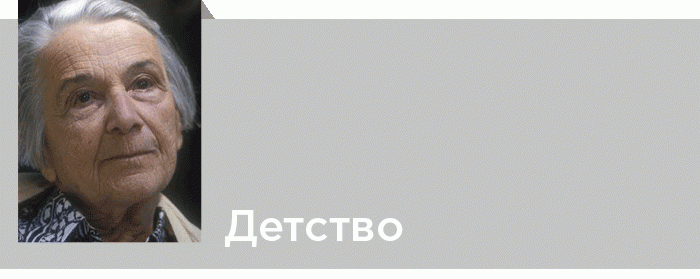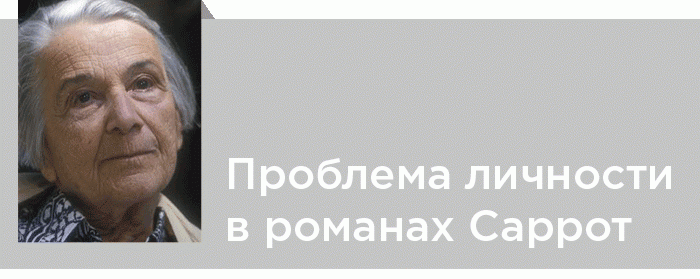Натали Саррот. Вы слышите их?
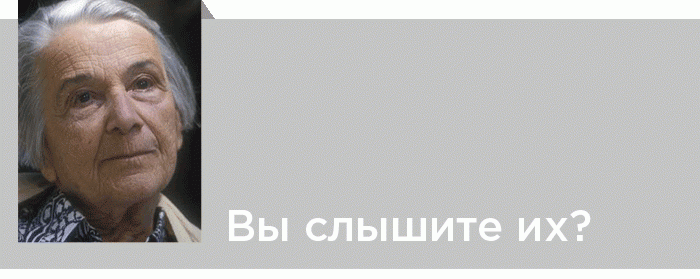
(Отрывок)
Внезапно он умолкает, подняв руку, вытянув указательный палец, прислушивается… Вы слышите их?.. Меланхолическое умиленье смягчает его черты… Им весело, а? Они не скучают… Что вы хотите, возраст… И мы ведь, бывало, хохотали, как безумные… до упаду…
— Да, правда… Он ощущает, как и его губы тоже растягиваются, добродушная улыбка морщит щеки, так что рот кажется беззубым… сущая правда, мы были такими же… Много ли нужно, чтоб их рассмешить, не так ли?.. Да, им весело…
Оба прислушиваются, глядя вверх… Да, юный смех. Свежий. Беззаботный. Серебряный. Бубенчики. Капельки. Брызги. Легкие переливы. Щебет птенцов… Они вспархивают, отряхивают перышки… Стоило им остаться одним, они о нас забыли.
Да, светлый, прозрачный смех… Так по-детски, прелестно звучит смех сквозь двери гостиных, куда, отужинав, удалились дамы… Просторные светлые чехлы из набивного ситца. Душистый горошек в старинных вазах. В каминах алеют угли, пылают поленья… Звенит их невинный, задорный, чуть лукавый смех… Ямочки, розовые щечки, белокурые локончики, округлости, длинные муслиновые платья, белые кружева, английское шитье, муаровые пояса, цветы, приколотые к прическе, к блузке… Рассыпаются чистые звуки их хрустального смеха… Им весело… Вы слышите их?
Джентльмены, сидящие вокруг стола, выколачивают свои старые обкуренные трубки, посасывают бренди… Без мятежное детство, поколение за поколением, отложило здесь толщи покоя, наивной доверчивости. Они негромко, неспешно беседуют, на минуту умолкая, чтобы прислушаться…
Да, им весело, такой уж возраст, один бог знает, что может их рассмешить… пустяк, сущий пустяк, они сами не могли бы сказать, что именно, для этого нужно так мало, любая глупость, какое-нибудь словечко, и вот они уже покатываются, не в силах остановиться, не зная удержу.
А ведь они устали… умаялись… позади долгий день, деревенский воздух, физическая нагрузка… Они подносят руку к голове, похлопывают ладонью по рту, подавляя неуместный зевок, встают по знаку, которым обменялись между собой… По едва приметному знаку… Нет, никакого знака… Да, был, ну и что? Уже подошло время, — не правда ли? — когда пристало и попрощаться… они подымаются к себе… Старый друг, по-соседски заглянувший поболтать после ужина, провожает их благодушным взглядом.
Теперь они одни, сидят друг против друга. Бутылки и бокалы на низком столике раздвинуты в стороны, чтобы дать место тяжелой зверюге из ноздреватого камня, которую друг осторожно перенес сюда с камина и поставил между ними. Его взгляд, его рука уважительно, нежно гладит ее бока, спину, тупую морду…
То, что от нее исходит, то, что источается, излучается, течет, проникает в них, впитывается ими, то, что их полнит, распирает, подымает… создает вокруг них некую пустоту, в которой они парят, которой отдаются… Этого не описать словами… Но им и ни к чему слова, они не хотят их, они знают, что главное — не подпустить слово, не дать ему прикоснуться к этому, проследить, чтобы слова, тщательно отобранные, просеянные, слова приличные, скромные, держались на почтительном расстоянии: — Поистине, эта вещь у вас великолепна… Да, бывают такие случайные удачи, случайное везенье… Помнится, я был однажды по делам в Камбодже, и вот, в лавчонке старьевщика… сперва я подумал… а потом, представьте, приглядевшись поближе…
Теперь смех утих. Улеглись все-таки. Нельзя же болтать всю ночь… о чем? Мыслима ли подобная чепуха, подобная чушь?.. Но теперь все, они разошлись, заперлись каждый в своей спальне, наконец-то умолкли… больше ничего не слышно… и сам воздух словно разрядился, возникло ощущение раскрепощенности, свободы, легкости… теперь оп, в свою очередь, протягивает руку и кладет ее на шероховатый камень… в ней, и правда, есть какая-то… весомость… Я рад, что и вы тоже… Есть люди, которые находят…
Ну вот, опять… потихоньку… легкими ударами… прерывистыми толчками… это пробивается сквозь закрытую дверь, это просачивается… Однако другой, сидящий напротив, продолжает спокойно говорить… Быть может, он уже не слышит? Или, быть может, для его слуха это нечто вроде жужжания мух, стрекота кузнечиков… Замерло… Снова… И вправду скажешь, что кто-то осторожно буравит…
Но здесь они защищены. Какие мощные машины понадобились бы, чтобы пробуравить, расколоть толстые стены, за которыми они укрылись с этой вещью, поставив ее между собой… Забавная зверюга, не правда ли? Его рука ощупывает контуры, оглаживает тяжелые каменные бока… Интересно, что это… может, пума, но… нет, она ни на что не похожа… Взгляните на эти лапы и на эти огромные уши в форме раковины… скорее всего какое-то мифическое животное… предмет культа…. никто так и не смог мне сказать…
Серебряный смех. Хрустальный смех. Не чересчур ли? Не слишком ли театрально? Нет, пожалуй… И все-таки, можно вроде бы различить… Да нет, вот негромкий взрыв, из тех, что неудержимы… О, замолчи, ты уморишь меня, я не могу больше, нас слышат… Взгляни только на него… ха-ха, нет, взгляни, вот потеха… Много ли им надо… Пустяк, меньше чем пустяк… глупость… ребячество…
Что может задеть и поколебать нас, таких крепких, так прочно и прямо стоящих на ногах… Нас, выросших среди душистого горошка, вазонов с геранью и бальзаминами, перкаля в цветочек и белого кретона, старых преданных служанок, кухарок с лицами, светящимися добротой, бабушек в кружевных чепцах, которые дают хлебнуть винца новорожденным цыпляткам…
Да нет, к чему душистый — горошек, цыплята, бабушки. Возьмите первого попавшегося человека, обыщите весь шар земной, даже среди самых беззащитных, самых одиноких, самых растревоженных, недоверчивых, дрожащих вам не найти никого, кто мог бы… кто мог бы или захотел?.. Мог или захотел?.. Не важно… кто мог бы или захотел истолковать этот смех… Но как бы он смог? Кто, не будучи подготовлен… кто, не будучи осведомлен, смог бы… когда старый друг со спокойной уверенностью приблизился к камину, протянул руку и погладил… кто смог бы уловить угрозу, опасность, набат, паническое бегство, призывы, мольбы… Нет, только не — это, не делайте этого, не касайтесь… только не сейчас, только не у них па глазах, только не в их присутствии, только пе перед ними… когда он двинулся… как мощный ледокол, рассекающий, раздвигающий, с треском ломающий огромные глыбы… все рухнуло… когда он осторожно поднял, перенес и поставил здесь, перед ними, молча глядевшими на него… и потом невозмутимо отошел на некоторое расстояние и стал любоваться, причмокивая губами… эта зверюга… поистине великолепна. Превосходная вещь. Где это вам посчастливилось?.. — Нет, нет, это не я. Она была еще у моего отца… Не знаю, где отец… Я, вы знаете, не коллекционер. Я сказал бы, даже напротив… Словно это могло их обмануть, словно это малодушное отречение, это ренегатство, которое они наблюдают, потешаясь, могло их смягчить, могло помешать тому, что сейчас произойдет неотвратимо, предсказуемо во всех своих мельчайших деталях, подобие свершению приговора, который с дотошной пунктуальностью приводят в исполнение палачи, глухие к раскаянию, к воплям осужденного.
С этой минуты все уже было предрешено, сжато в этом мгновении… Но что все? Ничего ведь не произошло. Они встали, вежливо попрощались, они были так утомлены…, а теперь, как водится, оставшись одни, оживились, почувствовали себя непринужденно и веселятся… Им так мало надо… достаточно пустяка… Какого пустяка? Да любой глупости, гримасы, ужимки… этот маленький паяц, настоящий маленький клоун неподражаем, когда корчит обезьяну, стоит ему засунуть язык под свою длиннющую верхнюю губу, сощурить глаза, сгорбиться, почесывая рукой под мышкой… Они всякий раз валятся от хохота… Им ведь все годится, не так ли? И чего тут попусту ломать голову? Они молоды, им весело…
И пусть раздражительный старикашка вдруг встанет, сопровождаемый удивленным взглядом друга, мирно посасывающего свой кофе, свою рюмку черносмородинной наливки, пусть он, вопреки всем правилам благопристойности, подымется по лестнице, постучит в дверь, яростно отворит ее, войдет… Ну с чего вы хохочете? Это, в конце концов, невыносимо… и они умолкнут, в испуге забьются по углам, нимфы, застигнутые врасплох сатиром, розовые поросята, беззаботно плясавшие, когда вдруг, рыча и скаля длинные зубы, ворвался злой серый волк, цыплята, спасающиеся на самых высоких жердях курятника, куда забралась коварная и жестокая лиса. Гадкий людоед, незваный гость, педель… Ну, что еще? В чем мы еще провинились? Разве мы не вправе были попрощаться? И все только из-за того, что мы не сразу разошлись, слишком усталые, чтобы тут же лечь в постель?. Как ‘«мог он слышать? Мы смеялись совсем тихо. Но он вечно привязывается, следит за каждым шагом, подавляет малейший порыв, мельчайшее проявление беззаботности, свободы, вечно приглядывается, дозирует, судит. Разве они не вели себя с должной почтительностью? Разве не подошли, как будто лицезреют ее впервые, к этой святыне? Я даже положил — вы же все видели? — благоговейно руку… Но ему все мало. Вероятно, после этого нужно было еще погрузиться в молитвенное безмолвие и отправиться спать, храпя в душе набожный трепет… Нет, не отправиться спать, как я мог об этом даже помыслить? Какая грубость! Какое святотатство! Следовало прирасти к месту, замереть, слушать до рассвета, не испытывая никакой усталости… Разве это не пробудило бы даже мертвого?
Ничего подобного, они ошибаются, они не правы, никакой он не педель, не надзиратель… Пусть они простят его, они, такие чистые, такие невинные, такие — он хотел бы верить, он верит — такие стыдливые — ему не хватает стыдливости, это верно — они не любят выставлять напоказ свои чувства, хотя питают, возможно, подлинное уважение к этим «ценностям»… пусть они простят это непотребное слово, оп научил их ему, он сам теперь краснеет за это… Он был бы счастлив остаться сейчас с ними, ему скучно там, внизу, вдали от них… Почему они его бросили?.. Разве я не мог бы принять участие? Вы понимаете, я как тот ирландец, вы ведь знаете анекдот? Увидев ссорящихся людей, он подходит и спрашивает: — Не могу ли я принять участие? Или это частная ссора?.. Ха-ха-ха, заливаются они… До чего смешно, нет, я не знал этого анекдота… — О чем вы тут разговаривали, пока я там… Боюсь, он никогда не уйдет.!. Вы заметили, как оп на меня посмотрел, когда я сказал, что отнюдь не коллекционер?
Ну разумеется, они заметили, слышали, оценили… вполне оценили… Они мгновенно улавливают его малейшее душевное движение, как бы ничтожно оно пи было, они ведь обучены, натренированы им, он ведь снабдил их самыми подробными картами, поистине, картами генерального штаба, в которые его заботами поминутно вносятся уточнения, они отлично ориентируются па этой территории, уверенно занимают ее теперь… тонкие струйки их смеха просачиваются во все уголки, пропитывают каждую складочку.
И вдруг иссякают…
Они немного выжидают… Хотят его успокоить, пусть себе думает, будто все уже кончено, будто наказание длилось достаточно долго, будто там, наверху, рассудили, что с него хватит… Они упиваются его облегчением, бедняга не подозревает, что ему не уйти от своего и недалека минута, когда, хочешь не хочешь, придется начать все сначала…
И однако, так легко, так просто их раздавить, даже но раздавить, а просто стереть начисто, одно движение, и от них следа не останется — ни кляксы, ни пятнышка… достаточно наклониться к простаку, который благодушествует по ту сторону стола, постукивая кончиком согнутого большого пальца по чашечке трубки, зажатой в его крупной пухлой руке, достаточно потянуться к нему, довериться, открыть душу, впитать слова, роняемые со спокойной уверенностью… не отдавая себе отчета в том, какое они производят впечатление… Да и как бы мог он, так хорошо защищенный, такой доверчивый, он, никогда даже не подозревавший о существовании тайных сговоров, бесов, наваждений, сглаза, колдовства… И до какой степени это неведение, эта наивность усиливают очистительную силу слов, произносимых им так отчетливо, с благородной и важной медлительностью: — О да, случается, подвезет… поистине, когда не ждешь. Помнится, был я тогда по делам в Камбодже… И вот, совершенно случайно, в довольно грязной лавчонке, из тех, где меньше всего рассчитываешь найти что-либо… среди хлама… базарного барахла, фабрикуемого на потребу иностранцам… дешевых будд, птичьих чучел… не знаю даже, что толкнуло меня войти… бывают дни, когда тобою движет своего рода предчувствие… Я приподнял уголок ковра, мне показался довольно занятным его рисунок… и там… я пе поверил своим глазам… маленькое чудо… да вы видели у меня эту вещь… — Маленькая танцовщица? — Да. Именно она. Торговец даже не подозревал… А я, разумеется, виду не подал… И, знаете, не из скупости… Он энергично кивает. — Да, я знаю. Конечно, дело не в этом. Тут совсем другое…
Да, он знает, он понимает… Важно быть единственным, единственным, кто знает толк, единственным, кто открыл. Чтобы сотворить, чтобы дать вторую жизнь. (^Вырвать у смерти, у разрушения, у опошления, прижать к своей груди и, сдерживая желание побежать, принести домой, запереться наедине с этим… с глазу на глаз… пусть никто нас не беспокоит… и, достав свои инструменты, свои чистошерстяные или льняные лоскуты, наждачную бумагу, замшу, кисти, щетки, растворители, масла, воски, лаки, скрести, протирать, ждать, молить, уповать, отчаиваться, добиваться, снова скрести, наващивать, будто от этого зависит собственная жизнь… прерывая в изнеможении и снова берясь за работу, забывая о еде, о сне… пока, наконец… — Ах, это даже прекраснее, чем я думал. Под слоем грубой краски ни щербинки, ни трещинки… нетронутое дерево… великолепный материал… чудо, да вы сами видели ее… Да, он ее видел… сияющую, царственную, окруженную почетом, восстановленную в своих правах… — Да, она восхитительна…
Но я, видите ли… Я… должен признаться, никогда не был коллекционером… Никогда, не так ли? Это им известно. Вы, там, знаете вы это? Никогда не был. Нет у меня, с вашего разрешения, коллекционерской жилки. Нет этой струнки… Наоборот… Они ухмыляются. Обратное коллекционеру?.. Эти оговорки… чего не скажешь, когда они вот так сидят и слушают… Но это правда, сущая правда, он — не коллекционер. Нет, это отнюдь не для него. И пусть они не валят его в ту же кучу, не суют на ту же полку. К нему это не относится. Пусть они не запирают его вместе с этими…
Они ведь помнят, они не могли забыть… Как им всем было смешно… как потешали их эти безобидные психи, рыскавшие по рядам с металлическим старьем, с марками, по блошиному рынку… со смеху умрешь, он хохотал вместе с ними… И не из деликатности, не из вежливости… слишком вежлив, чтобы быть честным… Нет, ничего подобного, нет, они не должны так думать, он смеялся от всего сердца, это было так комично, лопнуть можно, они рассказывали с таким юмором, так похоже изображали… того очкарика в казарме… как он метет двор… и вдруг останавливается… наклоняется, поправляет на носу очки, опускается на колени… Что такое? травинка… что там могло быть? какая-нибудь куриная слепота… и он осторожно, благоговейно срывал ее, приносил показать… дышал на нее, чтобы расправить крошечные лепестки… ждал наших восторгов… закладывал ее между листками папиросной бумаги, чтобы засушить, а вечером, в казарме, наклеивал в свой альбом…
Нет, только не туда, не к нему, не ко всем этим старым младенцам с восторженными лицами, наклоненными к земле, задранными к небу, не к тем, что рвут куриную слепоту, тянутся с сачком за бабочкой… Нет, не туда, где они… где те, кто ищет, роется, завладевает, тащит к себе, тщательно отбирает, классифицирует, предохраняет, бережет, бесконечно накапливает, ревниво хранит для себя, в своем распоряжении, чтобы наслаждаться в одиночестве, гордо выставлять напоказ… нет, он не из этих… наоборот…
Наоборот. В нем нет ничего от коллекционера… они это хорошо знают… Да, знают… Им это известно. Наизусть. Им эта музыка знакома… каждая нота… старая песенка. Уши вянут… Наоборот… если я знаю — это принадлежит мне, понимаете… должен сказать, вещь как бы блекнет, да, мое счастье… теряет полноту… замутняется та ясность духа, та отрешенность, в которой я нуждаюсь… ну, в общем, вы понимаете…
Конечно, они понимают. Как мог он подумать, что они не понимают? Или они недостаточно натасканы? Или мало он таскал их за собой, пренебрегая усталостью от долгих хождений по нескончаемым галереям, по анфиладам огромных залов, изнурительностью долгого стояния, унылого топтания под сонным взглядом сторожей, в давке поминутно прибывающих стад посетителей, теснящихся бок о бок с ними, подвергаясь мучительному вколачиванию объяснений, комментариев, от которых гудело в ушах и деревенело все тело… Но он, нечувствительный ко всему этому, ничего не замечал, словно погруженный в гипнотический сон, казалось, парил, отрешенный, относимый далеко от них, далеко от себя… в то время как они рядом с ним переминались с ноги на ногу, молча выжидая, пока он выйдет из транса… Да… вы понимаете, я должен признаться, что предпочитаю, со своей стороны… наоборот…
Друг внезапно откидывается назад, поднимает брови и встревоженно глядит на него… Ах так! Наоборот… Почему? — Право, не знаю… Я неточно выразился… он мямлит, краснеет… Естественно… я понимаю… но я хочу сказать… Они наблюдают, забавляясь, но не без чувства неловкости за него, за его неуклюжие попытки выбраться из этого осиного гнезда, из этой топи, куда он, как сам замечает, неосторожно сунулся… Я как раз хочу сказать, что я… в общем… Он увязает все глубже, тонет… Должен признаться, лично я предпочитаю…
Что? Что он предпочитает? Пусть скажет. Да и говорить не надо. Всякому известно. Он предпочитает уверенность. Надежность. Не прилагать усилий, не искать, не сомневаться, не выбирать, не рисковать. Он предпочитает, чтоб ему все дали, любезно предложили. Более всего ему по вкусу есть с ладони… из кормушки, которую другие щедро наполнили отборной, гарантированной пищей… Спокойно наедаться до отвала или деликатно поклевывать то оттуда, то отсюда, по своему вкусу, по своему минутному капризу.
Вот что оп предпочитает, это ясно. Мало того. Одураченного простака, сидящего напротив, надо предупредить. Знаете ли вы, с кем имеете дело? Понимаете ли, что перед вами обманщик? Да, этот лентяй, этот трус, этот паразит выдает себя за «знатока». Притязает на это. А с чего бы? Где доказательства? Да никаких. Этим-то он и берет. Он не нуждается в доказательствах. Он чувствует лучше всякого другого, и этого довольно. Ему, вообразите, повезло — у него внутри есть некий прибор, который тотчас начинает вибрировать, лакмусовая бумажка, которая непременно должна изменить свой цвет… Он, видите ли, не может ошибаться, так уж он создан… К чему доказательства?
Просто смешно, оп отказывается их предъявлять. Никаких доказательств — так надежнее. Вы видите, что даже это, эту скульптуру, он же вам сказал, нашел не он, нет, не он, он открещивается… Оп — не коллекционер… Наоборот.
Их смех, такой светлый, прозрачный… живая вода, родник, ручеек на цветущем лугу… их смех, который оп сейчас грязнит, замутняет, выливая на них… откуда только он взял все это? Очевидно, почерпнул в себе самом. A кому же еще? Только в себе. Он один. Он один несет все это в себе… Оп только и хочет, чтобы его от этого освободили. Пусть они его от этого избавят — те, что внимают с доброй улыбкой па просветленном лице, те, что мирно постукивают своей старой трубкой, прислушиваются, покачивают головой, ностальгически, растроганно вздыхая… Вы слышите их? Они не скучают, а? Такой уж возраст. Им весело.
Веселые. Юные. Беспечные. Достаточно пустяка, чтобы их рассмешить. Только вот это короткое тремоло… словно бы несколько нарочитое… искусственное… жесткие, ледяные звуки барабанят как градины… И откуда это у нее с недавних пор, этот смех бездарной актрисы? Все к пей липнет, все она подхватывает — жесты, ужимки, слова, интонации, акценты… непрестанно кого-то играет… встряхивая локонами, делая большие глаза, корча женщину-ребенка, юную невесту, обвенчанную против воли с гнусным старикашкой… который внезапно вторгается к ней, разъяренный, потрясая узловатым кулаком, мотая кисточкой своего ночного колпака… желчный старик, которого все выводит из себя, который не терпит игр, даже невинного смеха… ревнует — кто бы мог подумать? — к ее младшим братьям, сестрам… но она знает, как за него взяться, оп не смеет с ней спорить, если она вот так, прямо, глядит ему в глаза… Видите, он тотчас отводит взор, склоняется, идет к себе, пристыженный, удрученный, молча усаживается… Он приемлет урок, наказание, ему хорошо известно — заслуженное… Он покорно соглашается… Да, вы правы. Такой уж возраст. Да, это верно, мы были такими же. Им весело…
Поистине потрясающе, восхитительно, что достаточно это запустить, чтобы дальше все неотвратимо разворачивалось само собой с точностью тщательно отрегулированного часового механизма. Без малейшего сбоя. Достаточно первого толчка, пусть даже самого слабого… но тут не может быть ничего слишком слабого… чтобы пошли крутиться мельчайшие колесики, безукоризненно сцепленные одно с другим… Взгляд, внезапно брошенный простодушным добряком, сидящим против него… этот взгляд, вдруг внимательный, который упирается, впивается в доску камина, в самую ее середину, как раз туда… движение, которое делает друг, выпрямляясь, подаваясь вперед, готовый встать… В чем дело? С чего это он? Почему вдруг? Ведь это тут уже давно, и он никогда… Какая нелегкая его взяла? Какой бес попутал?.. Ну вот, он подымается… не вздумает же он… Нет, именно… бессознательно, точно лунатик по карнизу крыши, он делает несколько шагов вперед…
Сам он тотчас отводит глаза, оборачивается к ним, неподвижно, молча наблюдающим за тем, что происходит. Он, в свою очередь, встает, идет к ним, вытянув шею, моля взглядом… он произносит слова, которые, он надеется, покажут им, что он ищет подле них убежище, просит принять его, слова пароля, которые позволят ему перейти в их лагерь: — Ну, хорошо погуляли? Как рыбалка?.. Ниже, еще ниже, он наклоняется, опускает голову, поглаживает, почесывает спину их собаки, протягивает ей руку, чтобы она лизнула, куснула ладонь… Ах ты, жулик… Ах ты, плутишка… Но они неколебимы… бикфордов шнур уже подожжен, потихоньку тлеет… Ему удается, несмотря на владеющий им страх, кинуть искоса взгляд… И он видит безумца, который, стоя у камина, протягивает руки, подымает каменную зверюгу… несет ее к низкому столику… подает им властный знак, которому они готовно подчиняются, бросаясь, раздвигая перед нею бутылки и бокалы… благоговейно ставит ее и чуть отходит. Замирает. Любуется. Как ни в чем не бывало. Тут. У них на глазах… Этого ему не выдержать, он закрывает лицо, падает, сжимая руками их колени…
Но они, не глядя, отрывают его от себя, отталкивают… Право, следует помнить о приличиях… Неужто нельзя быть поучтивее к своему гостю, к другу?.. Невежливо так обрывать его… Послушай же, что он тебе говорит. Ты его слышишь? Он говорит тебе: Какая великолепная вещь.
Надо отвечать, когда с тобой разговаривают. Да… они правы… оп подчиняется… встает, подымает голову… Да… голос у него тусклый, ватный… Да, вы так думаете? и тотчас, вновь, это сильней его, наклоняется, тянется к теплому, трепетному, подпрыгивающему, к тому, что он любит, как и они, к тому, что, как и они, предпочитает, — к простой грубой жизни, которую можно схватить руками, стиснуть… Ах, милая собачка, иди сюда, моя хорошая… он поглаживает шелковое брюхо, сжимает в пальцах бархатистые обмякшие лапы, теплые, шершавые подушечки, словно высушенные на солнце…
Но безжалостно, несколькими тычками в спину, они призывают его к порядку… Хватит, ну что за манеры? Можно ли быть таким невежливым? Встань же, погляди… Даже мы, видишь, подходим, подаем тебе пример: Да. Она прекрасна. Да. Они качают головой, как положено, с проникновенным видом… они обращаются к нему: Разве она не прекрасна? Ты не согласен? Не находишь, что это и в самом деле великолепная вещь?.. Его взгляд послушно устремляется туда, куда направлены их взгляды, сливается с ними и, несомый тем же потоком, течет, падая на то, что стоит тут, посреди стола: на зверюгу, грубо вытесанную из ноздреватого, грязно-серого материала… Чересчур прямая линия спины… Непропорциональные лапы… Чересчур коротки?.. Чересчур широко расставлены?.. А ты… ты… моя красавица… он тянется, протягивает руки… О ты… ты, ты… понизив голос, стиснув зубы… Ну, иди, иди сюда… хочешь, чтобы тебя приласкали, да? ах ты, старая моя зверюга, милая моя собака… ты это любишь… псина ты этакая… ах ты лизун… ах ты кусака…
Вспомни о приличиях, черт возьми, о достоинстве, степенности. Что за сомнительные игры? На что это похоже? Нам, право, стыдно за тебя. Где ты находишься? Разве мы не в приличном обществе? Не среди культурных людей? Посмотри на нас… Они теснятся вокруг стола… Что это такое, как вы думаете? К какой эпохе это относится? Какого происхождения, как вы считаете? Они внимательно слушают, уважительно покачивают головой.
Раскаты их хохота все громче… они уже не могут его сдержать естественно, так всегда бывает, если люди устали или только что избежали опасности, в трагические минуты, в торжественных случаях, на официальных церемониях, на похоронах, на свадьбах, при передаче полномочий, коронации… есть люди, это хорошо известно, которыми вдруг овладевает вот такой безумный хохот. Они в эту минуту точно школьники, выпущенные во двор на перемене… Они были так усердны, так сосредоточенно слушали урок, что теперь, это не удивительно, им необходима разрядка, они как с цепи срываются… Ну и вид у него был, когда он встал в позу магистра, облаченного в тогу. Ты знаешь, он ведь преподавал… Что, бог мой? Не завидую его студентам… Да историю искусства, разумеется, ха, ха…
Однако какая наивность, какая глупость приписывать им подобные речи… Ничего похожего не было сказано… ни о чем похожем они между собой не говорят… Никогда… это значило бы полностью нарушить правила игры… Тогда почему?.. Взрывы хохота следуют один за другим, все чаще и чаще… Неудержимо… Почему? Да не почему… им достаточно пустяка, это известно, им так мало нужно… Зачем доискиваться? Никакого, даже самого отдаленного отношения к тому, что минуту назад произошло здесь. За кого их принимают? Они слишком вежливы, слишком хорошо воспитаны, чтобы позволить себе вот так, по горячим следам, едва оставшись одни, приняться обсуждать, критиковать… Они прошли слишком хорошую выучку. Их покоробило бы, позволь себе вдруг один из них такую несообразность, такое грубое упрощение…
Каждый из них прекрасно знает, незачем и сговариваться, что смех без причины, поистине из ничего… из-за ерунды, чуши, пустяка, о котором и говорить не стоит, которого потом даже и не вспомнить… как раз такой смех, то вдруг взрывающийся хохотом, то, затихающий… и снова овладевающий ими, надолго… это — сигналы, которые они подают ему и которых он не может не принять, нечто вроде информации, являющейся результатом тонких и сложных химических реакций, выработанных на протяжении долгой эволюции и обеспечивающих функционирование живого организма.
Склониться к другому, спокойно набивающему свою трубку, отодвинуть каменного зверя на конец стола, к бутылкам и бокалам, поднять палец и сказать; Вы слышите их? и прислушаться вместе… проверить. То Я не сошел 6 ума? Но мне кажется… Тот замирает, напрягает слух… В чем дело? — Вы не находите этот смех… слишком навязчивым… — Да, молодые люди, кажется, очень возбуждены… Вероятно, сказывается усталость, вы так не думаете? после длинного дня… — Возможно… Он кивает головой, ухмыляется… — Во всяком случае, они очаровательны. Похоже, очень дружны между собой. — Да, очень… Да-да, не правда ли? Очаровательны… Такие ласковые…
И в самом деле, это было трогательно, он ощутил волнение, когда они наклонились к нему, когда нежно похлопали по щекам, когда удалились, чтобы дать двум старым безумцам, двум милым маньякам обсуждать без конца… Детский смех… свежие голоса… шалости… втянутые коготки… легкие покусывания игривых котят, щенят, которые точат зубки на ветхих рукописях, на древних фолиантах… девочки-проказницы, вскарабкавшись на колени к старикам, теребят пальчиками седые пряди на шее, щекочут… А те покорно терпят… Задрав голову, покорно подставляют лицо под свежие капли ласкового дождя… Как они дурашливы в этом возрасте… Достаточно пустяка, чтоб их рассмешить. Им весело.
Нужно взять себя в руки, встряхнуться… Пора заняться серьезными вещами. Другой уже призывает его к порядку… Он протягивает свою широкую руку к зверюге, выталкивает ее на середину стола, вертит, разглядывает… Невозмутимый. Абсолютно спокойный и уверенный в себе, Очевидно, он ощущает себя в полной безопасности. Кто мог бы посягнуть на него, когда перед ним — это?.. Пузырьки смеха лопаются, стукаясь об это, смех отскакивает, отлетает рикошетом, возвращается к ним, наверх… бумеранг… палка, которая ударяет бросившего ее… Мирный голос обволакивает пас, неспешно роняемые слова воздвигают вокруг пас стены, стоят па страже… Чего бояться? Кто может этому угрожать?
Как кто? Разве вы не знаете, что, даже не двигаясь с места, просто обосновавшись, запершись там, наверху, они могут развернуть огромные силы, они обладают исполинской мощью… Одного невидимого луча, выпущенного ими, достаточно, чтобы обратить этот тяжелый камень в нечто полое, мягкое… достаточно одного взгляда. Даже не взгляда, достаточно молчания… Вы не заметили только что? Вы ничего не почувствовали, когда сказали: ей место в музее… Вы не почувствовали за этим молчанием какого-то омута?.. — Омута? — Да, когда вы сказали, ей место в музее… — Действительно, я так сказал. Совершенно верно: в музее. Готов повторить. — О, умоляю вас, скажите. Скажите еще раз. Повторите это… с той же непререкаемостью… Держите меня… Они меня тянут, отрывают от вас… Держите крепче… Мне не устоять… Вы слышите их? Они манят меня, околдовывают, они затягивают меня туда, к себе, к тому, что щебечет, скачет, крутится, валяется, подпрыгивает, покусывает, расшвыривает, портит, рушит, насмехается… к беспечности, безразличию, легкомыслию, ветрености, взбалмошности… Держите меня, не то я схвачу эту гадкую старую каменную зверюгу и ударю ее изо всех сил об стену… А вы, вы слышите этот шум наверху? Встаньте, пойдем посмотрим… Они открывают дверь, наклоняются через перила… Что там?.. Они спускаются… — Видите, что я с ней сделал? Идите сюда, садитесь… поближе, позабавимся вместе, поставим пластинку вашего любимого певца, включим радио, потанцуем…
Они втягивают меня… спасите меня, оградите, повторите еще раз: Ей место в музее. Да. Именно. В музее… скорее… взять ее, завернуть, унести, надежно спрятать. Под охраной. В безопасном месте. В витрине. За непробиваемым стеклом. Среди других вещей — защищенных столь же надежно. Поместите ее туда навеки. Пусть покроется патиной бесчисленных благоговейных взглядов. Пусть заботливый уход многих поколений хранителей обеспечит ей бессмертие. И пусть те, сверху, извлеченные из их логова, приведенные оробелыми группами пред очи бдительных стражей. Усмиренные. Кто посмел чихнуть? Пусть они в молчании, осторожно скользя по натертому паркету, останавливаются по знаку, по короткому приказу гида и почтительно выслушивают освященные пояснения. Какой тупица, какой бесчувственный скот, там, сзади, позволил себе отвлечься? Посмотрел в сторону? Улыбнулся? Выродки. Олухи. Ничтожества. Балбесы. Ничего до них не доходит. Хоть вы и взялись за них с детства, когда они казались еще мягкими как воск, восприимчивыми, водили их сюда, принуждали смотреть. Полагая, что вещи, которые у них перед глазами, излучают нечто, способное пронять самых тупых, самых твердолобых, самых непробиваемых. Принуждать бесполезно. Я вот до сих пор помню, как бывал ошеломлен, когда отец… хотя это случалось нечасто… но было таким счастьем… Я был ему так признателен… Ну, а теперь посмотрите на них, взгляните на этих привилегированных баловней, которые отворачиваются от сокровищ.
Но, быть может, сам того не желая, он слишком поторопил их? Если б он набрался терпенья, время сделало бы свое… Иногда ему удавалось заметить в их взглядах какое-то внимание, какой-то интерес… И он тотчас, подобно кошке, которая, принеся своим котятам крольчонка или птичку, садится в сторонке, смотрит, как они пожирают добычу, и довольно мурлычет, облизываясь… он, едва бросив взгляд, чтобы удостовериться, что благодетельные лучи, исходящие от каменных изваяний, от живописных полотен, действительно падают на них, что они для этого на должном расстоянии, на должном месте… Стань-ка вот здесь, где я, вот сюда, рядом… Спиной к свету, тебе будет виднее… тихонько подталкивая их, куда нужно, забывая о себе, ни на что не глядя… только на них, чтобы проследить, как пробивается в них… порой не в силах удержаться от того, чтобы не помочь слегка, не поторопить, хотя и зная, как это опасно… Ведь правда, красиво, да? Не правда ли, красиво?.. И они, словно улитки, словно ежи, тотчас свертываются, втягивая рожки, выставляя иголки, и вот перед ним уже только раковина, только колючий шар, к которому не подступишься… Он сам виноват, конечно, он допустил промашку, слишком поспешное, слишком резкое движение… они так чувствительны… такие недотроги… они не терпят подобных прикосновений… с ними нужно обращаться возможно осторожнее… Нежная плоть, липкая и мягкая, вся дрожащая, тотчас сжалась, они ушли в себя… до них не добраться… Теперь их не заставишь высунуться… они замкнулись, может, на несколько дней, на несколько месяцев, а то и навсегда…
Он ходит вокруг… заискивает… Не может быть, чтобы за его веселостью они не улавливали отчаяния, мольбы… Оп пробует осторожно приманить их… показывает им на расстоянии… ничуть не настаивая: забавно, правда… интересно… Взгляни. Но именно этого слова, этого глагола в повелительном наклонении как раз и не следовало произносить, оно просто подвернулось ему на язык, он ничего не навязывает, Здесь ведь каждый свободен, Он говорит сам с собой: Забавный тип, вон тот, с брыжами… Он был фаворитом… Ему чудится какое-то шевеление в ощетинившихся иглами шарах, в гладких закрытых раковинах… Что-то просачивается… какой-то след… Он был лучшим другом короля… Но потом… Решительно, из них что-то сочится, тонкая струйка слюнообразной субстанции… Но потом… Впрочем, ничего удивительного, у этого человека жестокий взгляд… И рот… В складке губ есть что — то коварное, сразу видно, что он негодяй, вы не находите? Они осторожно высовываются наружу, медленно подползают к отборной пище, которую он им протягивает, ощупывают ее, поглощают… И он удовлетворен. Он такого страха натерпелся, что ему не до былых притязаний, тут благодарно приемлешь наименьшее зло.
Замерев подле него, прилипнув к тому, что он им показывает, они это впитывают, раздуваются, а он их убаюкивает, кутает, холит и лелеет, смотрит на них, разомлевших, блаженно улыбающихся… прислушивающихся к лязгу шпаг на узких темных улочках, в сводчатых залах замков, в дверных амбразурах дворцов, видящих, как разлетаются шелковые плащи, как сверкают глаза под бархатными шапочками, в прорези черных полумасок, как хлещет кровь из прорванных камзолов… Тихонько, слегка пощекотывая, он осмеливается разбудить их, заставляет открыть глаза… Эта картина написана в ту пору, когда он еще был первым фаворитом. Она написана в подарок королю…
Они оборачиваются к нему… Они ведь его простили, правда? Они ему доверяют?.. Он может, не боясь, что они сожмутся… они ему позволят… он заслужил это вознаграждение… эти жалкие чаевые… они мимоходом оставят ему эту мелочь… как говорится, не глядя… это настолько несущественно, ни к чему не обязывает, простая вежливость… Прежде чем отвернуться, они позволят ему заметить, словно бы про себя: а эта штука все-таки недурно написана. Все-таки чертовски красива… Пустая формальность, преклонить на миг колени, окунуть на ходу пальцы в святую воду, бегло перекреститься… по привычке, по традиции. Даже неверующие это делают, если приучены с детства… Он настороженно ждет от них малейшего знака согласия… Разве этого не требуют в подобном случае просто правила приличия?
Но они, точно глухие, отворачиваются, они несутся вскачь, возбужденные, как с цепи сорвались, толкаются, обмениваются затрещинами, пинают друг друга локтями, хохочут… Посмотри только вон на ту, посмотри, прошу тебя, ну и рожа…
Вот к чему, он ведь знал это заранее, должны были неминуемо привести его наивные ухищрения, его трусливые поблажки… Они волокут его по залам, время от времени он тяжело опускается на банкетку, уставясь на то, что случайно оказалось перед ним, и ничего не видя… Все вокруг меркнет, отступает, замыкается, твердеет…
Ничто уже не трепещет, не излучается, не исходит, не льется, не растекается… Тут ничего помине нет… Ничего стоящего… Ноздреватый камень, грязно-серый, грубо отесанный… приземистая, кургузая, довольно бесформенная зверюга… Нет, не нахожу в ней ^ничего особенного, не знаю, что это такое, я тут ни при чем, она была еще у моего отца, в подвале… Но взгляните же на нее, поглядите, какая красавица, какая хитрюга… Ах ты плутишка, поди сюда, зверюга ты этакая, добрая старая собака… Ах, ты кусаться, тебе хочется поиграть…
Они пристально наблюдают, как он пожимает плечами, пристыженно отводит глаза, краснеет, говорит с наигранным оживлением, поглаживая дрожащей рукой… все его неуклюжие, жалкие усилия отмежеваться, отделить себя от того, который, ничего не понимая, спокойно встает, идет к камину, протягивает руки…
Как хотелось бы — не правда ли? — предупредить его, предостеречь. Как нужно было бы, но разве посмеешь, дать понять этому благородному другу, ничего не подозревая забежавшему в гости, куда он попал, в какой вертеп, в какую мышеловку… мы пропали, окружены… нас подслушивают вражеские уши, за нами шпионят вражеские глаза… берегитесь, все, что мы делаем, все, что мы сейчас говорим, может быть обращено против нас, может повлечь за собой тяжкие санкции… вот он подходит, берет в свои руки… ничего не понимая, за тысячу миль, за сто тысяч миль от всяких подозрений…
Да и в самом деле, с чего бы ему что-то заподозрить? С чего бы ему опасаться, этому балованному ребенку, товарищу по давним беззаботным играм, этому иноземцу, пришельцу оттуда, где царит иной порядок, другие законы… Где считают умственно отсталыми, где избегают как париев, где объявляют вне закона тех, кто имеет наглость встать перед предметом культа, святыней, почитаемой всеми, и вызывающе прыснуть, руки в боки, откинувшись назад: Ох, не могу, полюбуйся только на эту «красоту»! Ну и рожа…
Как ему это понять, вообразить? Пусть бы ему даже объяснили, до него все равно ничего б пе дошло, он не поверил бы, ведь он вырос, всегда жил, не на минуту его пе покидая, в том спокойном, гармоничном мире, где каждый может совершенно свободно, будучи уверен во всеобщем одобрении, встать и подойти с протянутыми руками, с широко раскрытыми, горящими глазами, приблизиться вплотную, отступить на шаг, чтобы лучше рассмотреть… Что это, скажите, за скульптура? Какая интересная… долго созерцать ее и, непринужденно обернувшись к присутствующим, гордо заявить вслух: Прекрасная вещь, вы не находите?
Ничего не поделаешь, приходится все это вынести… Нет никакой возможности сказать ему, чтоб он держался начеку. Это значило бы выдать наши тайны, наши молчаливые соглашения, преступить несформулированные запреты, которые известны только нам одним и существования которых никто из посторонних не должен даже заподозрить. Все, кто сюда приходит, должны быть убеждены, что и у нас никому не возбраняется… Ну, не пытайся выкрутиться, к чему? делай что положено. Подойди ближе, как мы… у тебя нет иного выбора…
Но я не хочу… Я ничего не вижу… Ей-богу, я ничего не чувствую, в этом ничего нет… Не толкайте меня, это провокация, я это делаю через силу, вы сами знаете, под вашим нажимом, мой голос, вы сами слышите, глух, совсем слаб, губы мои с трудом приоткрываются, чтобы повторить вслед за вами, коль скоро вы на этом настаиваете: Да, красиво… И, видите, я тотчас отворачиваюсь, иду к вам, мои пальцы стискивают ваши плечи, гладят ваши волосы… Ну а вы, расскажите лучше, что вы сегодня делали? Как рыбалка? Хороший улов? — Нет, ничего особенного… Они слегка потягиваются, подавляют зевки… День был длинный, мы поднялись чуть свет… Наверно, нам пора… Они встают… и в нем что-то обрывается, падает…
Пока они идут вверх по лестнице, уже пересмеиваясь, затем безжалостно закрывают дверь, его голос, словно бы отделенный от него самого, идущего за ними следом, не расстающегося с ними, его выпотрошенный, обмякший, как снятое платье, голос никнет… Оп точно актер, который продолжает играть перед залом, покинутым публикой, точно лектор, который пытается как ни в чем не бывало говорить перед пустыми рядами стульев.
То, что до последней минуты еще держалось где-то в потайном закоулке, было грубо выдрано… то, что воспрянуло, затрепетало в нем, когда они приблизились, подталкивая его перед собой, чтобы он полюбовался вместе с ними… А если произошло чудо… Если их в самом деле привлекло… притянуло сквозняком… током ветра, ворвавшегося извне через брешь, пробитую посторонним, когда тот поднялся, движимый властным порывом… если, предупредительно подчиняясь его повелительному кивку, спеша поскорее расчистить место, отставить в сторону бутылки и бокалы, они увидели в нем того, кем он был: уважаемого представителя великой мировой державы, опирающейся на поддержку тысяч, миллионов людей… лучших людей… Это они — соль земли. Они — сильные. Они — непобедимы. Неуязвимы. Им нет дела до… Они пренебрегают тупым хихиканьем неотесанных скотов, лентяев, пропускают его мимо ушей…
Тупицы? В самом деле? Вы так считаете?.. Вы полагаете, господин директор, что нет никакой надежды?.. Затянувшееся молчание, которое кажется бесконечным… Разумеется, в таких случаях не следует торопиться с ответом. Слишком это серьезно — замкнуть в жесткие категории, наклеить ярлык на то, что еще подвижно, не устоялось, изменчиво… Конечно, надежда всегда остается… Но… Прокашливаясь, смущенно, раздраженно барабаня кончиком завинченного вечного пера по тетрадям, по классным журналам, разложенным на его письменном столе, наклоняясь, чтобы лучше разглядеть отметки… — Да, приходится признать… Есть во всем этом какое-то отсутствие любознательности… какая-то атрофия… В пустоте, разверзшейся в нем, эти слова отдаются эхом… резонируют… Атрофия… Да, отсутствие пластичности, гибкости… Точно мышца не работает. Сколько ни бьешься… Тут все преподаватели единодушны. Некоторые объясняли это своего рода извращенными склонностями, волей к разрушению, к саморазрушению… Нечто вроде яростного противодействия любой ценой… — Ах так? Противодействия? Противодействия? любой ценой…
Наконец-то оп его видит, этот слабый свет в конце темной галереи, огонек… к нему, скорее… Да, именно так: противодействие. Такое бывает, не правда ли? Но тогда это — моя вина… Ваша? Вы меня удивляете… — Да, моя… задыхающимся голосом… моя. Я допустил оплошность. Эта потребность поделиться. Дать. Напитать. Не учитывая, что для существа столь юного это несъедобно, отвратительно… Я сам виноват. Мой грех, великий грех. Пенять остается только на себя. Это непростительно. Я сам бесчувственная скотина…
Собеседник глядит на него снисходительно, с жалостью… Как это все ему знакомо: сперва огорчение, униженное смирение, негодование… Поступите, как найдете нужным, накажите, исключите этого лодыря, этого маленького негодяя, он не заслуживает того, что для него сделано… это будет ему уроком… пусть поработает своими руками… Но посмей только тронуть, тут же бросаются прикрыть своим телом дорогое дитя, защищают его от общего врага… Трогательно… — Мне кажется, вы преувеличиваете. Вы зря себя корите. Есть дети, и я знаю таких немало, которые были бы только рады… которые жадно набросились бы на все, что вы расточали с такой щедростью… Хорошие, живые ребята прежде всего любопытны, они тянутся к знанию… То, что им даешь, подстегивает их… Вам ведь это знакомо… дает им толчок… — Да, ясно, да, благодарю вас, да, понимаю…
Произведения
Критика