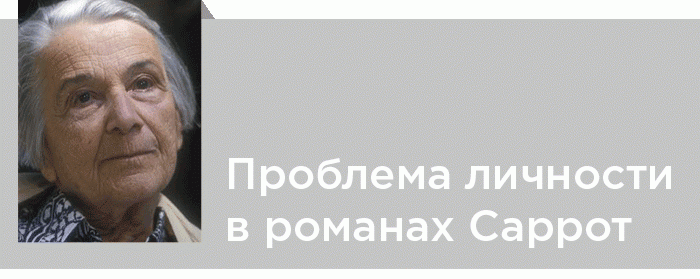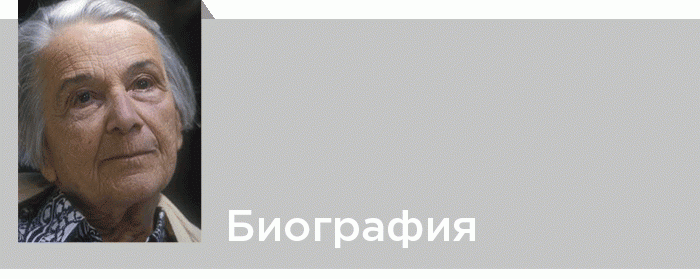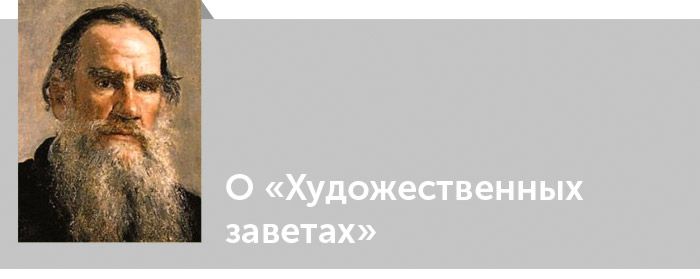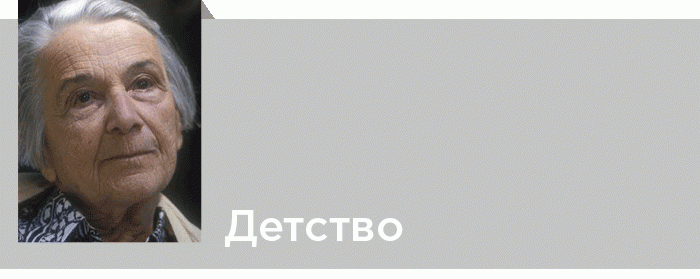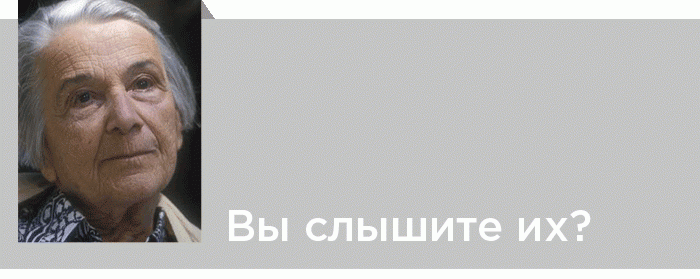Натали Саррот. Театр
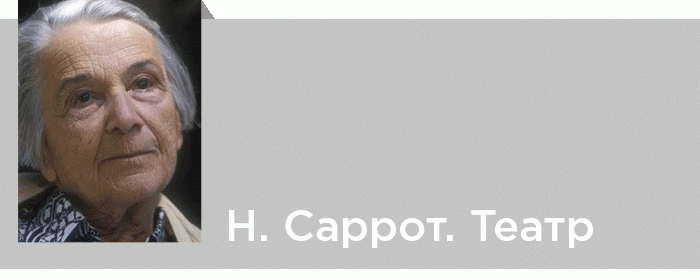
Л. Зонина
Натали Саррот обратилась к драматургии, уже будучи зрелой романисткой. Пять одноактных пьес — «Молчание» (1967), «Ложь» (1967), «Изьм, или Что называется пустяк» (1973), «Это прекрасно» (1975), «Она тут» (1978), — собранных в книге «Театр», по своей проблематике перекликаются с художественной прозой писательницы, а подчас, как две последние, даже представляются своего рода парафразами, ответвлениями написанных примерно в те же годы романов «Вы их слышите?» и «Говорят дураки...». Театр по своей природе этот второй, чрезвычайно важный для романов «скрытый» пласт душевной жизни исключает — здесь все должно быть высказано, должно прозвучать. Драматург не пытается «обойти» эту трудность введением авторского комментария или голоса «за сценой» (хотя иногда действующим лицам приходится говорить за «других», как бы передавая воображаемую оценку своего поведения окружающими).
Драматическая коллизия здесь возникает, нарастает, достигает апогея и разрешается в разговорах персонажей. В пьесах, лишенных действия, почти не прибегающих даже к жесту (благодаря этому все пять пьес были не только сыграны на сцене, но и переданы по радио), схватка мыслей и переживаний разыгрывается исключительно в слове, которое, сохраняя свою обыденность, в то же время достигает предельной напряженности, даже агрессивности. Отсюда неизбежна некоторая аффектация драматизма психологических ситуаций, возникающих на сцене, хотя и рождаются они как бы «из ничего». Персонажи пьес Натали Саррот, как и персонажи ее романов, не столько живые люди, сколько, если можно так выразиться, «психизмы» — элементарные единицы психических состояний, вступающие между собой в бурные химические реакции. Бури — в колбе, бури в стакане воды, но поистине бури.
Как правило, действующие лица лишены не только характеров, но даже имен — это Он и Она, это алгебраически обозначенные мужчины — М1, М2 и т. д. — и женщины — Ж1, Ж2 и т. д., составляющие сложную подвижную формулу «микрообщества», социальную молекулу. Атомы этой молекулы сцеплены чисто престижными отношениями и пребывают в постоянном страхе: каждый боится уронить себя в глазах другого, показаться неполноценным, «не таким, как все». Попадая в сферу излучения «другого», персонажи Натали Саррот начинают буквально корчиться в муках, их основное состояние — смятение, вызываемое непереносимостью чужого взгляда, во власти которого они себя ощущают. Под этой пыткой некоторые сникают, другие ищут выход в агрессивности, ощериваются.
Для того чтобы эта исходная неуверенность в себе, эта вечная опаска превратилась в откровенную панику, достаточно мелочи, «что называется, пустяка» — даже «минусовой» реакции. Так, например, в пьесе «Молчание» М1 позволил себе расчувствоваться, рассказывая о посещении городка, где его пленили напомнившие о детстве домики с резными наличниками на окнах, тенистые сады, благоухающие жасмином и акацией. Он тут же спохватывается — не сентиментальность ли это, не уронил ли он себя в глазах слушателей, чересчур «обнажив» перед ними свою душу и нарушив тем самым принятый «код» светской беседы. М1 спешит спрятаться, как улитка в раковину, и, опережая возможную иронию присутствующих, сам иронизирует, сам себя разоблачает. В ответ на просьбу продолжить рассказ он отмахивается: «О нет, право... вы вгоняете меня в краску... Поговорим о чем-нибудь другом, прошу вас... Это было нелепо... Не знаю, кой черт меня дернул... Я просто нелеп, когда даю себе увлечься... Вся эта лирика... идиотизм, ребячество...» Все вежливо пытаются его успокоить, но один — Жан-Пьер — молчит, кажется, он даже хихикнул. М1 в ужасе. Почему Жан-Пьер молчит? Не отвечает на вопросы? От робости? Нет, это было бы слишком просто. Такое объяснение никого, и в первую очередь самого М1, не устраивает. В воздухе повисает ощущение опасности, угрозы, надвигающейся катастрофы. Все умоляют Жан-Пьера сказать хоть что-нибудь. Тот молчит. «Сжальтесь, — пресмыкается М1, — простите. Ваше молчание... От него голова идет кругом... Меня понесло... демон...» Он готов покаяться — да, он совершил нечто чудовищное, святотатство, но он уже достаточно за это наказан. Он понимает, что осквернил нечто неприкосновенное, что Жан-Пьер, «такой чистый, чистый как ангел», не может не чувствовать к нему брезгливого отвращения. Задыхаются и М2 и Ж1, Ж2, ЖЗ, Ж4... Тягостная атмосфера всеобщей неловкости разрешается только тогда, когда М1, почти отчаявшись, берет себя в руки и наперекор палаческому молчанию Жан-Пьера возвращается к своему рассказу, но на этот раз не на лирический, а на «объективно-научный» лад, упоминая, что красотам и искусству этого края «посвящена книга, прекрасно документированная, с великолепными репродукциями...». Ну что ж, так можно, так принято; злые чары рассеиваются, загадочный Жан-Пьер осведомляется об авторе труда и издательстве, в котором вышла книга.
Сквозная тема «Театра» Натали Саррот — нетерпимость к инакомыслию. Для ненависти, для обструкции «необходимо и достаточно», чтобы человек чем-то отличался, не укладывался в прокрустово ложе «общих мест», этого «приданого, припасенного у нас с детства». В «Изьме» Ж2 разглагольствует: «Оттопыренные уши... НЕКОТОРЫЕ оттопыренные уши... я настаиваю — НЕКОТОРЫЕ, ибо есть уши и уши... некоторые уши... их форма, полагаю, также играет роль, их цвет и, как я уже вам сказала, их угол отклонения... этого достаточно... я держу их носителей на почтительном расстоянии. Даже не на расстоянии, я их просто НЕ ВИЖУ. Как если бы они вовсе не существовали». Ей возбужденно вторит Она, объясняя свою неприязнь к неким Дюбюи тем, что те произносят «РомантИЗЬМ. КапиталИЗЬМ. СиндикалИЗЬМ. СтруктуралИЗЬМ... это ИЗЬМ... ИЗЬМ... точно чумной прыщ». «Точно крохотное отклонение от норм приличия, изобличающее невоспитанность...» — поддерживает Ж1. «Да, да, — присоединяется ЖЗ, — позволяющее безошибочно классифицировать». «Вот, вот, — подводит итог М1, — вы совершенно правы. Классифицировать. Отделить. В особую категорию. В клетку. А мы — снаружи. В темницу».
В пьесе «Она тут» М2 просто погибает от сознания, что его сотрудница Ж расходится с ним во мнении. Во мнении о чем? Неизвестно. Неважно. Чужая мысль, чужая идея — тут, она нависает дамокловым мечом. Ее необходимо истребить, уничтожить. Но как? Как убить мысль, затаившуюся в мозгу другого? «Я должен был принять меры, — бьется в истерике М2, — выгнать ее наружу, заставить показаться при свете дня... чтобы ее было видно, эту прекрасную идею, посмевшую напасть... чтобы с нею можно было покончить...» Но идея — «незримая сила», «опасный зверь», «самоуправляющийся механизм» — недоступна, покончить с нею можно, только убив ее «носителя». Однако и это средство ненадежно, как показала история. «Все эти религиозные войны... инквизиция, костры, виселицы, удавки, расстрелы, душегубки и концентрационные лагеря» тоже не управились с мыслью, «она тут», от нее не избавишься. «Надо уничтожить не голову, а идею... — надрывается М2. — Не носителя, идею, которую он несет... саму идею... затравить ее... подавить...»
М3 — двойник М2 — утешает М2: он не одинок, его позиция не нова, у нее есть общепринятое название — «нетерпимость». Но М2 не успокаивается. Может, лучше оставить Ж в покое, пусть себе «ее мысль будет в ее голове, а моя — в моей. Каждый за себя, Господь — за всех. Ничего ни из кого не тянуть. Никуда не вторгаться». М3 готов и с этим согласиться, ведь позиция не нова, подобная точка зрения достаточно распространена: «Это называется «терпимость». М2, однако, не желает менять одно «общее место» на другое, один стереотип социального поведения на другой. «Вечно эти слова, — сетует он, — которые сдавливают, деформируют... стоило мне сказать, что пусть себе ее идея живет, жиреет, и вот уже готово — считается, что все вошло в норму. Это, оказывается, терпимость... Так нет же, не в этом дело. Я думаю о своей идее, только о ней... Не хочу, чтобы она маралась... не хочу, чтобы вступала в контакт, в мерзкую схватку... пусть нас оставят наедине, ее и меня. В полном одиночестве...»
М2 кажется, что он наконец нашел выход: именно гордое одиночество — залог торжества идеи — «в подземельях, в казематах, под пыткой, когда нацелены ружья, поднятые к плечу, когда дуло револьвера приставлено к затылку, когда петля на шее, когда опускается топор палача... в этот момент, именуемый высшим... с какой яростью она восстает, вырывается из своего разлетевшегося в куски вместилища, распространяется... она — истина... она сама... самим своим существованием повелевает... все вокруг склоняется... она озаряет...» Однако с каждым патетическим возгласом М2 света на сцене становится все меньше и меньше, пока она наконец не погружается во тьму. Что означает этот финал? Уж не то ли, что идея не может восторжествовать сама по себе, без «носителя», что она умирает без «мерзких контактов» с другими идеями? Что М2, отвергнув ярлыки «нетерпимости» и «терпимости», поддался очередной иллюзии, впал в очередное «общее место»?..
Театральные миниатюры Натали Саррот, как и ее последние романы, остросоциальны. Они разоблачают фальшь престижных отношений, бесплодные муки несчастного сознания, утратившего подлинные ценностные ориентиры, обреченного на метания в мире навязанных ему условностей, стереотипов поведения и мысли.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – 1979. – № 6.
Произведения
Критика