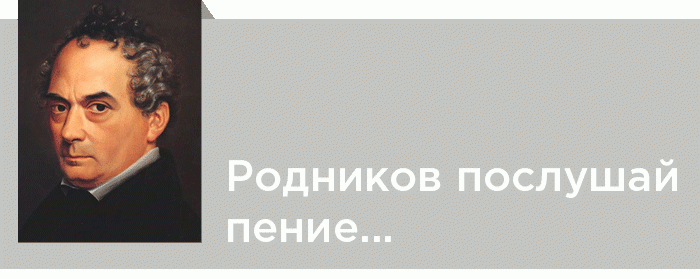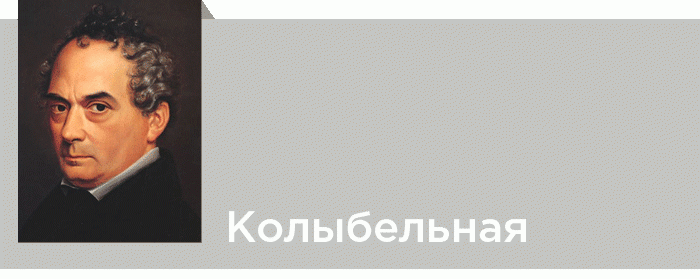Образ поэта и художника в стихах Адельберта Шамиссо

Н. И. Слободская
В годы своего зрелого творчества Адельберт Шамиссо не раз обращался к изображению людей искусства. Впрочем, трудно найти среди его современников поэта, которого не интересовала и не привлекала бы эта тема, и в романтической литературе давно уже успела сложиться прочная традиция изображения вдохновенного поэта или художника. Согласно этой традиции, человек искусства — существо чуждое и противостоящее прозаическому повседневному миру, низменным практическим интересам. Его талант — посланный небом своему любимцу дар, искра небесного огня, и художник должен его беречь и пестовать в себе, глубоко сознавая ценность этого дара и свою исключительность. Он неизмеримо выше непросвещенной толпы и по существу непонятен ей: «Er fragt nicht viel, wie ihn die Menge richte», говорит Эйхендорф.
Рисуя людей искусства, Шамиссо в целом шел в русле этой романтической традиции; однако трактовка им этой темы не оставалась однородной и претерпела с годами существенную эволюцию. Первые стихотворения, в которых ставится вопрос о назначении поэта и смысла искусства — «Войди!» и «Состязание певцов» — были написаны в 1827 г. Поэты рисовались в них как счастливые беззаботные питомцы муз, далекие от жизненной прозы, живущие в блаженном царстве светлых идеалов.
Стихотворение «Войди!» состоит из лирических монологов нескольких персонажей. Перед хором, образованным из веселых пирующих художников и друзей искусства, по очереди выступают трагический поэт, комический поэт, мим, переводчик, лирик, живописец, музыкант и читатель. Каждый из них рассказывает о своих заслугах, а затем хор приветственным четверостишием приглашает его к общему пиршеству.
Стихотворение построено своеобразно и изящно. Каждый из коротких монологов написан своим особым размером, выбор которого строго определен тем, какой из родов искусства представляет говорящий. Так, например, речь трагического поэта имитирует размер греческой трагедии. Монологи комика и мима написаны нерифмованным пятистопным ямбом, характерным метром стихотворной драмы нового времени. Для речи переводчика выбрана иноземная форма — терцины, лирик выражает свои чувства в напевных рифмованных четверостишиях, а речь музыканта представляет собою короткие нерифмованные строки с причудливо перебивающимся, но подчеркнуто певучим ритмом:
Empfangt mich gastlich,
Söhne der Musen,
Reicht mir die Schale,
Trinkt mir die funkelude zu.
Каждый из этих персонажей прославляет свое искусство, и все они предстают как вдохновенные свыше жрецы чистой красоты. Как бы по велению могучего духа, вызывает трагический поэт своих героев из царства теней и вдыхает в них жизнь; его самого потрясают их бурные страсти, их гибель, и он едва может перевести дыхание, глядя на них. Нежный лирик творит свои песни, убаюканный в объятиях любимой, и его лучшая награда — ее поцелуй и сияние ее глаз. Музыкант говорит о себе, что он взлетает на крыльях херувимов и проводит свою жизнь в мечтах и гармонических звуках. Наконец, последним выступает читатель, который рассказывает и о своих заслугах: он умел наслаждаться прекрасными произведениями искусства, его слух и сердце всегда были открыты для них, и поэтому он тоже чувствует себя не чужим в стране поэзии.
Итак, единственная задача художника — творить прекрасное, наслаждаться им и приносить наслаждение. Сам Шамиссо в том же 1827 г. создал такие сильные образцы политической лирики, как «Последняя молитва дона Рафаэля», «Последняя любовь лорда Байрона», «Инвалид в доме умалишенных». Но творческий опыт поэта не нашел никакого отражения в концепции искусства, выступающей в стихотворении «Войди!». Ни один из его героев не стремится воспевать свободу, искоренять общественное зло или же бичевать пороки, исправлять нравы; они не пророки, не учители человечества — они чистые душою счастливые поклонники прекрасного.
Небольшое стихотворение «Состязание певцов» тоже утверждает, что поэзия есть служение красоте, и лучшие дары, какими небо может наградить человека, — это способность создавать прекрасное и воспринимать его. Поэтому певцы принимают в свой круг как равного юношу, который сам не сложил ни одной песни, но чувствует, как его душа откликается на каждый чужой звук.
Пять лет спустя (1832) Шамиссо написал стихотворное введение к «Немецкому альманаху муз» на 1833 г. Его образы кажутся на первый взгляд близкими к образам служителей муз из стихотворений «Войди!» и «Состязание певцов». Немецкие поэты изображены здесь как мастера пения, собравшиеся в храме для исполнения своих возвышенных обрядов; себя Шамиссо называет их стражем и герольдом, стоящим на ступенях святыни. Как герольд, он призывает в храм всех: и прославленного певца, увенчанного лаврами, и юного ученика. Скромно именуя себя тоже всего лишь учеником, хотя и в седых кудрях, поэт, однако же, с гордостью говорит о том, что и ему знакомы минуты вдохновения, когда чувства, кипящие в душе, превращаются в песни.
Говоря о мире искусства, Шамиссо постоянно в изобилии употребляет характерные для эпохи обороты речи: собрание немецких поэтов названо «высоким хором», их творчество — «могучие песни», вдохновение — «священная искра», а выпуск альманаха представлен как праздник песен — словом, перед нами типичный набор романтических клише.
Следует также заметить, что везде, где у Шамиссо упоминаются «певцы», они выступают не в условно-античном, а в условно-средневековом облике: это не греки с лирами, а барды с арфами. Вообще, говоря об искусстве и красоте, Шамиссо никогда не обращается к образам античности, а в стихотворении «Кельнский мастер» решительно указывает на превосходство немецкого художника эпохи Возрождения над древними греками. Прекрасное он ищет чаще всего в национальной старине, не расходясь в этом с романтической традицией.
Но если внешняя манера изображать людей искусства остается у Шамиссо неизменной, то его понимание роли и задач художника изменяется весьма существенно. Певцы, выступающие в «Введении к Немецкому альманаху муз», — уже не беспечные счастливцы. Правда, они по-прежнему противопоставлены прозаическому миру, и если оказывается, что этот мир равнодушен к поэзии, что песни не находят себе слушателей, — поэты не должны унывать. Пусть они замкнутся в своем тесном кругу и ждут, когда их вновь воспламенит вдохновение:
Laßt friedsam uns und fromm im Liedergarten
Des uns vertrauten heilgen Funkens warten.
Однако источник этого вдохновения уже не надзвездные миры, а сама жизнь со всем, что она несет поэту. Несет же она не только радость, но и горе, и боль, и гнев. И Шамиссо говорит о себе:
Zum Liede ward mir jede süße Lust,
Zum Liede jeder Schmerz, mit dem ich rang;
Das Lied erhob aus zornerkrankter Brust
Sich sturmbeflügelt in der Zeiten Drang...
Это новое, глубоко серьезное восприятие жизни и искусства еще резче ощущается в созданном приблизительно тогда же сонете «Недовольство поэта».
«Мы носим стрелы в сердце», говорит Шамиссо, «и когда наши раны кровоточат в ночи, то боль рождает песню, и строка встает за строкой. А они от скуки читают в ленивые часы пищеварения, находят стихи милыми, находят их плохими, здесь им кажется слабо, там не хватает отточенности. Но такова наша природа: мы пишем кровью сердца то, что они критикуют в полудремоте. О работа пеликана! если бы только не для такого ничтожного потомства! но что делать — иначе мы не можем».
Наконец, следует остановиться на созданном в 1833 г. стихотворении «Отголосок». Это размышления стареющего поэта о своей жизни и своем искусстве и, вместе с тем, его завещание молодым товарищам по высокому ремеслу, раздумчивый монолог человека, который с тихой грустью, но без горечи подводит итог своей жизни. Спокойную серьезность стихотворения подчеркивает медленное и плавное течение пятистопного ямба:
Wie jetzt der Baum im kalten Nebelwind Mit nackten Zacken, also traur ich selbst;
Es reget sich kein Lied in meiner Brust Und müßig auf der Harfe ruht die Hand...
Снова Шамиссо рисует себя в привычном облике старого барда. Но песни иссякли в груди старика, и вот он вешает отслужившую арфу подле домашнего очага и украшает ее на прощанье зимней зеленью плюща. Вспоминая прошлые дни, он радуется тому, что ему было дано превращать свои чувства в песни; что он умел трогать души людей, вызывать «влажные перлы» на глаза женщин, что старого певца знает и любит молодое поколение, что он заслужил любовь своего народа; « а ведь я пел, как птица поет», повторяет Шамиссо знаменитые слова Гете.
А затем он обращается к молодым поэтам с наставлением, и его советы в высшей степени примечательны. Вновь противопоставляя вдохновенного певца и неозаренную светом искусства чернь, он говорит: «Чтите бога в себе; не предавайте священное светской суете; не продавайте лиру за презренные лавры и еще более презренное золото...» В образе идеального поэта, который создает Шамиссо, нет уже ничего от безмятежного питомца муз и граций, творчество предстает как подвиг, как служение высоким целям, и не случайно возникает в этом стихотворении параллель: поэт и пророк. «Эхо спит в расщелинах гор и спит во всех сердцах: кому божество дало силу, тот разбудит эхо. Это и есть награда певца. Вы хотите большего? Быть может, вы хотите награду пророков?»
Шамиссо утверждает, что поэт должен быть свободен и независим в своем творчестве, причем имеется в виду не та независимость от правил и авторитетов, которую воспел Уланд в своем «Свободном искусстве» («Heilig achten wir die Geister, Aber Namen sind uns Dunst; Würdig ehren wir die Meister, Aber frei ist uns die Kunst»). Независимость, о которой говорит Шамиссо, — это независимость политическая. «Немецкий поэт свободен как птица (frei wie der Vogel), а если он к тому же гоним, поставлен вне закона (vogelfrei), то его защитит бог, избравший и возлюбивший его. Ему награда — сами звуки, которые льются из его уст: ему ничего не нужно от земных владык».
Шамиссо советует молодым поэтам зарабатывать себе на хлеб любым честным путем — но не поэзией: лишь тогда их искусство сможет быть истинно свободным.
«Колите дрова и перевозите камни, если нужда заставит вас», говорит он, «но когда пробьет вечерний час и в просторах неба загорится свет звезд, — тогда, посвященные, отбросьте свои заботы, свободно поднимите голову и свободно оживите звуками священную ночь; пробудите у спящих мечты о том мире, в котором вы живете; царство поэзии — это царство правды, отоприте святыни, да будет свет!».
Поэт — певец с арфою в руке, поэзия — святыня, которой он служит: эти образы, оставаясь внешне неизменными, наполнились новым внутренним смыслом. В стихотворении «Войди!» Шамиссо провозглашал служение возвышенной Красоте и презрение к прозаическому; в «Отголоске» он говорит о служении высокой Правде и презрении к продажности.
В том же 1833 г. была создана и баллада «Старый певец», в которой развивается тема поэта-пророка. Глубоко личный характер этой вещи не подлежит сомнению. Так же, как Пушкин перед самим собою ставил великую задачу «глаголом жечь сердца людей», так же, как Лермонтов сам читал в очах своих современников «страницы злобы и порока», Шамиссо ощущал себя старым пророком, непоколебимо верящим в поступательное движение истории.
Его герой гневно возглашает на людных площадях: «Я — вопиющий в пустыне!» Он поет о будущем, учит народ не торопить события, набраться терпения, а монарха он призывает идти вперед, не сопротивляться идеям эпохи — ведь спорить с ветром и потоком гибельно для корабля. Революционные потрясения страшили Шамиссо, но он всем сердцем сочувствовал идеям прогресса и резко осуждал властителей, пытавшихся повернуть колесо истории вспять.
Стихотворение «Старый певец» перевел в 1857 г. А. Н. Майков, озаглавив его просто «Певец». Стихи Шамиссо не так уж часто переводились на русский язык, и перевод, выполненный видным поэтом, не может не вызвать интереса. Но, к сожалению, Майков исказил смысл баллады, решительно ослабив ее политические акценты. Когда певец у Шамиссо обращается к молодежи и увещевает ее не спешить, он явно говорит о больших социальных вопросах, о судьбах народа. Он просит не трясти раньше срока дерево времени: «Дайте созреть его плодам, пусть ветер встряхнет его ветви, и оно само принесет вам дары, которых вы буйно требуете». А отсюда понятно, почему раздраженные юноши восклицают: «Долго ли мы будем терпеть этого холопа?» В майковском же переводе речь идет о жизненных благах, к которым рвется нетерпеливая молодежь, а старик призывает ее к умеренности в чисто бытовом плане:
Полно, дети, в тщетном гневе
Древо жизни потрясать!
Лишь цветы еще на древе!
Дайте плод им завязать!
Не дозрев — он полн отравы,
А созреет — сам спадет,
И довольства вам и славы
В ваши дома принесет.
Особенно же смягчил и сгладил Майков обращение певца к монарху. В подлиннике старец грозит царю, что если он не поймет могучего движения времени, если попытается сопротивляться неизбежному ходу прогресса, — он погибнет:
«Правь по течению и по ветру! Чтобы стать сильным, используй мощь течения и ветра! А если пойдешь против них — перед тобою разверзнется могила. Смело правь в нужном направлении! Впереди скалы? — найди проход! Но попытка повернуть вспять означает гибель; волны пригонят лишь обломки твоего корабля».
Не раз звучала эта мысль в стихах Шамиссо. «Властители земли! смотрите и учитесь!», восклицал он в стихотворении «Memento», указывая на свергнутого и изгнанного народом Франции Карла X. Но совсем иной, лестный для монарха смысл приобрела эта строфа в переводе Майкова:
Гонит ветер, мчит теченье!
Смело парус расправляй!
Божьей мысли откровенье
В шуме бур» угадай!
Просияй перед народом
Этой мысли торжеством —
И пойдет спокойным ходом
Он за царственным вождем!
Изменился и образ самого певца. В переводе он трижды назван «старик худой и сирый». Эти эпитеты создают совершенно определенный облик слабого, дряхлого существа. Между тем в подлиннике он именуется только «странный старик», и когда он поет перед толпой на площади и перед владыкой в тронном зале, у него «резкий и гневный напев». И в тюрьме он полон уверенности в себе, он сознает свою правоту и видит неизбежность того, что скрыто для других.
«Странный старик в сумрачной темнице все еще пел, и его напев был спокоен и ясен: Я — вопиющий в пустыне! Я должен был кричать это буре, и я получил награду пророков (заметим, что снова здесь возникает выражение «награда пророков», которое мы встречали и в стихотворении «Отголосок». — Н. С.). Неостанавливающееся, всемогущее, неудержимое — приближается время».
В этих словах совершенно нет того оттенка смирения и покорности судьбе, которым окрашена заключительная строфа перевода Майкова:
И в тюрьме, с спокойной лирой,
Тих пред силою гнетущей,
Пел старик худой и сирый:
«Я — в пустыне вопиющий!
Долг свершен. Пророк молчит.
Честно снес он жизни бремя...
Созидающее время
Остальное довершит».
Наконец, переводчик не сохранил энергичный ритм и оригинальную рифмовку подлинника. Баллада Шамиссо состоит из восьмистишных строф, каждая из которых имеет собственное своеобразное расположение рифм: abacbddc, abdcdbac, adacdbdc и т. п., причем общность рисунка этих разнообразно построенных строф создают всегда непременно рифмующиеся между собою мужские окончания четвертой и восьмой строк:
Sang der sonderbare Greise
Immer noch im finstern Turme.
Ruhig, heiter seine Weise:
«Bin, der in die Wüste schreit.
Schreien mußt ich es dem Sturme;
Der Propheten Lohn erhalt ich!
Unablässig, allgewaltig,
Unaufhaltsam naht die Zeit.»
В переводе же, как можно видеть из приведенных ранее примеров, каждая строфа распалась на два самостоятельных четверостишия с перекрестными рифмами.
Стихотворение утратило и свою энергию, и свою политическую остроту.
Но, отмечая эту политическую остроту баллады «Старый певец», нельзя не видеть и того, что в ней ярко выступает романтическая тема одинокого непризнанного поэта. Глашатай истины рисуется Шамиссо в образе побитого каменьями и брошенного в темницу пророка.
Особую группу стихотворений о людях искусства составляют рассказы в терцинах «Распятие» (1830), «Знак художника» (1830), «Кельнский мастер» (1933), «Смерть Франческо Франча» (1834). При всем разнообразии их сюжетов они объединены общей темой, которую можно было бы определить следующим образом: этика Художника и его отношение к искусству.
Герой стихотворения «Распятие» — художник, совершивший во имя искусства преступление. Одаренный скульптор предательски заманил и распял на кресте своего ученика, прекрасного собою юношу, чтобы живо и правдоподобно изобразить умирающего Христа. Возможно, такой сюжет подсказала Шамиссо известная легенда о том, что «был убийцею создатель Ватикана». Скульптор изображен как человек, как бы одержимый своим искусством, — один из тем сумрачных, романтически сосредоточенных на своей страсти людей, которых любил рисовать Шамиссо. Когда он прибивает несчастного юношу к кресту и видит тело, содрогающееся от подлинной боли, он счастлив; молится ли распятый, отчаивается ли он, чувствуя невыносимые мучения, — скульптор неутомимо, безостановочно работает. Ему удается создать совершенное произведение искусства. Его распятый Христос потрясает всех зрителей. Но Шамиссо твердо уверен в том, что — говоря словами пушкинского Моцарта — «гений и злодейство — две вещи несовместные». Тяжкими муками раскаяния оплачивает скульптор свое преступление. Он становится паломником, в своих скитаниях попадает в плен к мусульманам, и его распинают на кресте как упорствующего христианина. Но эта страшная казнь не пугает его, напротив, она приносит облегчение его душевных страданий; он чувствует, что искупил свой грех, и умирает со словами: «Боже мой, боже мой, ты не покинул меня!»
Написанная в том же году стихотворная повесть «Знак художника» в причудливых сложных образах выражает неизменную мысль Шамиссо о том, что истинный художник не продает свое искусство ни за деньги, ни за почести. Молодому живописцу Вильгельму некий надворный советник сулит блеск и богатство, он предлагает юноше дать «заковать себя в золотые цепи». Но под личиной почтенного сановника таится сам дьявол. Истина вовремя открывается Вильгельму, он в ужасе бежит от искусителя и находит подлинное счастье в светлой, верной любви прекрасной Марии и бескорыстном служении искусству.
С особой симпатией Шамиссо нарисовал героев стихотворений «Кельнский мастер» и «Смерть Франческо Франча». Это художники эпохи Возрождения, столь любимой романтиками. Оба они воплощают идеал Шамиссо: это чистые сердцем люди, преданные всей душой своему искусству, чуждые всем низким страстям. Кельнский мастер — прославленный ювелир и чеканщик, чьи работы превосходили красотой и верностью природе творения греков, три года трудился над изумительным золотым блюдом, которое должно было обессмертить его. Но случилось самое трагическое, что может быть с художником, — его заветное создание погибло. Старый мастер потрясен, но он находит силы пережить утрату. «И это была суета! суета сует!», — говорит он. «Мое неразумное сердце слишком любило земной блеск». Он удаляется от света, в маленькой хижине среди гор он доживает свои дни, но с радостью помогает советами и наставлениями своим прежним ученикам и товарищам по благородному ремеслу.
Такой же чистой и возвышенной душой обладает и старый итальянский живописец Франческо Франча. Прославленный мастер впервые видит картину еще начинающего молодого римского художника Рафаэля. «Он стоит перед нею испуганный и восхищенный, исполнились все его мечты, он чувствует себя и уничтоженным, и счастливым». Франческо благодарит бога за то, что ему в конце его жизни дано было увидеть такое совершенство, и умирает со словами: «Ныне отпущаеши с миром раба твоего».
Так и из лирических стихотворений Шамиссо, и из его стихотворных повестей выступает цельный образ истинного художника. Это человек кристальной душевной чистоты и высоких помыслов. Он живет только для своего искусства и не знает корыстных, низменных, неблагородных побуждений. Он любит не свои успехи, а тех муз, которым он служит, ему чужды зависть и тщеславие. Это возвышенный идеал художника.
Но поэт или художник всегда одинок в этом мире. Лишь в узком кругу посвященных могут быть вполне оценены его создания. Он счастлив, пока он творит в тишине и уединении. Когда же он сталкивается с толпой, он обычно выступает как непонятый певец и непризнанный пророк. Вождем и наставником он не становится никогда.
Так высокое предназначение художника и его место среди людей трактуются Шамиссо в истинно романтическом духе.
Л-ра: Проблемы русской и зарубежной литературы. – Волгоград. 1971. – С. 184-194.
Произведения
Критика